1. Постановка проблемы
Марксизм–ленинизм — единая и целостная система взглядов, миросозерцание и миропознание пролетариата как класса. Вырастая из всей суммы накопленных человечеством знаний, но будучи организованным на совершенно новых началах, сделавшихся возможными лишь только в силу особенного социального положения нового класса, марксизм–ленинизм превосходит в научном отношении все прежние построения человеческого ума различных эпох и классов. Марксизм–ленинизм является одновременно и философской картиной природы и общества, и теорией познания, общим методом научного исследования, и в то же время системой руководящих принципов, лежащих в основе программы пролетариата, стратегии и тактики низвержения капитализма и построения пролетариатом нового, социалистического общества.
Являясь пролетарским миросозерцанием, марксизм–ленинизм не обнял еще целиком сознания всех пролетарских масс. Он представляет собой оружие авангарда пролетариата, выражающего его истинные интересы, пролетарских коммунистических партий и их международного объединения — III Коммунистического Интернационала.
Основание, мощное и глубокое развитие этого миросозерцания дано было Карлом Марксом и Фридрихом Энгельсом во второй половине XIX века. Оно было названо ими «научным социализмом» или «диалектическим материализмом». Великие основатели пролетарского миросозерцания исходили из глубокого изучения как теории, так и живой действительности прошлого и окружавшего их настоящего. Как писал Ленин,
«Маркс явился продолжателем и гениальным завершителем трех главных идейных течений XIX века, принадлежащих трем наиболее передовым странам человечества: классической немецкой философии, классической английской политической экономии и французского социализма в связи с французскими революционными учениями вообще».1
Пристальное изучение буржуазной политической экономии, высших форм утопического социализма, боевого материализма буржуазных философов XVIII столетия, идеалистической диалектики немецких мыслителей начала XIX столетия, особенно Гегеля, — соединялось у Маркса и Энгельса со всесторонним анализом всех форм современной им социальной действительности, обоснованием практики еще молодого движения пролетариата, учетом опыта буржуазных революций XVIII и XIX веков и первых попыток пролетарских переворотов в 1848 году и во время Коммуны.
В настоящее время, однако, не может быть уже и речи о каком бы то ни было подлинном марксизме вне ленинизма. Ленинизм явился продолжением дела Маркса и Энгельса на основании учета дальнейшего развития капитализма, вплоть до эпохи его загнивания — империализма, и дальнейшего развития пролетариата, вплоть до Великой Октябрьской революции 1917 года и опыта социалистического строительства последних лет. Нельзя быть ленинистом, не будучи марксистом, это само собой разумеется, ибо вся теория и практика Ленина и его партии зиждутся на марксизме. Но равным образом нельзя в настоящее время быть марксистом, не будучи ленинистом, ибо ленинизм есть естественная и необходимая стадия учения Маркса. По определению Сталина,
«ленинизм есть марксизм эпохи империализма и пролетарской революции. Точнее: ленинизм есть теория и тактика пролетарской революции вообще, теория и тактика диктатуры пролетариата в особенности. Маркс и Энгельс подвизались в период предреволюционный (мы имеем в виду пролетарскую революцию), когда не было еще развитого империализма, в период подготовки пролетариев к революции, в тот период, когда пролетарская революция не являлась еще прямой практической неизбежностью. Ленин же, ученик Маркса и Энгельса, подвизался в период развитого империализма, в период развертывающейся пролетарской революции, когда пролетарская революция уже победила в одной стране, разбила буржуазную демократию и открыла эру пролетарской демократии, эру Советов. Вот почему ленинизм является дальнейшим развитием марксизма».2
Марксизм без ленинизма невозможен. Меньшевистский марксизм всех типов, марксизм II Интернационала, есть псевдомарксизм. Это миросозерцание мертво и разлагается на наших глазах, превращаясь в более или менее ловко размалеванную декорацию, за которой производится развращение пролетариата и идет политиканская возня, направленная к тому, чтобы исказить самостоятельное развитие рабочего класса и подчинить его идейному влиянию эксплуататоров. Ленинизм «вырос и окреп в схватках с оппортунизмом II Интернационала, борьба с которым являлась и является необходимым предварительным условием успешной борьбы с капитализмом» (Сталин).3
Имелись попытки — их делала, например, группа А. М. Деборина — изобразить взаимоотношение марксизма и ленинизма в том смысле, будто бы марксизм представляет собой законченную теорию пролетариата, а ленинизм — обновленную и приспособленную к нашему времени практику его. Этот взгляд должен быть осужден самым решительным образом как меньшевиствующая, сознательно или бессознательно произведенная попытка снизить значение ленинизма и тем самым исказить и весь марксизм. Ленинизм является не только практикой, приспособленной для времени реальной пролетарской революции, но также и новой фазой развития теории, остающейся глубоко верной своим принципам и развернувшейся в связи с новым опытом.
Иногда, не отрицая первоклассного значения ленинизма в области политики, политической экономии, основных принципов истории и особенно революционной практики, пытаются доказать, что ленинизм не вносит ничего особенно ценного в область философии. Теоретики этого типа пытаются поставить рядом с Марксом и Энгельсом Г. В. Плеханова и пройти со словами любезной похвалы мимо философских работ В. И. Ленина. Этот совершенно неверный и глубоко вредный взгляд на вещи должен быть со всей резкостью отвергнут. Защищая материализм Маркса от всяких хитрых, скользких и извилистых систем так называемого позитивизма (Э. Мах, Р. Авенариус и пр.), Ленин в «Материализме и эмпириокритицизме» развернул богатейшую систему воззрений, являющуюся с точки зрения уяснения сущности как материалистической, так и диалектической стороны философии пролетариата ценнейшим вкладом в сокровищницу марксистской мысли. Без внимательнейшего изучения этой книги нельзя быть образованным марксистом. Ленин не закончил других философских произведений, но в его черновых тетрадях остались многочисленные конспекты сочинений Гегеля и заметки о целом ряде различных философских проблем, представляющие собой столь же драгоценные перлы пролетарской философской мысли, как, например, афоризмы Маркса о Фейербахе.4 Каждая строчка и каждое слово здесь должны быть внимательно изучаемы, чтобы заключающиеся в этом кратком, но богатейшем наследии детерминанты смогли быть полностью использованы в качестве руководящих вех в дальнейшей философской работе пролетариата.
«Литературная энциклопедия» обязана осветить ту часть наследия Ленина, которая относится непосредственно к литературоведению, или, вернее, осветить современное литературоведение при помощи этого наследия.
Само собой разумеется, что обоснованные Лениным общие философские принципы марксизма имеют основополагающее значение и для литературоведения как одной из ветвей пролетарской науки. Вместе с использованием для этой специальной цели философского наследия Ленина, необходимо внимательнейшим образом изучить под этим специальным углом зрения и общественно–научные принципы и данные ленинизма. Особое значение имеет при этом учение Ленина о культуре, о взаимоотношении культуры прошлого с пролетарской культурой и о культурных задачах пролетариата в нашей стране. Литература не может быть изучаема вне истории общества и истории самой литературы. В наследии Ленина имеются драгоценные указания, раскрывающие внутренний смысл экономической, политической и культурной истории нашей страны, без понимания которого нельзя ни познать прошлое литературы, ни исторически осмыслить ее настоящее и будущее. Изложение и комментирование всего огромного наследства Ленина под углом зрения использования его для литературоведения, разумеется, не может быть исчерпано статьей в «Энциклопедии»: это дело специальных исследований, вернее всего — коллективных. Здесь мы ограничиваемся сжатым очерком ленинизма по следующим разделам: 1. философское наследие Ленина; 2. его учение о культуре; 3. теория империализма; 4. учение об основных путях развития Запада и нашей страны; 5. отдельные работы Ленина, в той или иной степени посвященные истолкованию литературных явлений; 6. его отдельные, относящиеся к области литературы замечания и высказывания, не вошедшие в его сочинения, но сохранившиеся в воспоминаниях современников, и, наконец, 7. Ленин и проблемы современного марксистского литературоведения.
2. Философские воззрения Ленина
Характернейшая черта ленинского метода — единство теории и практики — особенно показательна на фоне деятельности социал–демократов из II Интернационала, теория которых — не более как фразеология, призванная замаскировать социальную бесплодность и предательство их практики.
«Единство теоретической идеи (познания) и практики — это NB — и это единство именно в теории познания…».5
Этот замечательный философский фрагмент Ленина свидетельствует о том, что самую теорию познания Владимир Ильич мыслил неотрывно от практики, входящей в эту теорию. Всякую теорию он неустанно поверял практикой, и не случайно в предисловии ко второму изданию брошюры «Удержат ли большевики государственную власть?» он с удовлетворением писал:
«Настоящая брошюра писана… в конце сентября и закончена 1–го октября 1917 года.
Революция 25–го октября перевела вопрос, поставленный в этой брошюре, из области теории в область практики.
Не словами, а делами надо отвечать теперь на этот вопрос… Задача теперь в том, чтобы практикой передового класса — пролетариата — доказать жизненность рабочего и крестьянского правительства…
За работу, все за работу, дело всемирной социалистической революции должно победить и победит»*.6
* Здесь и далее не оговоренный особо курсив принадлежит Ленину. — А. Л.
Здесь Ленин говорит о том, что ему некогда теперь рассуждать о революции, что революции интереснее делать, чем о них писать, но он и писал затем, чтобы делать. Изречение о том, что марксизм «не догма, а руководство к действию», было одним из любимейших изречений Ленина.7 Оно, конечно, никоим образом не относится к теоретической продукции II Интернационала, которая вся направлена к тому, чтобы реформистской болтовней лишить пролетариат возможности действовать. Но это изречение в высокой степени характерно для ленинизма, этого «марксизма эпохи империализма и пролетарских революций», когда в активную классовую борьбу против капитализма вовлечены десятки миллионов международного пролетариата, когда пролетариат победил уже на протяжении одной шестой земного шара и вступил в полосу решающих схваток с капиталистическим строем на остальных пяти шестых его.
В своем сочинении «Материализм и эмпириокритицизм. Критические заметки об одной реакционной философии» Ленин со всей мощью своего гения стал на защиту материализма. Он сам указывал на ту разницу задач, которая имеется между этим исследованием и философскими произведениями Маркса и Энгельса при полном единстве исходных точек зрения и всего миросозерцания в целом. Маркс и Энгельс в своих философских трудах и заметках часто должны были выступать против вульгарных метафизических материалистов и поэтому с особенной силой подчеркивали диалектический характер своего миросозерцания, то есть именно то, что отличало его от вульгарного материализма Бюхнера, Фохта и им подобных. Книга Ленина была написана в целях защиты материализма от разных форм половинчатого миросозерцания, маскировавшего свою субъективную идеалистическую сущность так называемым позитивизмом, различными формами эклектизма и путаницы, всевозможным кокетничанием с «наивным реализмом» и т. д. Ленин исчерпывающе доказал, что все формы позитивизма, эмпириокритицизма, махизма и т. д. представляют собой бесспорный идеализм, что они ничего общего с диалектическим материализмом не имеют и не могут иметь. Доказывать это было необходимо потому, что лукавая и путаная философская мысль Авенариуса, Маха и их сторонников и учеников соблазнила некоторую часть марксистов в России и за границей, причем среди соблазненных были и большевики, правда в политическом отношении являвшиеся в то время отщепенцами. Выросшие на почве проникновения этой формой идеализма (Авенариус, Мах и др.) теории, названные их создателями «эмпириомонизмом» (А. Богданов),8 «эмпириосимволизмом» (П. Юшкевич),9 доходили порою до недопустимой трактовки марксизма как своеобразной «религиозной» формы (А. Луначарский)10 и вызвали резкий отпор себе со стороны Плеханова.11 Отпор этот, однако, казался Ленину не только недостаточно сокрушительным для чрезвычайно опасного уклона в рядах социал–демократии той поры, но и исходящим из неверных позиций, обусловленных вредными уступками кантианству (теория иероглифов), недостаточно глубоким пониманием диалектики и пр..12 Все это и побудило Владимира Ильича выступить в защиту диалектического материализма с книгой, которая вошла в железный и золотой фонд пролетарской философии.
Для определения самой сущности материализма Ленин цитирует работу Энгельса «Людвиг Фейербах»:
«тот вещественный (stofflich), чувственно воспринимаемый нами мир, к которому принадлежим мы сами, есть единственно действительный мир», «наше сознание и мышление, как бы ни казались они сверхчувственными, являются продуктом (Erzeugnis) вещественного, телесного органа, мозга. Материя не есть продукт духа, а дух есть лишь высший продукт материи. Это, разумеется, чистый материализм».13
Материализм, как подчеркивает Ленин, начисто отвергает противопоставление явления — вещи:
«Всякая таинственная, мудреная, хитроумная разница между явлением и вещью в себе есть сплошной философский вздор. На деле каждый человек миллионы раз наблюдал простое и очевидное превращение «вещи в себе» в явление, «вещь для нас». Это превращение и есть познание».14
Источником всякого познания могут быть только ощущения, но отсюда идут два пути — один правильный, другой ложный:
«Первая посылка теории познания, несомненно, состоит в том, что единственный источник наших знаний — ощущения. Признав эту первую посылку, Мах запутывает вторую важную посылку: об объективной реальности, данной человеку в его ощущениях, или являющейся источником человеческих ощущений. Исходя из ощущений, можно идти по линии субъективизма, приводящей к солипсизму («тела суть комплексы или комбинации ощущений»), и можно идти по линии объективизма, приводящей к материализму (ощущения суть образы тел, внешнего мира). Для первой точки зрения — агностицизма или немного далее: субъективного идеализма — объективной истины быть не может. Для второй точки зрения, т. е. материализма, существенно признание объективной истины».15
Основой материализма являются, таким образом, следующие положения. Существует объективный мир, в основе своей он един; это — единая во всем бесконечном разнообразии материя. Всякий человек составляет часть этого мира. Его сознание, как и сознание вообще, есть свойство высокоорганизованной материи. Сознание человека отражает действительные вещи окружающего мира и их взаимоотношения. Оно отражает лишь приблизительно, но приближение это становится постоянно все более точным. Ленин пишет по этому поводу:
«…для материалиста мир богаче, живее, разнообразнее, чем он кажется (то есть представляется нашему сознанию на данном отрезке его развития. — А. Л.), ибо каждый шаг развития науки открывает в нем новые стороны».16
Как мы уже сказали, основной задачей главного философского произведения Ленина была защита материализма от всякого замаскированного идеализма, стремившегося подрыть его незыблемые устои. Ленин придавал гигантское значение именно диалектической сущности материализма Маркса. Материя для Ленина не есть нечто инертное, само по себе неподвижное, нуждающееся в толчке извне, в каком–то нематериальном движении, силе или энергии. Равным образом и это движение для Ленина отнюдь не есть только механическое передвижение в пространстве посредством толчка, сопротивления, отражения и т. д., как это предполагали материалисты механистические. Для Ленина материя и движение сливаются воедино. Материя диалектического материализма есть нечто развивающееся, и под движением ее понимаются все бесконечно разнообразные ее изменения. Изменение присуще материи как таковой. Материя никогда и нигде не может быть неизменной. Всякая материальная данность находится в процессе изменения, причем процесс этот всегда имеет характер раздвоения, распада данного целого на противоречивые части.
«Раздвоение единого и познание противоречивых частей его… есть суть (одна из «сущностей», одна из основных, если не основная, особенностей или черт) диалектики».17
«Тождество противоположностей, — продолжает Ленин, — …есть признание… противоречивых, взаимоисключающих, противоположных тенденций во всех явлениях и процессах природы (и духа и общества в том числе). Условие познания всех процессов мира в их «самодвижении», в их спонтанейном развитии, в их живой жизни, есть познание их как единства противоположностей. Развитие есть «борьба» противоположностей».18
Устанавливая эти огромной важности общие принципы в своих заметках «К вопросу о диалектике», Ленин особенно подчеркивает двоякое представление о развитии.
«Две основные… концепции развития (эволюции) суть: развитие как уменьшение и увеличение, как повторение, и развитие как единство противоположностей (раздвоение единого на взаимоисключающие противоположности и взаимоотношение между ними).
При первой концепции движения остается в тени само–движение, его двигательная сила, его источник, его мотив (или сей источник переносится во вне — бог, субъект etc.). При второй концепции главное внимание устремляется именно на познание источника «само»движения.
Первая концепция мертва, бледна, суха. Вторая — жизненна. Только вторая дает ключ к «самодвижению» всего сущего; только она дает ключ к «скачкам», к «перерыву постепенности», к «превращению в противоположность», к уничтожению старого и возникновению нового».19
В тех же заметках Ленин дает указания самого метода изложения диалектики вообще и диалектики любого отдельного явления. Эти гениальные строки необходимо привести здесь целиком:
«NB: отличие субъективизма (скептицизма и софистики etc.) от диалектики, между прочим, то, что в (объективной) диалектике относительно (релятивно) и различие между релятивным и абсолютным. Для объективной диалектики в релятивном есть абсолютное. Для субъективизма и софистики релятивное только релятивно и исключает абсолютное.
У Маркса в „Капитале“ сначала анализируется самое простое, обычное, основное, самое массовидное, самое обыденное, миллиарды раз встречающееся, отношение буржуазного (товарного) общества: обмен товаров. Анализ вскрывает в этом простейшем явлении (в этой „клеточке“ буржуазного общества) все противоречия (respective зародыши всех противоречий) современного общества. Дальнейшее изложение показывает нам развитие (и рост и движение) этих противоречий и этого общества, в Σ* его отдельных частей, от его начала до его конца.
Таков же должен быть метод изложения (respective изучения) диалектики вообще (ибо диалектика буржуазного общества у Маркса есть лишь частный случай диалектики). Начать с самого простого, обычного, массовидного etc., с предложения любого: листья дерева зелены; Иван есть человек; Жучка есть собака и т. п. Уже здесь (как гениально заметил Гегель) есть диалектика: отдельное есть общее… Значит, противоположности (отдельное противоположно общему) тождественны: отдельное не существует иначе как в той связи, которая ведет к общему. Общее существует лишь в отдельном, через отдельное. Всякое отдельное есть (так или иначе) общее. Всякое общее есть (частичка или сторона или сущность) отдельного. Всякое общее лишь приблизительно охватывает все отдельные предметы. Всякое отдельное неполно входит в общее и т. д., и т. д. Всякое отдельное тысячами переходов связано с другого рода отдельными (вещами, явлениями, процессами) и т. д.».20
* в сумме. — Ред.
Философская глубина этих ленинских формулировок не подлежит в настоящее время никакому сомнению. Но они имеют не только общефилософское, но и специально литературоведческое значение. Поставить проблему единства «общего» и «частного» применительно к таким важным категориям литературной науки, как стиль или жанр, должен будет отныне всякий литературовед–марксист. Поставить проблему «единства противоположностей» применительно к творчеству того или иного писателя — значит уяснить внутренние противоречия этого творчества и установить в их недрах ведущее, организующее начало.
Здесь вполне реальна опасность голого диалектизирования формалистских или механистических абстракций. Но эти извращения, к сожалению нередкие в современном литературоведении, обязывают нас к всестороннему и самому глубокому изучению ленинских философских фрагментов, необходимых для построения диалектики литературного процесса.
Учению Энгельса о постепенном овладении человечеством истиной Ленин придавал чрезвычайно большое значение. Оно, по мнению Владимира Ильича, проводит яркую демаркационную линию между косным догматизмом, с одной стороны, и релятивизмом, отрицающим объективную истину, — с другой. Поскольку наше краткое изложение материализма Ленина (а стало быть, и сознательного пролетариата) дается нами здесь в особенности в качестве опоры для выводов относительно методов построения марксистско–ленинского литературоведения, мы считаем целесообразным вслед за Лениным привести здесь целиком эти важные мысли Энгельса: «Суверенность мышления осуществляется в ряде людей, мыслящих чрезвычайно несуверенно; познание, имеющее безусловное право на истину, — в ряде относительных (релятивных) заблуждений; ни то, ни другое» (ни абсолютное истинное познание, ни суверенное мышление) «не может быть осуществлено полностью иначе как при бесконечной продолжительности жизни человечества.
Мы имеем здесь снова то противоречие, с которым уже встречались выше, противоречие между характером человеческого мышления, представляющимся нам в силу необходимости абсолютным, и осуществлением его в отдельных людях, мыслящих только ограниченно. Это противоречие может быть разрешено только в таком ряде последовательных человеческих поколений, который, для нас, по крайней мере, на практике бесконечен. В этом смысле человеческое мышление столь же суверенно, как несуверенно, и его способность познавания столь же неограниченна, как ограниченна. Суверенно и неограниченно по своей природе» (или устройству, Anlage),
«призванию, возможности, исторической конечной цели; несуверенно и ограниченно по отдельному осуществлению, по данной в то или иное время действительности».21
«Исторически условны, — прибавляет к этому сам Ленин, — контуры картины, но безусловно то, что эта картина изображает объективно существующую модель. Исторически условно то, когда и при каких условиях мы подвинулись в своем познании сущности вещей до открытия ализарина в каменноугольном дегте или до открытия электронов в атоме, но безусловно то, что каждое такое открытие есть шаг вперед «безусловно объективного познания». Одним словом, исторически условна всякая идеология, но безусловно то, что всякой научной идеологии (в отличие, например, от религиозной) соответствует объективная истина, абсолютная природа. Вы скажете: это различение относительной и абсолютной истины неопределенно. Я отвечу вам: оно как раз настолько «неопределенно», чтобы помешать превращению науки в догму в худом смысле этого слова, в нечто мертвое, застывшее, закостенелое, но оно в то же время как раз настолько «определенно», чтобы отмежеваться самым решительным и бесповоротным образом от фидеизма и от агностицизма, от философского идеализма и от софистики последователей Юма и Канта».22
Ленин настаивает, что познанию человека вообще присуща диалектика, ибо диалектически живет сама природа: в ней наблюдаются постоянные переходы, переливы, взаимная связь противоположностей. Тем не менее к осознанию диалектических свойств своего мышления, находящихся в глубоком соответствии со свойствами самой природы, человек приходит лишь иногда, лишь в благоприятных условиях. Наоборот, очень часто его классовые интересы или классовые интересы тех, кто руководит им, совершенно губят живущую в деятельности его мозга диалектику, заменяя ее косными метафизическими методами мышления. Как раз теперь, с торжеством пролетариата над буржуазией, восторжествует окончательно и естественное диалектическое мышление человека, извращаемое собственническим общественным строем. Это будет иметь место во всех областях знания и творчества, в том числе в литературоведении и в самой литературе. Все марксисты разделяют то мнение, что теория Маркса есть объективная истина. Это значит, что,
«идя по пути марксовой теории, мы будем приближаться к объективной истине все больше и больше (никогда не исчерпывая ее); идя же по всякому другому пути, мы не можем прийти ни к чему, кроме путаницы и лжи».23
Ленин резко отвергает всякое смешение общественного сознания с общественным бытием:
«Общественное сознание, — говорит он, — отражает общественное бытие — вот в чем состоит учение Маркса. Отражение может быть верной приблизительно копией отражаемого, но о тождестве тут говорить нелепо».24 «Самая высшая задача человечества, — утверждает Ленин, — охватить эту объективную логику хозяйственной эволюции (эволюции общественного бытия) в общих и основных чертах с тем, чтобы возможно более отчетливо, ясно, критически приспособить к ней свое общественное сознание и сознание передовых классов всех капиталистических стран».25
Диалектический материализм ни в коем случае не делает человека пассивным, наоборот, он чрезвычайно повышает активность марксистски сознательного человека. Ленин говорит об этом:
«У Энгельса вся живая человеческая практика врывается в самое теорию познания, давая объективный критерий истины: пока мы не знаем закона природы, он, существуя и действуя помимо, вне нашего познания, делает нас рабами «слепой необходимости». Раз мы узнали этот закон, действующий (как тысячи раз повторял Маркс) независимо от нашей воли и от нашего сознания, — мы господа природы. Господство над природой, проявляющее себя в практике человечества, есть результат объективно–верного отражения в голове человека явлений и процессов природы, есть доказательство того, что это отражение (в пределах того, что показывает нам практика) есть объективная, абсолютная, вечная истина».26
Объективную истину можно, конечно, разыскивать лишь объективным методом, каковым и является диалектический материализм. Этот метод, однако, в то же время является партийным, классовым методом. Такой характер его объясняется тем, что господствующий буржуазный класс и зависящая от него буржуазная наука не в состоянии быть объективными, ибо объективная истина противоречит интересам и самому существованию буржуазии. Это очень важное положение, позволяющее нам определить нашу позицию при построении познания (в том числе в области литературоведения) по отношению к современной официальной науке буржуазного мира. Ленин говорит по этому поводу:
«Ни единому из этих профессоров, способных давать самые ценные работы в специальных областях химии, истории, физики, нельзя верить ни в едином слове, раз речь заходит о философии. Почему? По той же причине, по которой ни единому профессору политической экономии, способному давать самые ценные работы в области фактических, специальных исследований, нельзя верить ни в одном слове, раз речь заходит об общей теории политической экономии. Ибо эта последняя — такая же партийная наука в современном обществе, как и гносеология. В общем и целом профессора–экономисты не что иное, как ученые приказчики класса капиталистов, и профессора философии — ученые приказчики теологов».27
О том, что глубокая объективность Ленина не приводила его к фатализму и равнодушию, а гармонически сочеталась с самым страстным отношением к действительности, свидетельствует замечательное место одной из его ранних работ, направленных против народников:
«На стр. 182–й своей статьи г. Михайловский выдвигает против «учеников» еще следующий феноменальный довод. Г–н Каменский ядовито нападает на народников; это, изволите видеть, «свидетельствует, что он сердится, а это ему не полагается (sic!!*). Мы, «субъективные старики», равно как и «субъективные юноши», не противореча себе, разрешаем себе эту слабость. Но представители учения, «справедливо гордого своею неумолимою объективностью» (выражение одного из «учеников»), находятся в ином положении».
Что это такое?! Если люди требуют, чтобы взгляды на социальные явления опирались на неумолимо объективный анализ действительности и действительного развития, — так из этого следует, что им не полагается сердиться?! Да ведь это просто галиматья, сапоги всмятку! Не слыхали ли Вы, г. Михайловский, о том, что одним из замечательнейших образцов неумолимой объективности в исследовании общественных явлений справедливо считается знаменитый трактат о «Капитале»? Целый ряд ученых и экономистов видят главный и основной недостаток этого трактата именно в неумолимой объективности. И, однако, в редком научном трактате вы найдете столько «сердца», столько горячих и страстных полемических выходок против представителей отсталых взглядов, против представителей тех общественных классов, которые, по убеждению автора, тормозят общественное развитие. Писатель, с неумолимой объективностью показавший, что воззрения, скажем, Прудона являются естественным, понятным, неизбежным отражением взглядов и настроения французского petit bourgeois,** — тем не менее с величайшей страстностью, с горячим гневом «накидывался» на этого идеолога мелкой буржуазии. Не полагает ли г. Михайловский, что Маркс тут «противоречит себе»? Если известное учение требует от каждого общественного деятеля неумолимо объективного анализа действительности и складывающихся на почве той действительности отношений между различными классами, то каким чудом можно отсюда сделать вывод, что общественный деятель не должен симпатизировать тому или другому классу, что ему это «не полагается»? Смешно даже и говорить тут о долге, ибо ни один живой человек не может не становиться на сторону того или другого класса (раз он понял их взаимоотношения), не может не радоваться успеху данного класса, не может не огорчиться его неудачами, не может не негодовать на тех, кто враждебен этому классу, на тех, кто мешает его развитию распространением отсталых воззрений и т. д. и т. д. Пустяковинная выходка г–на Михайловского показывает только, что он до сих пор не разобрался в весьма элементарном вопросе о различии детерминизма от фатализма».28
* так!! — Ред. ** мелкого буржуа. — Ред.
Ленин ратовал за всестороннее научное исследование фактов и умел раскрывать эти факты во всем их гигантском многообразии. Такие работы Ленина, как «Развитие капитализма в России», «Материализм и эмпириокритицизм» или «Империализм как высшая стадия капитализма», построены на огромном, пристально изученном материале, критически переработанном научным методом Ленина. Содержа безошибочные прогнозы исследуемой социальной действительности и давая объективную картину последней, работы Ленина в то же время никогда не были объективистскими. Известна классическая по своей рельефности характеристика, данная Лениным струвианству, течению буржуазного либерализма 90–х годов, до поры до времени драпировавшемуся в одежды марксистской фразеологии.
«Объективист, — писал Ленин в «Экономическом содержании народничества», — говорит о необходимости данного исторического процесса; материалист констатирует с точностью данную общественно–экономическую формацию и порождаемые ею антагонистические отношения. Объективист, доказывая необходимость данного ряда фактов, всегда рискует сбиться на точку зрения апологета этих фактов; материалист вскрывает классовые противоречия и тем самым определяет свою точку зрения. Объективист говорит о «непреодолимых исторических тенденциях»; материалист говорит о том классе, который «заведует» данным экономическим порядком, создавая такие–то формы противодействия других классов. Таким образом, материалист, с одной стороны, последовательнее объективиста и глубже, полнее проводит свой объективизм. Он не ограничивается указанием на необходимость процесса, а выясняет, какая именно общественно–экономическая формация дает содержание этому процессу, какой именно класс определяет эту необходимость. В данном случае, например, материалист не удовлетворился бы констатированием «непреодолимых исторических тенденций», а указал бы на существование известных классов, определяющих содержание данных порядков и исключающих возможность выхода вне выступления самих производителей. С другой стороны, материализм включает в себя, так сказать, партийность, обязывая при всякой оценке события прямо и открыто становиться на точку зрения определенной общественной группы».29
Эту цитату едва ли необходимо комментировать, так красноречиво характеризуется в ней отрицательное отношение Ленина ко всем программам и теориям, претендующим на «внепартийность», так ярко обрисовался в ней ленинский метод, научность которого насквозь пронизана партийной остротой — характерным свойством всех его теоретических работ.
По необходимости ограничиваясь этими цитатами, характеризующими философские воззрения Ленина, — мы еще раз подчеркиваем, что все в философском наследии Ленина имеет огромное значение для литературоведа, все подлежит внимательнейшему изучению, и если мы ограничиваемся лишь относительно немногими цитатами, то к этому нас вынуждает только характер нашей статьи.
3. Учение Ленина о культуре
Само собой разумеется, что в основных своих чертах учение Ленина о культуре есть то же, которое мы находим у Маркса и Энгельса. Понятие культуры обнимает у них, в сущности, все формы общественной жизни, за исключением непосредственно производственных. Разумеется, и эти последние можно было бы отнести к культуре, если противопоставлять последнюю понятию натуры, то есть природы вне всякого изменения ее человеком. Понятие культуры включает в себя все так называемые надстройки. В их число входят не только «чистые» формы идеологии, религия, философия, наука, искусство, но и такие формы культуры, которые непосредственно связаны с бытом: мораль, не только теоретическая, но и непосредственно бытующая в жизни, право, опять–таки и в его идеологических и в практических формах и т. д. Все эти формы культуры находятся друг с другом в непрерывном взаимодействии и в известной степени оказывают давление также на экономический фундамент общества. Определителем всех форм культуры и всей ее динамики является в конечном счете процесс производства. Именно им обусловливается изменение отношений собственности и группировка людей в производстве, причем особое значение имеет не столько техническая группировка в самом процессе производства, сколько группировка классов. Классы играют различную роль в производственном процессе и имеют различные права на орудия производства и продукты его. Именно классовая конфигурация определяет собой государственную структуру, политическую жизнь данного общества и все остальные формы идеологических надстроек.
От этих общих положений марксизма–ленинизма, касающихся культуры, обратимся к тем ценнейшим и оригинальным мыслям, которые в учение о культуре — эту необходимую основу литературоведения — внес Ленин.
Вполне уместна параллель между ленинским и плехановским учениями о культуре, поскольку то и другое сильнейшим образом отразилось на взглядах обоих мыслителей на природу художественной литературы. Плеханов, которого долгое время считали непререкаемо авторитетным учеником Маркса и Энгельса, на самом деле носил на всем своем мышлении печать определенной прослойки русской революционной интеллигенции конца прошлого и начала этого столетия, шедшей навстречу пролетариату, но не сумевшей полностью слиться с ним. Это сказалось и на, учении Плеханова о культуре, и на решении им ряда литературоведческих проблем. Борясь с субъективизмом народников, наивно веривших в то, что историю делают «критически мыслящие люди», то есть интеллигенция, Плеханов с необыкновенным рвением доказывал, что изучение культурных явлений, в частности литературы, должно быть чисто генетическим и беспримесно объективным. По его мнению, марксист–литературовед ни в каком случае не должен был ставить перед собой вопроса о положительном или отрицательном характере того или другого культурного явления, осуждать его или аплодировать ему. Марксистское литературоведение должно было, по Плеханову, ограничиться выяснением неизбежной закономерности данного явления и всех его причин.30 По–иному ставил эти проблемы Ленин. Конечно, он прекрасно понимал громадное значение изучения отдельных культурных явлений с точки зрения их классового эквивалента. Но для него это было только подготовкой к изучению явления в целом, ибо самое изучение в полном соответствии с боевым и творческим характером пролетариата являлось у Ленина лишь предпосылкой для критического использования прошлой культуры и для построения новых форм ее, соответствующих интересам пролетариата. Плеханову, несомненно, свойственен был известный разрыв между бесстрастной теорией и строительством, которое рисовалось ему в туманной дали. Ленин был вождем в деле разрушения капитализма и практического строительства социализма. Познавательная работа ставилась им непосредственно на службу революционной практике. Отсюда совершенно новый ее тонус, конечно глубоко марксистский, так как он полностью соответствует духу революционного учения Маркса, и в то же самое время ленинский, потому что эпоха первой великой пролетарской революции с особой силой прежде всего гениальной рукой Ленина подчеркнула именно этот характер теоретического усвоения культуры.
К прошлому культуры и ближайшей к нам ее стадии — культуре буржуазной, особенно культуре загнивающего капитализма — Ленин, разумеется, относился с беспощадной критикой: многое и существеннейшее в этих исторических формациях возбуждает его гнев, ненависть и презрение. Мы уже читали выше его отзыв о профессорах философии; этот отряд буржуазной интеллигенции не составляет исключения. В конце этой статьи читатель найдет замечательные строки, в которых кипит возмущение Ленина старой культурой и которые написаны им в связи с важным вопросом о «партийности литературы». Таких осуждений культуры прошлого у него можно встретить огромное количество, но из этого вовсе не следует, что Ленин осуждал эту прошлую культуру целиком, то есть предполагал, что в ней нет никаких элементов, которые подлежали бы критическому усвоению пролетариата для построения новой культуры. Конечно, это относится не только к области точных наук и техники, но и к другим областям культуры. Различными классами, господствовавшими в старину в различных обществах, создавались культурные ценности, которые не только любопытно изучить для правильного понимания путей истории человечества, но которые могут оказаться непосредственно полезными для нас. На митинге в 1919 году Ленин провозглашал, между прочим:
«…От раздавленного капитализма сыт не будешь. Нужно взять всю культуру, которую капитализм оставил, и из нее построить социализм. Нужно взять всю науку, технику, все знания, искусство. Без этого мы жизнь коммунистического общества построить не можем. А эта наука, техника, искусство — в руках специалистов и в их головах».31
С особенной силой и полнотой выражены были эти мысли Владимиром Ильичем в его знаменитой речи на III Всероссийском съезде РКСМ 2 октября 1920 года:
«Все то, что было создано человеческим обществом, он (Маркс — А. Л.) переработал критически, ни одного пункта не оставив без внимания. Все то, что человеческою мыслью было создано, он переработал, подверг критике, проверив на рабочем движении, и сделал те выводы, которых ограниченные буржуазными рамками или связанные буржуазными предрассудками люди сделать не могли.
Это надо иметь в виду, когда мы, например, ведем разговоры о пролетарской культуре. Без ясного понимания того, что только точным знанием культуры, созданной всем развитием человечества, только переработкой ее можно строить пролетарскую культуру — без такого понимания нам этой задачи не разрешить. Пролетарская культура не является выскочившей неизвестно откуда, не является выдумкой людей, которые называют себя специалистами по пролетарской культуре. Это все сплошной вздор. Пролетарская культура должна явиться закономерным развитием тех запасов знания, которые человечество выработало под гнетом капиталистического общества, помещичьего общества, чиновничьего общества. Все эти пути и дорожки подводили и подводят, и продолжают подводить к пролетарской культуре так же, как политическая экономия, переработанная Марксом, показала нам то, к чему должно прийти человеческое общество, указала переход к классовой борьбе, к началу пролетарской революции».32
Из этих положений Ленина с полной ясностью вытекает, в какой огромной мере изучение культуры прошлого как по ее классовой сущности (генетически), так и в смысле ее ценности (функционально) являлось для Ленина подготовительным этапом к построению культуры.
Вопрос создания социалистической культуры стоял перед Лениным не столько в общей форме, как проблема создания мировым пролетариатом новой мировой культуры, сколько в более частной форме, как совершенно практическая задача построения этой новой культуры в нашей стране тотчас же после перехода политической власти в руки пролетариата. Говоря на XI съезде партии о необходимости теперь же обеспечить постепенный переход к коммунизму, Ленин заявил, что для такого перехода у пролетариата в нашей стране совершенно достаточно как политической, так и экономической силы. «Чего же не хватает?» — спрашивал Ленин и отвечал: «Ясное дело, чего не хватает: не хватает культурности тому слою коммунистов, который управляет».33 Но, разумеется, Ленин не суживал задачу до повышения культурности самих коммунистов; указывая на необходимость кооперировать население нашей страны как на одну из главных задач, Ленин, конечно, считался с необходимостью огромной работы для поднятия культурности самих масс. Бюрократизм, уродливость старого быта, плохая дисциплина труда, недостатки воспитания новых поколений и многое другое представляли собою те препятствия, за преодоление которых путем классовой борьбы за культуру Ленин всемерно боролся.
Ленин отнюдь не суживал размаха целей социалистической культуры. Развернув блестящую картину законченного социалистического строя с высоким плановым производством, высоким уровнем быта, строя, в котором каждый получает согласно своему труду, труду, в то же время в общем высококвалифицированному и продуктивному, Ленин выдвигает как дальнейшую задачу переход к строю собственно коммунистическому, принципом которого будет — «от каждого согласно его способностям и каждому по его потребностям».34 Этот высочайший принцип Ленин неразрывно связывает с огромной работой по пересозданию самого человека, с глубокой работой пролетариата над самим собой для поднятия всей массы трудящихся на моральную высоту, которая разным мещанам кажется недосягаемой и фантастической.
Я позволю себе привести здесь личное воспоминание, которое особенно ярко запало в мое сознание и которое прекрасно характеризует широту и торжественность той борьбы за социалистическую культуру, которую вел Ленин. Пишущий эти строки был испуган разрушениями ценных художественных зданий, имевшими место во время боев революционного пролетариата Москвы с войсками Временного правительства, и подвергся по этому поводу весьма серьезной «обработке» со стороны великого вождя. Между прочим, ему были сказаны тогда такие слова: «Как вы можете придавать такое значение тому или другому старому зданию, как бы оно ни было хорошо, когда дело идет об открытии дверей перед таким общественным строем, который способен создать красоту, безмерно превосходящую все, о чем могли только мечтать в прошлом?»
Ленин прямо говорил о том, что коммунист, неспособный к полетам реальной мечты, то есть к широким перспективам, к широким картинам будущего, — плохой коммунист.35 Но революционный романтизм органически сочетался в Ленине с крепчайшей практической хваткой. Вот почему в деле построения новой культуры его в особенности интересовали те задачи, которые являлись насущными задачами дня. Именно с этой стороны чрезвычайно важно усвоить внутреннее содержание критики Лениным учения о культуре так называемого Пролеткульта.
В «Правде» 27 сентября 1922 года напечатана была статья одного из теоретиков Пролеткульта — В. Ф. Плетнева — «На идеологическом фронте». Самый экземпляр «Правды» с этой статьей был испещрен многочисленными карандашными заметками Владимира Ильича. Вскоре после появления этого номера «Правды» в той же газете появилась статья Я. Яковлева под заглавием «О пролетарской культуре и Пролеткульте».36 Основные положения этой статьи точно совпадают с заметками Владимира Ильича, и сама статья является систематизацией этих заметок. Статья эта, несомненно, была прочитана и одобрена Лениным; поэтому мы, как уже делали многие другие, ссылаемся на эту содержательную статью в полной уверенности, что она высказывает именно идеи Ленина.
Ленин с раздражением отнесся к той искусственности понятия о культуре, которую положил в основу своей статьи, равно как и всей своей практической деятельности, т. Плетнев, верный выразитель тех несколько смутных идей, которые составляли теоретическую основу практики Пролеткульта.
«Если мы будем, — справедливо писал т. Яковлев, — судить о «культуре» по указываемым Плетневым конкретным проявлениям «пролетарской культуры», то придется культуру свести к науке, театру и искусству минус их материальные элементы». И далее: «У т. Плетнева пролетарская культура нечто вроде химического реактива, который можно получить в реторте Пролеткульта при помощи групп особо подобранных людей. Элементы новой пролетарской культуры у него выходят из пролеткультовских студий примерно так, как некогда античная богиня вышла готовой из пены морской».
В полном согласии с Лениным, Яковлев находит, что основной задачей культуры является прежде всего общий подъем элементарнейшей культурности в нашей стране:
«Бюрократия, проедающая насквозь тело нашего государственного механизма, делает нашей задачей на много лет добиваться хотя бы лучших сторон буржуазной культуры… Совершенно несомненно, что стремление нашей революционной молодежи иметь возможно более обтрепанный, обшарпанный «комсомольский» вид, грязь в казарме, блохи и клопы в советских домах, все это отражению некультурности».
Далее отмечается малая успешность борьбы с безграмотностью (теперь, конечно, многое из всего этого позади нас). К культурным задачам относится «научить крестьянина элементарным приемам культурного хозяйничания и т. д.». С другой стороны, пролеткультовцы упускают из виду «такие важнейшие элементы культуры, как мораль, обычаи и право, в которых действительно ряд значительных сдвигов пролетариат уже произвел и производит». Во главу угла ставится здесь интенсивная учеба.
«Этого можно добиться, только использовав целиком народного учителя, инженера, профессора». «Ошибку, которую сделали товарищи в 1918–1919 годах по отношению к военным спецам, позднее по отношению к спецам промышленности, Плетнев механически переносит на область культуры». «Не дилетантская, любующаяся собой, пролеткультовская якобы наука, не разговорчики о «социализации», которых не поймет ни один рабочий, а серьезная учеба в течение многих и многих лет все новых и новых сотен тысяч рабочих и крестьян».
Тов. Яковлев переходит также к вопросам искусства, очевидно и здесь имея твердую директиву вождя:
«Мы живем в эпоху борьбы, — говорит он. — Естественно надо рассматривать искусство прежде всего как общественную силу. И по отношению к искусству, берущему на себя смелость называться пролетарским, мы имеем право предъявлять в этом отношении несколько большие требования, чем хотя бы к Малому театру. Мы хотим увидеть в пролетарском театре элементы художественного признания нашей революции, революционной бодрости и подъема, элементы, объединяющие трудящихся в их решимости и готовности к борьбе, создающие чувство связи у зрителя–рабочего с членами его класса, наконец, действительно введение живой массы на сцену. Мы не стоим на точке зрения «искусства для искусства». Поэтому мы вправе наш критерий «пролетарского искусства» применить к пролеткультовскому театру».37
Нетрудно подытожить разницу между пролеткультовщиной и учением Ленина о культуре. Торопясь как можно скорее к так называемым чистым формам пролетарской культуры, пролеткультовцы пытались создать ее лабораторным путем. При этом задача чрезвычайно суживалась: во–первых, она смогла обнять лишь некоторые группы пролетариата, а не весь класс с многомиллионной крестьянской беднотой в придачу. Во–вторых, Пролеткульт подозрительным образом сбивался на исключительно художественную работу плюс некоторые сомнительные изыскания в области науки. Для Ленина культурная революция, наоборот, была колоссальным процессом, в котором десятки миллионов людей, а также весь общественный и государственный организм огромной страны должны были упорядочиваться, онаучиваться, просвещаться. При этом попутно должно было усвоить огромное количество знаний и приемов, уже обыкновенных в Америке и передовых странах Европы. Учеба отнюдь не понималась Лениным как простое подражание Западу. На первом плане стоит самый факт классовой борьбы; новый класс усваивает полезное из наследства буржуазного мира, чтобы сейчас же направить его в качестве оружия против самого капитализма. Гигиена быта, отдельные данные и отдельные методы наук и искусств могут быть усваиваемы, и тем не менее сам быт должен приобретать характер, далекий от западного мещанства. Наука должна перестраиваться на новом базисе, быть устремленной к новым целям, искусство должно служить пониманию врагов и друзей, воспитывающим стимулом для социалистической воли и т. д.
Задачи, которые поставила перед собой Коммунистическая партия, являются интернациональными, и разрешение этих задач в многонациональном, многоязыком Советском Союзе показывает все значение национальной политики ленинизма, является доказательством того, что это — «единственно верная политика».38 Ленин отнюдь не отрицал существования национальных культур. В своей статье о Радищеве Ленин писал:
«Чуждо ли нам, великорусским сознательным пролетариям, чувство национальной гордости? Конечно, нет! Мы любим свой язык и свою родину, мы больше всего работаем над тем, чтобы ее трудящиеся массы (то есть 9/10 ее населения) поднять до сознательной жизни демократов и социалистов».39
Но вместе с тем он указывал на существование двух национальных культур в каждой культуре:
«Есть две нации в каждой современной нации… — писал Ленин в 1913 году. — Есть две национальные культуры в каждой национальной культуре. Есть великорусская культура Пуришкевичей, Гучковых и Струве, — но есть также великорусская культура, характеризуемая именами Чернышевского и Плеханова. Есть такие же две культуры в украинстве, как и в Германии, Франции, Англии, у евреев и т. д.».40
Диалектика этого ленинского разрешения национального вопроса получила исчерпывающее освещение в соответствующих выступлениях т. Сталина («О политических задачах Университета народов Востока», «Отчет и заключительное слово на XVI партсъезде»).
Конечно, вся великая ленинская национальная политика налицо, чтобы свидетельствовать, что, говоря о наших внутренних культурных задачах, мы отнюдь не имеем в виду только русский народ, но все многочисленные народы, составляющие великое братство СССР; и точно так же, говоря о литературе, мы имеем в виду литературы всех народов СССР, достигшие высочайшего расцвета в результате ленинской национальной политики.
4. Теория империализма
По отношению к историческому процессу в его последней стадии основоположное значение сохраняет ленинская теория империализма, наиболее полно изложенная им в очерке «Империализм, как высшая стадия капитализма» (1916). Сочинение это характеризует империализм как хозяйственную систему; но те выводы, которые можно сделать из этой работы, самым непосредственным образом касаются и истории современного Запада, и политики, и литературы. Ленин дает в этом исследовании последовательную характеристику отличительных особенностей империализма: предельной концентрации производства, огромного влияния банков и образования финансового капитала, вывозящего капитал во все страны земного шара, образования государств–рантье, ссужающих деньги маломощным государствам и нещадно их эксплуатирующих, раздела мира между главнейшими империалистическими государствами, паразитизма и загнивания империализма, происходящего из отсутствия перспектив роста, из монополистического положения. Несколько позже, в «Материалах по пересмотру партийной программы», изданных в 1917 году, содержится краткая, как бы итоговая характеристика этого строя.
«Всемирный капитализм, — пишет Ленин, — дошел в настоящее время — приблизительно с начала XX века — до ступени империализма. Империализм или эпоха финансового капитала есть столь высоко развитое капиталистическое хозяйство, когда монополистические союзы капиталистов — синдикаты, картели, тресты — получили решающее значение, банковый капитал громадной концентрации слился с промышленным, вывоз капитала в чужие страны развился в очень больших размерах, весь мир поделен уже территориально между богатейшими странами и начался раздел мира экономический между интернациональными трестами.
Империалистические войны, т. е. войны из–за господства над миром, из–за рынков для банкового капитала, из–за удушения малых и слабых народностей, неизбежны при таком положении дела. И именно такова первая великая империалистическая война 1914–1917 годов.
И чрезвычайно высокая ступень развития мирового капитализма вообще; и смена свободной конкуренции монополистическим капитализмом; и подготовка банками, а равно союзами капиталистов, аппарата для общественного регулирования процесса производства и распределения продуктов; и стоящий в связи с ростом капиталистических монополий рост дороговизны и гнета синдикатов над рабочим классом, гигантское затруднение его экономической и политической борьбы; и ужасы, бедствия, разорение, одичание, порождаемые империалистской войной, — все это делает из достигнутой ныне ступени развития капитализма эру пролетарской, социалистической революции.
Эта эра началась».41
Ленинская теория империализма рушит все хитросплетения теоретиков II Интернационала, рассчитывающих на спокойный и безболезненный переход от капитализма к социализму, на переход без революционных потрясений. Ленинский анализ не оставляет камня на камне от этих построений социал–демократических филистеров. Автор «Империализма, как высшей стадии капитализма» блестяще доказал факт загнивания капитализма в этой своей стадии, и этот пункт в учении Ленина является важнейшим. Экономический паразитизм рождается из монополии, выросшей из капитализма и находящейся
«в общей обстановке капитализма, товарного производства, конкуренции, в постоянном и безысходном противоречии с этой общей обстановкой. Но тем не менее, как и всякая монополия, она порождает неизбежно стремление к застою и загниванию. Поскольку устанавливаются, хотя бы на время, монопольные цены, постольку исчезают до известной степени побудительные причины к техническому, а следовательно, и ко всякому другому прогрессу, движению вперед; постольку является далее экономическая возможность искусственно задерживать технический прогресс».42
На основе монопольного положения империализма вырастает его политический паразитизм, равно как и паразитизм его культуры, отныне уже не заинтересованной ни в каком дальнейшем прогрессе: буржуазия достигла высшей ступени могущества и не заинтересована больше в повышении производства, в технических изобретениях и пр.
Ленинская теория империализма позволяет безошибочно ориентироваться во всех наиболее важных явлениях политической жизни капиталистического Запада. Пятнадцать лет, истекшие со времени написания Лениным работы «Империализм, как высшая стадия капитализма», со всей силой подтвердили верность его прогноза и широко развернули картину загнивания империалистического хозяйства. Но выводы из этой теории должен делать не только экономист, не только историк, а и любой исследователь западноевропейской культуры, в том числе и литературовед. Целый ряд интересных курсов истории западноевропейских литератур, написанных в последние годы марксистами, страдает именно отсутствием применения ленинского учения об империализме к этой области. В некоторых из этих работ исторический процесс Запада рассмотрен объективистски. В них подчас недостаточно разоблачен оппортунизм II Интернационала, явственно дающий себя знать в современной литературе (одним из таких писателей является, например, П. Амп 43). Излишний техницизм, доверие к организаторским способностям капитализма, увлечение теориями внутреннего равновесия капитализма также льют воду на мельницу антимарксистских, антиреволюционных концепций и в этом смысле нуждаются в решительном преодолении.
5. Теория двух путей развития русского капитализма
Если для познания капитализма эпохи его загнивания основополагающую роль играет ленинская теория империализма, то для русской истории XIX века аналогичную роль играет ленинская концепция двух путей развития капитализма в России. Концепцию «двух путей» нельзя применять к литературе без учета теории отражения, столь важной в подходе Ленина к явлениям исторического процесса. Она учитывает не столько генетическую принадлежность писателя, сколько отражение этим последним социальных сдвигов, не столько субъективную прикрепленность писателя и связанность его с определенной социальной средой, сколько объективную характерность его для тех или иных исторических ситуаций. Так, белогвардейский юморист Аверченко, озлобленный «почти до умопомрачения», дает тем не менее «высокоталантливую», по определению Ленина, книжку «Дюжина ножей в спину революции», талантливую в силу ее пронизанности пафосом представителя «старой, помещичьей и фабрикантской, богатой, объевшейся и объедавшейся России». «Некоторые рассказы, по–моему, заслуживают перепечатки, — иронически замечает Ленин. — Талант надо поощрять».44 Аверченко отражает реакцию буржуазии на Октябрьскую революцию, выкинувшую этот класс за борт истории. Несравненно глубже и социально значительнее отражается действительность в творчестве таких идеологов крестьянской революции, как Белинский, Герцен, Чернышевский, народники. Наконец, особенно замечательным примером отражения является творчество Толстого, одна из статей о котором озаглавлена «Лев Толстой, как зеркало русской революции».
«Сопоставление имени великого художника с революцией, которой он явно не понял, от которой он явно отстранился, может показаться на первый взгляд странным и искусственным. Не называть же зеркалом того, что очевидно не отражает явления правильно? Но наша революция — явление чрезвычайно сложное; среди массы ее непосредственных совершителей и участников есть много социальных элементов, которые тоже явно не понимали происходящего, тоже отстранялись от настоящих исторических задач, поставленных перед ними ходом событий. И если перед нами действительно великий художник, то некоторые хотя бы из существенных сторон революции он должен был отразить в своих произведениях».45
И в результате блестящего анализа русской политической действительности конца XIX и начала XX века Ленин приходит к выводу, что «Толстой отразил накипевшую ненависть, созревшее стремление к лучшему, желание избавиться от прошлого, — и незрелость мечтательности, политической невоспитанности, революционной мягкотелости. Историко–экономические условия объясняют и необходимость возникновения революционной борьбы масс и неподготовленность их к борьбе, толстовское непротивление злу, бывшее серьезнейшей причиной поражения первой революционной кампании».46 Конечно, Белинский, Герцен, народники, Толстой отражали разные этапы борьбы, и Ленин никогда не игнорировал ни внутренних противоречий каждого из них, ни специфики этих этапов.
Теория отражения никогда не означала у Ленина разрыва с историей, она никогда не была абстрактной схемой, открывавшей любую историческую ситуацию одним и тем же ключиком. Наоборот, она всегда служила раскрытию конкретных форм классовой борьбы во всей сложности ее внутренних диалектических противоречий.
«Мы, — писал он, — вовсе не смотрим на теорию Маркса как на нечто законченное и неприкосновенное; мы убеждены, напротив, что она положила только краеугольные камни той науки, которую социалисты должны двигать дальше во всех направлениях, если они не хотят отстать от жизни. Мы думаем, что для русских социалистов особенно необходима самостоятельная разработка теории Маркса, ибо эта теория дает лишь общие руководящие положения, которые применяются в частности к Англии иначе, чем к Франции, к Франции иначе, чем к Германии, к Германии иначе, чем к России».47
Вернемся к теории «двух путей». Ленин не только установил картину исторической борьбы этих двух тенденций, но и наметил зависимость русской литературы от этой борьбы. Ниже мы приведем суждения Ленина о зависимости таких огромных литературных явлений, как Герцен, народничество, Лев Толстой, именно от этих существенных сил, двигавших историю нашей страны. Хотя эта теория непосредственно освещает период от 50–х годов прошлого столетия до революции 1917 года, но в то же самое время она гигантски приближает нас к пониманию более ранних явлений, приблизительно начиная с XVIII века, и позволяет проанализировать некоторые тенденции, наблюдающиеся среди враждебных нам классов еще не добитой старой России. Наконец, массу света бросает ленинская концепция и на все другие страны (в том числе на их литературное развитие).
Теория «двух путей» красной нитью проходит через всю публицистическую деятельность Ленина, намечаясь уже в раннем его полемическом произведении «Что такое «друзья народа» …». С наибольшей полнотой она выражена в статье «Аграрная программа социал–демократии в первой русской революции 1905–1907 годов», написанной Лениным в конце 1907 года.
«Гвоздем борьбы являются крепостнические латифундии, как самое выдающееся воплощение и самая крепкая опора остатков крепостничества в России. Развитие товарного хозяйства и капитализма с абсолютной неизбежностью кладет конец этим остаткам. В этом отношении перед Россией только один путь буржуазного развития.
Но формы этого развития могут быть двояки. Остатки крепостничества могут отпадать и путем преобразования помещичьих хозяйств и путем уничтожения помещичьих латифундий, т. е. путем реформы и путем революции. Буржуазное развитие может идти, имея во главе крупные помещичьи хозяйства, постепенно становящиеся все более буржуазными, постепенно заменяющие крепостнические приемы эксплуатации буржуазными, — оно может идти также, имея во главе мелкие крестьянские хозяйства, которые революционным путем удаляют из общественного организма «нарост» крепостнических латифундий и свободно развиваются затем без них по пути капиталистического фермерства.
Эти два пути объективно–возможного буржуазного развития мы назвали бы путем прусского и путем американского типа. В первом случае крепостническое помещичье хозяйство медленно перерастает в буржуазное, юнкерское, осуждая крестьян на десятилетия самой мучительной экспроприации и кабалы, при выделении небольшого меньшинства «гроссбауэров» («крупных крестьян»). Во втором случае помещичьего хозяйства нет или оно разбивается революцией, которая конфискует и раздробляет феодальные поместья. Крестьянин преобладает в таком случае, становясь исключительным агентом земледелия и эволюционируя в капиталистического фермера. В первом случае основным содержанием эволюции является перерастание крепостничества в кабалу и в капиталистическую эксплуатацию на землях феодалов — помещиков — юнкеров. Во втором случае основной фон — перерастание патриархального крестьянина в буржуазного фермера.
В экономической истории России совершенно явственно обнаруживаются оба эти типа эволюции. Возьмите эпоху падения крепостного права. Шла борьба из–за способа проведения реформы между помещиками и крестьянами. И те и другие отстаивали условия буржуазного экономического развития (не сознавая этого), но первые — такого развития, которое обеспечивает максимальное сохранение помещичьих хозяйств, помещичьих доходов, помещичьих (кабальных) приемов эксплуатации. Вторые — интересы такого развития, которое обеспечило бы в наибольших, возможных вообще при данном уровне культуры, размерах благосостояние крестьянства, уничтожение помещичьих латифундий, уничтожение всех крепостнических и кабальных приемов эксплуатации, расширение свободного крестьянского землевладения. Само собою разумеется, что при втором исходе развитие капитализма и развитие производительных сил было бы шире и быстрее, чем при помещичьем исходе крестьянской реформы. Только карикатурные марксисты, как их старались размалевать борющиеся с марксизмом народники, могли бы считать обезземеление крестьян в 1861 году залогом капиталистического развития. Напротив, оно было бы залогом — и оно оказалось на деле залогом кабальной, т. е. полукрепостной аренды и отработочного, т. е. барщинного, хозяйства, необыкновенно задержавшего развитие капитализма и рост производительных сил в русском земледелии. Борьба крестьянских и помещичьих интересов не была борьбой «народного производства» или «трудового начала» против буржуазии (как воображали и воображают наши народники), — она была борьбой за американский тип буржуазного развития против прусского типа буржуазного же развития».48
В этих строках содержатся указания исключительной методологической ценности, освещающие исторический процесс всей пореформенной поры.
«Борьба крестьянских и помещичьих интересов, которая проходит красной нитью через всю пореформенную историю России и составляет важнейшую экономическую основу нашей революции, есть борьба за тот или другой тип буржуазной аграрной эволюции».49
Вопрос о том, по какому пути двигаться русскому историческому процессу — по пути «революции» или по пути «реформы», — оставался глубоко актуальным на протяжении всей эпохи развития русского промышленного капитализма и был снят с порядка дня лишь в октябре 1917 года. Буржуазная историография предельно идеализировала «эпоху великих реформ», уничтожение крепостной зависимости, трактуя в самых либеральных и прекраснодушных тонах победы демократических прав над сторонниками насилия. Меньшевики представляли крестьянскую реформу как победу радикальной буржуазии над помещиками. Те и другие извращали реальную конфигурацию сил, и с теми и другими Ленин ведет самую решительную борьбу. Два лагеря он устанавливает в русской действительности: лагерь обуржуазившегося дворянства, к которому присоединилась и буржуазия — блок двух классов, заинтересованных в продолжении эксплуатации крестьянства и в результате полукрепостнической реформы продолжавших эту эксплуатацию; ему противостоит другой лагерь — крепостного крестьянства, формально освобожденного реформой от юридической зависимости от помещика, но фактически находящегося в ней, лишенного земли, опутанного полукрепостнической арендой и разнообразнейшими отработками и борющегося за полную и окончательную ликвидацию крепостничества. Борьба этих двух лагерей — эксплуататоров и эксплуатируемых — представляет собой, по Ленину, стержень всей пореформенной истории России.
Концепция Ленина придает строгое единство всему историческому процессу, имевшему место в нашей стране, и крепко связывает наше настоящее и будущее с нашим прошлым. Наша демократическая тенденция, главной опорой которой, главным фактическим носителем которой являлось разрозненное, невежественное крестьянство, была слаба, хотя она и смогла выдвинуть гигантов в области мысли и литературы. В общем развитие России пошло по прусскому пути, и это определило собою, так сказать, официальное убожество всей нашей культуры, исключением из чего являются только постоянно находящиеся в меньшинстве герои первого пути. По примеру самой Германии и наша страна создала буржуазный либерализм, отличавшийся подлой трусостью и изменами. Вместо России крестьянско–буржуазной создалась Россия юнкерски–буржуазная.
Но именно вследствие этого (в этом пункте яснее, чем где–либо, раскрывается диалектический гений Ленина) «пережитки крепостничества обусловили широкое крестьянское движение и превратили это движение в оселок революции».50 Встал вопрос: «…Если ломка не может не быть крутой, не может не быть буржуазной (поскольку капитализм неумолимо наступал на Россию. — А. Л.), то остается еще нерешенным, какой класс из двух непосредственно заинтересованных классов, помещичьего и крестьянского, проведет это преобразование или направит его, определит его формы».51 И помещичье–буржуазная революция возможна, но она есть, по Ленину, «выкидыш, недоносок, ублюдок». Если же победит крестьянство, — то «мы разделаемся с царизмом по–якобински или, если хотите, по–плебейски».52 Крестьянская революция, несмотря на то что она нашла великих вождей и руководителей из интеллигенции, была бита.
«В современной России, — писал Ленин («Социализм и крестьянство»), — не две борющиеся силы заполняют содержание революции, а две различных и разнородных социальных войны: одна в недрах современного самодержавно–крепостнического строя (та, которая описана в теории двух путей. — А. Л.), другая в недрах будущего, уже рождающегося на наших глазах буржуазно–демократического строя. Одна — общенародная борьба за свободу (за свободу буржуазного общества), за демократию, т. е. за самодержавие народа, другая — классовая борьба пролетариата с буржуазией за социалистическое устройство общества».53
Своеобразие последних десятилетий революционного развития нашей страны заключается в том, что первая из этих «войн» не достигла своего результата, она была бы окончательно разбита, если бы на выручку не пришло начало второй «войны». Пролетариат фактически выступил одновременно и как гегемон крестьянства за полное освобождение от самодержавия и остатков феодализма, и как борец за осуществление социализма, руководящий и в этом отношении крестьянством, втягивающий его в коллективные формы сельского хозяйства. Ленин писал об этом:
«У революционно–демократической диктатуры пролетариата и крестьянства есть, как и у всего на свете, прошлое и будущее. Ее прошлое — самодержавие, крепостничество, монархия, привилегии. В борьбе с этим прошлым, в борьбе с контрреволюцией возможно «единство воли» пролетариата и крестьянства, ибо есть единство интересов.
Ее будущее — борьба против частной собственности, борьба наемного рабочего с хозяином, борьба за социализм. Тут единство воли невозможно. Тут перед нами не дорога от самодержавия к республике, а дорога от мелкобуржуазной демократической республики к социализму».54
Выводы из теории двух путей, которые должен сделать для себя литературовед, оказываются чрезвычайно значительными. Вслед за Лениным, подчеркивающим значительность влияния крепостнической части дворянства, сумевшей обкорнать и изуродовать и без того умеренные реформы, литературовед должен будет, во–первых, установить факт наличия в русской литературе околореформенной поры значительной группы писателей — идеологов крепостничества. Этот лагерь не очень многочисленен, но в него войдут такие писатели, как Сергей Аксаков, этот прекраснодушный идеализатор феодальных отношений между помещиками и крестьянством («Семейная хроника»), такой зубр феодальной аристократии, как Маркевич, такой реакционный поэт–усадебник, как Фет, и некоторые другие. Это — лагерь людей, отрицавших какой бы то ни было путь капиталистического развития, мечтавших о возвращении к дореформенным социальным отношениям, лагерь защитников реакционной крепостнической утопии. Более широк и влиятелен второй лагерь — либералов, куда войдут и писатели обуржуазившегося дворянства, и представители буржуазии, вроде Лескова или Гончарова. Ленин беспощадно боролся с легендой о демократизме либералов, всеми средствами обнажая умеренность всяческих Кавелиных, лицемерно предостерегавших от излишеств революционного движения, а на самом деле по мере своих сил ливших воду на мельницу правительственной реакции.55 Лагерь сторонников «прусского пути» возглавлялся в русской литературе 60–х годов такими писателями, как Тургенев, как Гончаров. Но, разумеется, идеологи либеральной реформы не переводились в буржуазно–дворянской литературе до самых последних лет существования самого строя. И наконец, в противовес либеральным сторонникам реформы — лагерь, требовавший полной ликвидации крепостничества, литература «американского пути», объективно отражавшая собой интересы закрепощенного крестьянства. Так намечается дифференциация внутри русской литературы 60–х годов, так вскрываются в ней внутриклассовые противоречия, позволяющие установить пути социальной борьбы. Между Фетом и Тургеневым, бесспорно, существуют разногласия, но и тот и другой оказываются союзниками в борьбе против Чернышевского и народников. В новых формах на новом этапе развития эта борьба двух лагерей остается действенной на протяжении всей последующей поры вплоть до Октябрьской революции.
Реабилитации литературы, ратовавшей за «американский путь» развития, Ленин уделил особенно много внимания. Его оценки Белинского, Герцена, Чернышевского, народников кратки и отрывочны, но в сочетании со всей исторической концепцией Ленина они, бесспорно, намечают основные этапы борьбы за крестьянство, которые должны стать путеводными вехами истории русской литературы.
6. Воззрения Ленина на отдельных русских писателей
Последовательными сторонниками «американского пути» развития страны Ленин считал Белинского и Герцена. Доказывая, что только «социал–демократия» — разумеется, конечно, большевизм — может быть идеологическим гегемоном всего революционного в стране, он писал:
«…Мы хотим лишь указать, что роль передового борца может выполнить только партия, руководимая передовой теорией. А чтобы хоть сколько–нибудь конкретно представить себе, что это означает, пусть читатель вспомнит о таких предшественниках русской социал–демократии, как Герцен, Белинский, Чернышевский и блестящая плеяда революционеров 70–х годов; пусть подумает о том всемирном значении, которое приобретает теперь русская литература; пусть… да довольно и этого!»56
Белинский интересует Ленина прежде всего как один из провозвестников демократической мысли.
«Его (Белинского. — А. Л.) знаменитое «Письмо к Гоголю», подводившее итог литературной деятельности Белинского, было одним из лучших произведений бесцензурной демократической печати, сохранивших громадное, живое значение и по сию пору».57
И для Ленина Белинский совершенно так же, как позднейшие революционные народники, есть выразитель начавшегося протеста и борьбы крестьянства. Критикуя сборник «Вехи», он говорит:
«Письмо Белинского к Гоголю, вещают «Вехи», есть «пламенное и классическое выражение интеллигентского настроения» (56). «История нашей публицистики, начиная после Белинского, в смысле жизненного разумения — сплошной кошмар» (82).
Так, так. Настроение крепостных крестьян против крепостного права, очевидно, есть «интеллигентское» настроение. История протеста и борьбы самых широких масс населения с 1861 по 1905 год против остатков крепостничества во всем строе русской жизни есть, очевидно, «сплошной кошмар». Или, может быть, по мнению наших умных и образованных авторов, настроение Белинского в письме к Гоголю не зависело от настроения крепостных крестьян? История нашей публицистики не зависела от возмущения народных масс остатками крепостнического гнета?»58
Из великих предшественников той величайшей мировой революции, в которой первую роль сыграл сам Ленин, больше всех уделено внимания А. И. Герцену. О нем он писал чаще всего и ярче всего. При этом повезло и нам, ибо в отзывах Ленина о Герцене дается непревзойденно блестящий образец анализа революционера–писателя, в котором не забыты существенные недостатки его деятельности, но отнюдь не раздуты до таких размеров, чтобы отречься от оставленного предшественником наследства. Мы часто видим теперь, как молодые литературоведы, анализируя того или другого великого передового художника прошлого или настоящего, который не сумел подняться над всеми предрассудками своего класса, не сумел добиться полной чистоты идеологических воззрений, с какой–то особенной страстью стараются подчеркнуть и преувеличить эти недостатки, словно меньше радуясь помощи, которую нам приносит такой человек, чем опасаясь видеть в его лице какого–то конкурента. Такое «левацкое» отношение к наследству столь же вредно, сколь и правооппортунистическое замалчивание недостатков и недомыслий подобных «союзников».
Герцен, как и всякий иной писатель, являлся для Ленина продуктом своего времени.
«Духовная драма Герцена была порождением и отражением той всемирно–исторической эпохи, когда революционность буржуазной демократии уже умирала (в Европе), а революционность социалистического пролетариата еще не созрела».59
Статья о великом революционере прошлого, написанная к столетию со дня его рождения, открывается установлением классовой принадлежности Герцена во всей ее огромной сложности.
«Герцен принадлежал к поколению дворянских, помещичьих революционеров первой половины прошлого века. Дворяне дали России Биронов и Аракчеевых, бесчисленное количество «пьяных офицеров, забияк, картежных игроков, героев ярмарок, псарей, драчунов, секунов, серальников», да прекраснодушных Маниловых. «И между ними, — писал Герцен, — развились люди 14 декабря, фаланга героев, выкормленных, как Ромул и Рем, молоком дикого зверя… Это какие–то богатыри, кованные из чистой стали с головы до ног, воины–сподвижники, вышедшие сознательно на явную гибель, чтобы разбудить к новой жизни молодое поколение и очистить детей, рожденных в среде палачества и раболепия».
К числу таких детей принадлежал Герцен. Восстание декабристов разбудило и «очистило» его. В крепостной России 40–х годов XIX века он сумел подняться на такую высоту, что встал в уровень с величайшими мыслителями своего времени. Он усвоил диалектику Гегеля. Он понял, что она представляет из себя «алгебру революции». Он пошел дальше Гегеля, к материализму, вслед за Фейербахом. Первое из «Писем об изучении природы» — «Эмпирия и идеализм», — написанное в 1844 году, показывает нам мыслителя, который, даже теперь, головой выше бездны современных естествоиспытателей–эмпириков и тьмы тем нынешних философов, идеалистов и полуидеалистов. Герцен вплотную подошел к диалектическому материализму и остановился перед — историческим материализмом».60
В социальной личности Герцена положительные черты неразрывно сплетаются с отрицательными. Он почти дошел до диалектического материализма, но остановился, не сумев овладеть его методом.
«Эта «остановка» и вызвала духовный крах Герцена после поражения революции 1848 года. Герцен покинул уже Россию и наблюдал эту революцию непосредственно. Он был тогда демократом, революционером, социалистом. Но его «социализм» принадлежал к числу тех бесчисленных в эпоху 48–го года форм и разновидностей буржуазного и мелкобуржуазного социализма, которые были окончательно убиты июньскими днями. В сущности, это был вовсе не социализм, а прекраснодушная фраза, доброе мечтание, в которое облекала свою тогдашнюю революционность буржуазная демократия, а равно невысвободившийся из–под ее влияния пролетариат.
Духовный крах Герцена, его глубокий скептицизм и пессимизм после 1848 года был крахом буржуазных иллюзий в социализме».61
Герцен взят Лениным во всей сложности своих внутренних противоречий. С одной стороны,
«Герцен создал вольную русскую прессу за границей — в этом его великая заслуга. «Полярная звезда» подняла традицию декабристов. «Колокол» (1857–1867) встал горой за освобождение крестьян. Рабье молчание было нарушено».62
С другой — в нем сильны реакции старого, оставившие отпечаток на всем его мировоззрении.
«Но Герцен принадлежал к помещичьей, барской среде. Он покинул Россию в 1847 г., он не видел революционного народа и не мог верить в него. Отсюда его либеральная апелляция к «верхам». Отсюда его бесчисленные слащавые письма в «Колоколе» к Александру II Вешателю, которых нельзя теперь читать без отвращения. Чернышевский, Добролюбов, Серно–Соловьевич, представлявшие новое поколение революционеров–разночинцев, были тысячу раз правы, когда упрекали Герцена за эти отступления от демократизма к либерализму».
Однако Ленин тотчас же оговаривается, что в этих противоречиях ведущим началом была все же его революционность.
«Однако справедливость требует сказать, что, при всех колебаниях Герцена между демократизмом и либерализмом, демократ все же брал в нем верх».63
И Ленин подтверждает это свое суждение рядом сверкающих цитат из сочинений Герцена, в которых сказывается его ненависть к господствующему режиму, его презрение к либералам кавелинского и тургеневского типа. Он гневно протестует против желания либералов примазаться к Герцену, расхвалить в нем слабое, замолчать сильное, ив конце своего вдохновенного слова о Герцене он рисует с титаническим мастерством и захватывающей силой картину всего движения от начала дворянской революции до начала пролетарской.
«Чествуя Герцена, мы видим ясно три поколения, три класса, действовавшие в русской революции. Сначала — дворяне и помещики, декабристы и Герцен. Узок круг этих революционеров. Страшно далеки они от народа. Но их дело не пропало. Декабристы разбудили Герцена. Герцен развернул революционную агитацию.
Ее подхватили, расширили, укрепили, закалили революционеры–разночинцы, начиная с Чернышевского и кончая героями «Народной воли». Шире стал круг борцов, ближе их связь с народом. «Молодые штурманы будущей бури» — звал их Герцен. Но это не была еще сама буря.
Буря, это — движение самих масс. Пролетариат, единственный до конца революционный класс, поднялся во главе их и впервые поднял к открытой революционной борьбе миллионы крестьян. Первый натиск бури был в 1905 году. Следующий начинает расти на наших глазах».64
Большим сочувствием Ленина пользовались также Некрасов и Салтыков–Щедрин, два писателя прошлого, как и Герцен, вышедшие из дворянства, но гораздо теснее сомкнувшиеся с рядами борцов за «американский путь». Биографически Некрасов — очень пестрая личность: по происхождению — дворянин, по значительному периоду своей молодости — интеллигент–пролетарий, по своей журнально–издательской практике — во многом представитель крупнобуржуазных приемов. Тут можно нагородить очень много всякой психологии, и мы вовсе не говорим, что такой подробный разбор формирования личности Некрасова и противоречий уже сформировавшейся личности, которых Ленин отнюдь не отрицает и которые даже подчеркивает, не имеет никакого значения. Но все это в глазах Ленина второстепенно. На первом плане для него стоит то, что Некрасов, как и Салтыков, — выразители интересов крестьянства, что свой великий талант они развернули, отточили, использовали для защиты «американского пути» развития русской революции.
И Некрасова и Салтыкова–Щедрина Ленин высоко ценил как срывателей масок с крепостнической России.
«Еще Некрасов и Салтыков, — писал он в статье «Памяти графа Гейдена», — учили русское общество различать под приглаженной и напомаженной внешностью образованности крепостника–помещика его хищные интересы, учили ненавидеть лицемерие и бездушие подобных типов, а современный российский интеллигент, мнящий себя хранителем демократического наследства, принадлежащий к кадетской партии или к кадетским подголоскам, учит народ хамству и восторгается своим беспристрастием беспартийного демократа. Зрелище едва ли не более отвратительное, чем зрелище подвигов Дубасова и Столыпина…»65
На творчество Некрасова Ленин опирался и в борьбе против современных либералов.
«Дело идет о далеком прошлом. И в то же время тогдашнее и теперешнее отношение либералов («с виду и чиновников душой») к классовой борьбе — явление одного порядка».66
Или еще более сильная по своей саркастичности цитата из статьи «Еще один поход на демократию»:
«Особенно нестерпимо бывает видеть, когда субъекты, вроде Щепетева, Струве, Гредескула, Изгоева и прочей кадетской братии, хватаются за фалды Некрасова, Щедрина и т. п. Некрасов колебался, будучи лично слабым, между Чернышевским и либералами, но все симпатии его были на стороне Чернышевского. Некрасов по той же личной слабости грешил нотками либерального угодничества, но сам же горько оплакивал свои «грехи» и публично каялся в них:
Не торговал я лирой, но бывало,
Когда грозил неумолимый рок,
У лиры звук неверный исторгала
Моя рука…
«Неверный звук» — вот как называл сам Некрасов свои либерально–угоднические грехи. А Щедрин беспощадно издевался над либералами и навсегда заклеймил их формулой: «применительно к подлости»».67
Эта цитата чрезвычайно ярко характеризует и Некрасова и Щедрина как союзников революционной крестьянской демократии, возглавляемой Чернышевским, как злейших врагов буржуазно–дворянских либералов, то есть, пользуясь ленинской формулой, как сторонников «американского пути».
Салтыков–Щедрин происходил из крупного дворянского рода, был крупным царским чиновником, но все это стерто тем великолепным фактом, что Салтыков проникся жгучей ненавистью и острым презрением к крепостному праву, царизму, бюрократии, что он перенес эти чувства также на всех либеральных болтунов, что он чувствовал глубочайшее уважение к революционерам и что в своих гениальных картинах русской действительности он беспощадно и с непревзойденной меткостью изображал эту действительность, клеймил ее пороки и звал к борьбе с нею.
Салтыков–Щедрин был одним из самых любимых писателей Ленина. Об этом говорят единогласные свидетельства мемуаристов. Никем не пользовался Ленин так часто в качестве источника блестящих беллетристических иллюстраций к своим страстным статьям, как именно Салтыковым. Последний цитируется даже в таких, казалось бы, сугубо исследовательских работах, как «Развитие капитализма в России» или «Аграрный вопрос и критики Маркса».
«Без того, чтобы такую задачу (материалистического истолкования гегелевской диалектики. — А. Л.) себе поставить и систематически ее выполнять, материализм не может быть воинствующим материализмом. Он останется, употребляя щедринское выражение, не столько сражающимся, сколько сражаемым».68 «Как это не тошнит людей от этого — употребляю щедринское выражение — языкоблудия?»69
На страницах сочинений Ленина фигурируют почти все щедринские герои в новых своих политических обличиях. Здесь мы встретим и помпадуров, разглагольствующих на либеральный манер, и Угрюм–Бурчеевых, ставших видными сановниками с черносотенными убеждениями, и Карася–идеалиста, оказавшегося мелким обывателем, и Премудрого пискаря, и забитого и задавленного Конягу–крестьянина. Галерея этих образов заключается красноречивой фигурой Порфирия Головлева. Щедринского Иудушку Ленин вспоминает особенно охотно.
«Это — иудушка, который пользуется своими крепостническими симпатиями и связями для надувания рабочих и крестьян, проводя под видом «охраны экономически слабого» и «опеки» над ним в защиту от кулака и ростовщика такие мероприятия, которые низводят трудящихся в положение «подлой черни», отдавая их головой крепостнику–помещику и делая тем более беззащитными против буржуазии».70
Этот зловещий образ помещика–крепостника у Ленина особенно част. В эпоху подавления революции 1905 года и торжества дворянской реакции Ленин восклицает:
«Жаль, что не дожил Щедрин до «великой» российской революции. Он прибавил бы, вероятно, новую главу к «Господам Головлевым», он изобразил бы Иудушку, который успокаивает высеченного, избитого, голодного, закабаленного мужика: ты ждешь улучшения? Ты разочарован отсутствием перемены в порядках, основанных на голоде, на расстреливании народа, на розге и нагайке? Ты жалуешься на «отсутствие фактов»? Неблагодарный! Но ведь это отсутствие фактов и есть факт величайшей важности! Ведь это сознательный результат вмешательства твоей воли, что Лидвали по–прежнему хозяйничают, что мужики спокойно ложатся под розги, не предаваясь зловредным мечтам о «поэзии борьбы».71
Приводимые нами цитаты — замечательный пример того, как умел Ленин использовать в своей публицистике образы художественной литературы. В его сочинениях мы найдем массу литературных цитат из Тургенева, Гоголя, Грибоедова, Крылова, народников, Чехова и др. Салтыкову принадлежит среди них первое место, и это, разумеется, всецело должно быть объяснено сатирической остротой творчества этого виднейшего борца за «американский путь».
Особенно значительны были симпатии Ленина к Чернышевскому, публицисту, которого он также неоднократно цитировал в своих сочинениях на текущие политические темы.
«Мы помним, как полвека тому назад великорусский демократ Чернышевский, отдавая свою жизнь делу революции, сказал: «жалкая нация, нация рабов, сверху донизу — все рабы». Откровенные и прикровенные рабы–великороссы (рабы по отношению к царской монархии) не любят вспоминать об этих словах. А, по–нашему, это были слова настоящей любви к родине…»72 «Современным «социал–демократам», оттенка Шейдемана или, что почти одно и то же, Мартова, так же претят Советы, их так же тянет к благопристойному буржуазному парламенту, или к Учредительному собранию, как Тургенева 60 лет тому назад тянуло к умеренной монархической и дворянской конституции, как ему претил мужицкий демократизм Добролюбова и Чернышевского».73 «Историческая деятельность — не тротуар Невского проспекта, говорил великий русский революционер Чернышевский. Кто «допускает» революцию пролетариата лишь «под условием», чтобы она шла легко и гладко, чтобы было сразу соединенное действие пролетариев разных стран, чтобы была наперед дана гарантия от поражений, чтобы дорога революции была широка, свободна, пряма, чтобы не приходилось временами, идя к победе, нести самые тяжелые жертвы, «отсиживаться в осажденной крепости» или пробираться по самым узким, непроходимым, извилистым и опасным горным тропинкам, — тот не революционер, тот не освободил себя от педантства буржуазной интеллигенции, тот на деле окажется постоянно скатывающимся в лагерь контрреволюционной буржуазии, как наши правые эсеры, меньшевики и даже (хотя и реже) левые эсеры».74
К этим цитатам — их легко было бы умножить — необходимо присовокупить свидетельство Н. К. Крупской о чрезвычайно положительном отношении Ленина к беллетристике Чернышевского.
«…Он любил роман Чернышевского «Что делать?», несмотря на малохудожественную, наивную форму его. Я была удивлена, как внимательно читал он этот роман и какие тончайшие штрихи, которые есть в этом романе, он отметил».75
Нет никакого сомнения в том, что в симпатиях Ленина к Чернышевскому была своего рода преемственность двух гениальных революционеров, что Ленин высоко ценил Чернышевского как одного из самых замечательных предшественников марксизма.
«…Чернышевский заразил его своей непримиримостью в отношении либерализма. Недоверие к либеральным фразам, ко всей позиции либерализма проходит красной нитью через всю деятельность Ленина. Если возьмем сибирскую ссылку, протест против «Кредо», возьмем разрыв со Струве, затем непримиримую позицию, которую Ленин занял по отношению к кадетам, по отношению к ликвидаторам–меньшевикам, которые были готовы пойти на сделку с кадетами, мы видим, что Владимир Ильич держался той же непримиримой линии, которой держался Чернышевский по отношению к либералам, предавшим крестьянство во время реформы 1861 года… Давая оценку буржуазно–либеральному демократизму и демократизму обуржуазившегося народничества 80–х годов, примирившегося с царизмом, Ленин противопоставлял ему демократизм революционного марксизма. Чернышевский дал образец непримиримой борьбы с существовавшим строем, борьбы, где демократизм был неразрывно связан с борьбой за социализм».76
В лице Чернышевского Ленин чтил одного из упорнейших и славнейших борцов за интересы обманутого крестьянства, и не случайно в своей ранней публицистической работе он раскрывает смысл крестьянской реформы устами Волгина, героя романа Чернышевского «Пролог к прологу», в уста которого Чернышевский вложил свои мысли (см., например, «Что такое «друзья народа»…»).77
Чрезвычайно высокой была и ленинская оценка русских народников 60–70–х годов. Оценка эта была более положительной, чем оценка Л. Толстого, ибо народники, выражая собою те же крестьянские чаяния, стояли на левом фланге тогдашней общественности. Это, однако, не мешало Ленину отмечать ту степень двойственности произведений этих великих революционных демократов, которая не могла не быть им присуща, ибо лишенной исторической двойственности может явиться только точка зрения пролетариата, а в области художественной литературы — только пролетарская литература.
Отличительной и оригинальной особенностью суждений Ленина о народниках–беллетристах было то, что он поставил характеристику крупнейших писателей–народников, этого чрезвычайно значительного революционно–демократического отряда, в непосредственную зависимость от того глубокого анализа путей русской революции, который мы уже приводили выше. Народники для Ленина прежде всего — последовательные представители сил, заинтересованных в торжестве «американского» революционного пути развития. Как известно, основной силой, заинтересованной в этом, было в то время крестьянство. Из ленинской характеристики своеобразного великого писателя крестьянства Л. Толстого мы увидим ниже, что крестьянство в сознании своем отнюдь не было целиком революционным, что в нем живучи были утопические реакционные тенденции.
Народники были вождями крестьянства в том смысле, что они умели в лучшую свою эпоху, до своей легализации и опошления, которое началось уже с Михайловским, представлять интересы крестьянства в несравненно более чистом виде, чем Л. Толстой. Народники были революционно–демократическими представителями крестьянства. В своей статье о Михайловском78 Ленин дает общую характеристику народников. Из характеристики, которую мы приводим ниже, явствует, что Михайловский был уже упадочным типом народника, несравненно уступающим великим представителям народничества. Но характеристика эта говорит только об этих отрогах горного хребта революционного народничества, обладавшего такими импонирующими вершинами, как Чернышевский. Ленин много и ожесточенно боролся с эпигонами народничества, всеми средствами охаивавшими марксизм (см. статьи его «Что такое «друзья народа»…», «Экономическое содержание народничества», «От какого наследства мы отказываемся» и др.). Но, разоблачая реакционность этого течения в эпоху возникновения марксизма, он ни в какой мере не склонен был умалять силу той социалистической пропаганды, которую вели в 60–70–е годы эти идеологи крестьянского социализма. Социалистический утопизм мелкобуржуазных революционеров показывает напряженность их оппозиционной мысли и приближает их к нам. Это отразилось на всех высказываниях Ленина о народниках:
«Михайловский был одним из лучших представителей и выразителей взглядов русской буржуазной демократии в последней трети прошлого века. Крестьянская масса, которая является в России единственным серьезным и массовым (не считая городской мелкой буржуазии) носителем буржуазно–демократических идей, тогда еще спала глубоким сном. Лучшие люди из ее среды и люди, полные симпатий к ее тяжелому положению, так называемые разночинцы — главным образом учащаяся молодежь, учителя и другие представители интеллигенции, — старались просветить и разбудить спящие крестьянские массы.
Великой исторической заслугой Михайловского в буржуазно–демократическом движении в пользу освобождения России было то, что он горячо сочувствовал угнетенному положению крестьян, энергично боролся против всех и всяких проявлений крепостнического гнета, отстаивал в легальной, открытой печати — хотя бы намеками сочувствие и уважение к «подполью», где действовали самые последовательные и решительные демократы разночинцы, и даже сам помогал прямо этому подполью».79
Лучшие народники, революционеры типа Чернышевского и Добролюбова, писатели типа Успенского и Салтыкова были непреклонными и непримиримыми сторонниками демократической революции. Это не значило, однако, что, будучи наиболее последовательными выразителями истинных интересов массового крестьянства, какие только могли в то время существовать, они не впадали в серьезнейшие заблуждения. Прежде всего они идеализировали крестьянство, часто не понимая таящихся в нем внутренних противоречий. Они не понимали также того, что на чисто крестьянской почве возможна лишь буржуазная революция, хотя и весьма решительная, весьма «плебейская». Они старались навязать крестьянству общинный социализм. Само собой разумеется, как неоднократно отмечал Ленин, этот социализм не мог не быть совершенно утопическим с точки зрения своей осуществимости и не мог не быть в то же время половинчатым, мутным по самому своему характеру. Ленин сочувственно цитирует в этом отношении одного из первых русских марксистов, И. А. Гурвича:
«Народник 70–х годов, — очень метко говорит Гурвич, — не имел никакого представления о классовом антагонизме внутри самого крестьянства, ограничивая этот антагонизм исключительно отношениями между «эксплуататором» — кулаком или мироедом — и его жертвой, крестьянином, пропитанным коммунистическим духом. Глеб Успенский одиноко стоял со своим скептицизмом, отвечая иронической улыбкой на общую иллюзию. Со своим превосходным знанием крестьянства и со своим громадным артистическим талантом, проникавшим до самой сути явлений, он не мог не видеть, что индивидуализм сделался основой экономических отношений не только между ростовщиком и должником, но между крестьянами вообще».80
К Успенскому Ленин относился с особенной любовью. В «Развитии капитализма в России» дается характеристика Кавказа со ссылкой на очерки этого народника:
«Страна, слабо заселенная в начале пореформенного периода или заселенная горцами, стоявшими в стороне от мирового хозяйства и даже в стороне от истории, превращалась в страну нефтепромышленников, торговцев вином, фабрикантов пшеницы и табака, и господин Купон безжалостно переряживал гордого горца из его поэтичного национального костюма в костюм европейского лакея…»81
Ряд образов, взятых из произведений Успенского, бытует в ленинской публицистике: герои «купона», будочник Мымрецов с его девизом «тащить и не пущать», «Иваны Непомнящие» и др. Ленин неоднократно отмечал, что Успенский не только вместе с другими наиболее радикальными народниками был последовательным демократическим революционером, но что он, в отличие от народников типа Златовратского, старавшихся в угоду своим чаяниям «препарировать» крестьянство под особым народническим соусом, прекрасно различал расслоение деревни и не только понимал все свойства деревенского кулака, но с величайшей тоской, доведшей его позднее до личной катастрофы, констатировал мелкособственнические тенденции всей толщи крестьянства и в этом отношении становился выше народничества, разлагал его иллюзии, к несчастью не видя тех новых путей, того «спасения», которое мог принести середняцкому и бедняцкому крестьянству пролетариат. В основе характеристики Успенского лежит та же теория отражения, которая, как мы увидим ниже, применена во всех статьях о Льве Толстом.
Характеризуя Успенского, Ленин повторяет тот же прием, который, как мы увидим сейчас, применен к Толстому. Для Плеханова, также писавшего о Гл. Успенском,82 последний — прежде всего мелкобуржуазный интеллигент. Это личное происхождение — сам по себе, может быть, интересный путь интеллигента Успенского к крестьянству — Ленин в своих общих статьях (специального труда Гл. Успенскому он не посвящал), можно сказать, игнорирует. Для него важно не это; для него доминирующим является тот факт, что Успенский всем существом стоит за «американский путь» развития, что он субъективно совершенно честно сдабривает его социалистическим утопизмом и что кроме того — это уже черта Успенского, выделяющая его среди его соратников, — он заражен тем скептицизмом к народничеству, который послужил бы великолепным переходом к марксизму, доживи Успенский до соответственной эпохи. Конечно, и здесь нельзя не отметить огромного таланта Успенского, который тоже в конце концов сводился к честности, беспощадности, страсти, свежести, наблюдательности и т. п.
Мы вовсе не хотим сказать, что проблема Успенского в целом исчерпана Лениным. Он первый зло посмеялся бы над подобным «ленивым» утверждением. Здесь, как и всюду в области литературоведения, предстоит проделать огромную работу; но эта работа может вестись только на базе ленинских указаний.
Но больше всего Ленин отдал внимания творчеству Л. Толстого. Что поражает в самом подходе Ленина к «великому писателю земли Русской»?83 Мы имеем немало исследований о Толстом, принадлежащих перу марксистов и написанных до и после статей Ленина. Среди них имеются такие ценные произведения, как статьи Плеханова.84 Все эти исследователи подходили, конечно, к Толстому с классовой точки зрения. Но как понимали они эту классовую точку зрения? Они видели в Толстом прежде всего представителя аристократического дворянства и пытались вывести толстовство исключительно из условий дворянского разорения и дворянской реакции на наступление капитала. «Мужиковство» Толстого являлось для них родом чудачества, своего рода утопической, заранее приготовленной позицией защитника барства, вынужденного отказаться от защиты первой оборонительной линии, то есть усадебной культуры и социального руководства класса помещиков. Конечно, во всем этом есть немалая доля истины. Такая точка зрения гораздо выше, чем попытка объяснить Толстого и толстовство «движением человеческой совести»,85 или объявить их результатом исключительной личной гениальности, или, как пытались в последние годы сделать формалисты, вывести творчество Толстого из формальных и бытовых условий современной ему литературной жизни.86 Но и эта относительно правильная точка зрения представляется бледной и тусклой, когда сравниваешь ее с гениальным анализом Ленина. Благодаря Ленину, Толстой не то чтобы перестал быть для нас отпрыском дворянства, но, оставляя это свое качество как мало серьезный исходный момент за собою, в исполинском росте своего творчества он оказался в глубоком соответствии с великим социальным моментом, которым это творчество определилось, и исполинскими размерами того, правда, противоречивого в своем сознании и неорганизованного класса, выразителем которого на самом деле явился этот «граф».
«Острая ломка всех «старых устоев» деревенской России обострила его внимание, углубила его интерес к происходящему вокруг него, привела к перелому всего его миросозерцания. По рождению и воспитанию Толстой принадлежал к высшей помещичьей знати в России, — он порвал со всеми привычными взглядами этой среды и, в своих последних произведениях, обрушился с страстной критикой на все современные государственные, церковные, общественные, экономические порядки, основанные на порабощении масс, на нищете их, на разорении крестьян и мелких хозяев вообще, на насилии и лицемерии, которые сверху донизу пропитывают всю современную жизнь».87
Социальный факт, лежавший в основе творчества Толстого, это, по Ленину, вся смена старой феодальной крепостнической России Россией капиталистической, а класс, который всей своей социальной психологией определил монументальную и в то же время глубоко противоречивую, одновременно революционную и реакционную идеологию Л. Толстого, это — крестьянство.
Ленин посвятил Толстому немало работ. Тут мы найдем статью «Лев Толстой, как зеркало русской революции», напечатанную первоначально в органе Петербургского и Московского комитетов РСДРП «Пролетарий» в Женеве в 1908 году, затем замечательный некролог Толстого, появившийся непосредственно после смерти великого писателя в центральном органе РСДРП «Социал–демократ»88 (обе статьи помещены без подписи), статью «Л. Н. Толстой и современное рабочее движение», напечатанную в газете «Наш путь» в 1910, «Герои «оговорочки», опубликованную в том же году в журнале «Мысль», клеймящую заигрывания с Толстым меньшевиков–ликвидаторов, которые оставили «поразительные образчики… беспринципности»,89 статью «Л. Н. Толстой и его эпоха», в некоторой степени резюмирующую идеи Ленина о Толстом и появившуюся в 1911 году в журнале «Звезда».
Из соображения большей стройности изложения взглядов Ленина на Толстого, имеющих огромное значение для дальнейших путей всего Литературоведения, мы остановимся вначале на этой последней статье. Здесь мы читаем:
«Эпоха, к которой принадлежит Л. Толстой и которая замечательно рельефно отразилась как в его гениальных художественных произведениях, так и в его учении, есть эпоха после 1861 и до 1905 года. Правда, литературная деятельность Толстого началась раньше и окончилась позже, чем начался и окончился этот период, но Л. Толстой вполне сложился, как художник и как мыслитель, именно в этот период, переходный характер которого породил все отличительные черты и произведений Толстого и «толстовщины».
Устами К. Левина в «Анне Карениной» Л. Толстой чрезвычайно ярко выразил, в чем состоял перевал русской истории за эти полвека.
«…Разговоры об урожае, найме рабочих и т. п., которые, Левин знал, принято считать чем–то очень низким, теперь для Левина казались одни важными. «Это, может быть, неважно было при крепостном праве, или неважно в Англии. В обоих случаях самые условия определены; но у нас теперь, когда все переворотилось и только укладывается, вопрос о том, как уложатся эти условия, есть единственный важный вопрос в России», — думал Левин».
«У нас теперь все это переворотилось и только укладывается», — трудно себе представить более меткую характеристику периода 1861–1905 годов (так комментирует Ленин в своей статье мысли толстовского героя. — А. Л.). То, что «переворотилось», хорошо известно, или, по крайней мере, вполне знакомо всякому русскому. Это — крепостное право и весь «старый порядок», ему соответствующий. То, что «только укладывается», совершенно незнакомо, чуждо, непонятно самой широкой массе населения. Для Толстого этот «только укладывающийся» буржуазный строй рисуется смутно в виде пугала — Англии. Именно: пугала, ибо всякую попытку выяснить себе основные черты общественного строя в этой «Англии», связь этого строя с господством капитала, с ролью денег, с появлением и развитием обмена, Толстой отвергает, так сказать, принципиально. Подобно народникам, он не хочет видеть, он закрывает глаза, отвертывается от мысли о том, что «укладывается» в России никакой иной, как буржуазный строй.
Справедливо, что если не «единственно важным», то важнейшим с точки зрения ближайших задач всей общественно–политической деятельности в России для периода 1861–1905 годов (да и для нашего времени) был вопрос, «как уложится» этот строй, буржуазный строй, принимающий весьма разнообразные формы в «Англии», Германии, Америке, Франции и т. д. Но для Толстого такая определенная, конкретно–историческая постановка вопроса есть нечто совершенно чуждое. Он рассуждает отвлеченно, он допускает только точку зрения «вечных» начал нравственности, вечных истин религии, не сознавая того, что эта точка зрения есть лишь идеологическое отражение старого («переворотившегося») строя, строя крепостного, строя жизни восточных народов».90
Совершенно определенно подчеркивая, что учение Толстого надо считать социалистическим, Ленин в то же время, однако, считает его утопическим и реакционным. Он говорит об этом:
«Вот именно идеологией восточного строя, азиатского строя и является толстовщина в ее реальном историческом содержании. Отсюда и аскетизм, и непротивление злу насилием, и глубокие нотки пессимизма, и убеждение, что «все — ничто, все — материальное ничто» («О смысле жизни», стр. 52), и вера в «Дух», «начало всего», по отношению к каковому началу человек есть лишь «работник», «приставленный к делу спасения своей души», и т. д.».91
«Пессимизм, непротивленство, апелляция к «Духу» есть идеология, неизбежно появляющаяся в такую эпоху, когда весь старый строй «переворотился» и когда масса, воспитанная в этом старом строе, с молоком матери впитавшая в себя начала, привычки, традиции, верования этого строя, не видит и не может видеть, каков «укладывающийся» новый строй, какие общественные силы и как именно его «укладывают», какие общественные силы способны принести избавление от неисчислимых, особенно острых бедствий, свойственных эпохам «ломки»».92 «Учение Толстого безусловно утопично и, по своему содержанию, реакционно в самом точном и в самом глубоком значении этого слова. Но отсюда вовсе не следует ни того, чтобы это учение не было социалистическим, ни того, чтобы в нем не было критических элементов, способных доставлять ценный материал для просвещения передовых классов».93
В этой же статье, написанной уже после того, как всевозможные либералы, народники и мистики пытались использовать большое движение, вызванное смертью Льва Толстого, в своих целях, Ленин особенно резко подчеркивает, что значение социального содержания толстовства относится к прошлому и что для настоящего вся сущность этого учения является отрицательной, а всякое кокетничанье с толстовством является для сторонника пролетарского миросозерцания настоящим преступлением.
«Четверть века тому назад критические элементы учения Толстого могли на практике приносить иногда пользу некоторым слоям населения вопреки реакционным и утопическим чертам толстовства. В течение последнего, скажем, десятилетия это не могло быть так, потому что историческое развитие шагнуло не мало вперед с 80–х годов до конца прошлого века. А в наши дни, после того, как ряд указанных выше событий положил конец «восточной» неподвижности, в наши дни, когда такое громадное распространение получили сознательно–реакционные, в узкоклассовом, в корыстно–классовом смысле реакционные идеи «веховцев» среди либеральной буржуазии, — когда эти идеи заразили даже часть почитай–что марксистов, создав «ликвидаторское» течение, — в наши дни всякая попытка идеализации учения Толстого, оправдания или смягчения его «непротивленства», его апелляций к «Духу», его призывов к «нравственному самоусовершенствованию», его доктрины «совести» и всеобщей «любви», его проповеди аскетизма и квиетизма и т. п. приносит самый непосредственный и самый глубокий вред».94
Статья «Толстой и его эпоха» дает твердое и ясное резюме, общую оценку Толстого как со стороны генетической, то есть с точки зрения сил, породивших творчество Толстого, так и с точки зрения функциональной, то есть в смысле того действия, которое сочинения Толстого могли иметь в разные эпохи своего существования. Это, однако, не значит, чтобы другие статьи Ленина были, так сказать, покрыты и сняты вышеуказанной статьей. Содержание их богато и нуждается в особом изучении. Первая по времени напечатанная статья «Лев Толстой, как зеркало русской революции» идет несколько иным путем, чем только что цитированная. В последней резюмирующей статье Ленин исходит из определения и характеристики эпохи. Методологически он учит здесь при подходе к действительно крупному и социально значительному литературному явлению — установить точно его живую, общественную хронологию, то есть ту связь социальных явлений, которая является исторической почвой исследуемого объекта. Далее, надо ухватить основное звено в этом переплете событий и найти, как именно оно, это доминирующее звено, отразилось в доминирующих же чертах идеологии, а тем самым, конечно, и форме исследуемых произведений. Но как раз практика первой статьи Ленина о Толстом учит о возможности иного подхода. Здесь Ленин начинает с гениального анализа структуры самого творчества Толстого, вскрытия его основного характера и его основных противоречий, и, уже отсюда исходя, делается экскурсия в область тех социальных условий, которые породили и не могли не породить такой результат.
Он начинает с изложения противоречий, заложенных в учении Толстого: нельзя, не удастся
«заглушить потребность прямого и ясного ответа на вопрос: чем вызываются кричащие противоречия «толстовщины», какие недостатки и слабости нашей революции они выражают?
Противоречия в произведениях, взглядах, учениях, в школе Толстого — действительно кричащие. С одной стороны, гениальный художник, давший не только несравненные картины русской жизни, но и первоклассные произведения мировой литературы. С другой стороны — помещик, юродствующий во Христе. С одной стороны, замечательно сильный, непосредственный и искренний протест против общественной лжи и фальши, — с другой стороны, «толстовец», т. е. истасканный, истеричный хлюпик, называемый русским интеллигентом, который, публично бия себя в грудь, говорит: «я скверный, я гадкий, но я занимаюсь нравственным самоусовершенствованием; я не кушаю больше мяса и питаюсь теперь рисовыми котлетками». С одной стороны, беспощадная критика капиталистической эксплуатации, разоблачение правительственных насилий, комедии суда и государственного управления, вскрытие всей глубины противоречий между ростом богатства и завоеваниями цивилизации и ростом нищеты, одичалости и мучений рабочих масс; с другой стороны, — юродивая проповедь «непротивления злу» насилием. С одной стороны, самый трезвый реализм, срывание всех и всяческих масок; — с другой стороны, проповедь одной из самых гнусных вещей, какие только есть на свете, именно: религии, стремление поставить на место попов по казенной должности попов по нравственному убеждению, т. е. культивирование самой утонченной и потому особенно омерзительной поповщины. Поистине:
Ты и убогая, ты и обильная,
Ты и могучая, ты и бессильная
— Матушка Русь!»95
Отметив далее, что в этой странной мешанине никоим образом нельзя видеть зеркала русской рабочей революции, Ленин ищет, какая же именно революция отразилась в этом мутном и неровном зеркале, и говорит:
«…Противоречия во взглядах и учениях Толстого не случайность, а выражение тех противоречивых условий, в которые поставлена была русская жизнь последней трети XIX века. Патриархальная деревня, вчера только освободившаяся от крепостного права, отдана была буквально на поток и разграбление капиталу и фиску. Старые устои крестьянского хозяйства и крестьянской жизни, устои, действительно державшиеся в течение веков, пошли на слом с необыкновенной быстротой».
Основным двигателем толстовского творчества является, по Ленину, протест «против надвигающегося капитализма, разорения и обезземеления масс, который должен был быть порожден патриархальной русской деревней». Этим определяется и значение писателя.
«Толстой смешон, как пророк, открывший новые рецепты спасения человечества, — и поэтому совсем мизерны заграничные и русские «толстовцы», пожелавшие превратить в догму как раз самую слабую сторону его учения. Толстой велик, как выразитель тех идей и тех настроений, которые сложились у миллионов русского крестьянства ко времени наступления буржуазной революции в России. Толстой оригинален, ибо совокупность его взглядов, взятых как целое, выражает как раз особенности нашей революции, как крестьянской буржуазной революции».96
Протест этот породнил его с крестьянством, и могучая стихия крестьянских настроений овладела Толстым.
Но являются ли эти позиции подлинно революционными? Нет, они двойственны, и раскрытие последнего производится Лениным при помощи того же диалектического анализа.
«С одной стороны, — говорит Ленин, — века крепостного гнета и десятилетия форсированного пореформенного разорения накопили горы ненависти, злобы и отчаянной решимости». — «С другой стороны, крестьянство, стремясь к новым формам общежития, относилось очень бессознательно, патриархально, по–юродивому, к тому, каково должно быть это общежитие, какой борьбой надо завоевать себе свободу, какие руководители могут быть у него в этой борьбе, как относится к интересам крестьянской революции буржуазия и буржуазная интеллигенция, почему необходимо насильственное свержение царской власти для уничтожения помещичьего землевладения. Вся прошлая жизнь крестьянства научила его ненавидеть барина и чиновника, но не научила и не могла научить, где искать ответа на все эти вопросы».
Лишь небольшая часть крестьянства разрешала эти противоречия в революционную сторону.
«Большая часть крестьянства плакала и молилась, резонерствовала и мечтала, писала прошения и посылала «ходателей», — совсем в духе Льва Николаевича Толстого!»97
И резюме:
«Толстой отразил накипевшую ненависть, созревшее стремление к лучшему, желание избавиться от прошлого, — и незрелость мечтательности, политической невоспитанности, революционной мягкотелости».98
Наиболее тепло, наиболее положительно для Толстого написан Лениным его некролог. Было бы, однако, огромной ошибкой представлять себе, будто, растроганный, так сказать, фактом смерти великого старца, Владимир Ильич немножко перегнул палку в сторону положительной оценки. Эта оценка, как и все другие у Ленина, многостороння и диалектична. Если в цитированной нами выше последней статье Ленина о Толстом особенно подчеркнуто предостережение от увлечений толстовством в какой бы то ни было дозе, то из этого всего не следует, что этим самым зачеркиваются те высокие похвалы, та высокая оценка художественных произведений Толстого, которая дана в некрологе. Автор «Анны Карениной» и народных рассказов рисует
«Россию, оставшуюся и после 1861 года в полукрепостничестве, Россию деревенскую, Россию помещика и крестьянина. Рисуя эту полосу в исторической жизни России, Л. Толстой сумел поставить в своих работах столько великих вопросов, сумел подняться до такой художественной силы, что его произведения заняли одно из первых мест в мировой художественной литературе. Эпоха подготовки революции в одной из стран, придавленных крепостниками, выступила, благодаря гениальному освещению Толстого, как шаг вперед в художественном развитии всего человечества».99
Эта оценка содержит утверждение огромной методологической ценности. «Шаг вперед в художественном развитии всего человечества» признается здесь результатом двух факторов. Основным является гигантский материал, так сказать напрашивающийся на то, чтобы быть художественно выраженным. Такого порядка великий общественный материал, имеющий общечеловеческую ценность, как видно из слов Ленина, оказывается налицо там, где в широкой мере подготовляется глубокая революция. Вторым фактором является «гениальное освещение», то есть высокое художественное оформление этого материала. Отсюда можно сделать такой вывод: если налицо дан биологический гений, то есть вся та сумма природных дарований, которой, скажем, обладал Л. Толстой, но не дан великий социальный материал, — то человеческое искусство не сделает шага вперед: в лучшем случае мы будем иметь искусного мастера формы, который повторит какие–нибудь зады или, за отсутствием содержания, пустится в формальные изощрения. Ну, а если великое содержание дано, а нет подходящего гения? Такая постановка вопроса неправильна. Во–первых, как видно уже из высказываний самого Ленина, не один Толстой воспользовался вышеуказанным великим материалом: если называть только писателей первоклассных, то, не отходя от характеристик самого Ленина, можно указать на Салтыкова–Щедрина и на Глеба Успенского. Вообще же вопрос о наличии гениального рупора для уже складывающегося в недрах общества нового образа мыслей и чувств разрешается тем обстоятельством, что биологически количество талантливости, количество дарований с точки зрения натуральной должно быть во всякую данную эпоху приблизительно равным, но только эпохи глухие, серые приводят большинство своих дарований к увяданию, эпохи же яркие, революционные (в особенности в период подготовки революции), когда художественно–идеологические формулировки оказываются единственно возможными, так как для активного политического творчества в широких формах время еще не пришло, выделяют особо большое количество талантов, богато оплодотворенных самой эпохой.
Дальше следуют у Ленина многознаменательные строки во славу Толстого:
«Толстой–художник известен ничтожному меньшинству даже в России. Чтобы сделать его великие произведения действительно достоянием всех, нужна борьба и борьба против такого общественного строя, который осудил миллионы и десятки миллионов на темноту, забитость, каторжный труд и нищету, нужен социалистический переворот.
И Толстой не только дал художественные произведения, которые всегда будут ценимы и читаемы массами, когда они создадут себе человеческие условия жизни, свергнув иго помещиков и капиталистов, — он сумел с замечательной силой передать настроение широких масс, угнетенных современным порядком, обрисовать их положение, выразить их стихийное чувство протеста и негодования».100
В то же самое время Ленин ни на мгновение не закрывает глаз на ограниченность Толстого. Он говорит:
«Но горячий протестант, страстный обличитель, великий критик обнаружил вместе с тем в своих произведениях такое непонимание причин кризиса и средств выхода из кризиса, надвигавшегося на Россию, которое свойственно только патриархальному, наивному крестьянину, а не европейски–образованному писателю».101
В некрологе мы еще имеем одно чрезвычайно важное для всего нашего литературоведения положение.
«…Правильная оценка Толстого, — пишет Ленин, — возможна только с точки зрения того класса, который своей политической ролью и своей борьбой во время первой развязки этих противоречий, во время революции, доказал свое призвание быть вождем в борьбе за свободу народа и за освобождение масс от эксплуатации, — доказал свою беззаветную преданность делу демократии и свою способность борьбы с ограниченностью и непоследовательностью буржуазной (в том числе и крестьянской) демократии, — возможна только с точки зрения социал–демократического пролетариата».102
Нельзя не привести здесь довольно большую цитату из статьи «Л. Н. Толстой и современное рабочее движение», в которой в несколько скрытой форме заложено учение Ленина о взаимоотношении общественного содержания и художественной формы в литературном творчестве. Ленин говорит:
«Критика Толстого не нова. Он не сказал ничего такого, что не было бы задолго до него сказано и в европейской и в русской литературе теми, кто стоял на стороне трудящихся. Но своеобразие критики Толстого и ее историческое значение состоит в том, что она с такой силой, которая свойственна только гениальным художникам, выражает ломку взглядов самых широких народных масс в России указанного периода, и именно деревенской, крестьянской России. Ибо критика современных порядков у Толстого отличается от критики тех же порядков у представителей современного рабочего движения именно тем, что Толстой стоит на точке зрения патриархального, наивного крестьянина, Толстой переносит его психологию в свою критику, в свое учение. Критика Толстого потому отличается такой силой чувства, такой страстностью, убедительностью, свежестью, искренностью, бесстрашием в стремлении «дойти до корня», найти настоящую причину бедствий масс, что эта критика действительно отражает перелом во взглядах миллионов крестьян, которые только что вышли на свободу из крепостного права и увидели, что эта свобода означает новые ужасы разорения, голодной смерти, бездомной жизни среди городских «хитровцев» и т. д. Толстой отражает их настроение так верно, что сам в свое учение вносит их наивность, их отчуждение от политики, их мистицизм, желание уйти от мира, «непротивление злу», бессильные проклятья по адресу капитализма и «власти денег». Протест миллионов крестьян и их отчаяние — вот что слилось в учении Толстого».103
В этой замечательной цитате надо различать две мысли: Толстой отражает настроение тех, выразителем кого он является, «так верно», что даже портит с идеологической точки зрения свое учение, ибо протест оказывается у него сплетенным с отчаянием в отличие от рабочего движения, полного протеста, но чуждого отчаяния. Конечно, с точки зрения общественного содержания, с точки зрения революционности эффекта, чистоты воздействия, такая «верность» печальна. Но эта же «верность» дает Толстому «силу чувства, страстность, убедительность, свежесть, искренность, бесстрашие», а все это, по мнению Ленина, и является главной заслугой Толстого, ибо «критика Толстого не нова», то есть, изложи Толстой свою критику без этой силы страсти — он ничего не прибавил бы к культуре. При наличии же силы страсти «не новая», но чрезвычайно значительная «критика» его оказалась «шагом вперед в художественном развитии всего человечества». От читателя не ускользнет вся огромная важность этого суждения Ленина.
Статьи Ленина о Толстом нуждаются в особенно пристальном рассмотрении: они дают во всем главном исчерпывающее истолкование такого гигантского литературного и общественного явления, как творчество и учение Толстого, представляя собою блистательный образец применения ленинского метода к литературоведению.
Сравнительно мало Ленин писал о современниках. Здесь внимание его привлекала в особенности огромная фигура М. Горького. Ленин видел в нем великого писателя, по направлению своего творчества в основном — пролетарского писателя. Он радовался тому, что Горький и организационно пришел к большевикам. Он глубоко огорчался тем, что, будучи в партии, Горький впадал в некоторые заблуждения (уход его к «впередовцам»104 и все с ним связанное). Но никогда Ленин не отрекался от Горького, всегда он проявлял к нему товарищескую предупредительность, и если боролся иногда с ним, то борьба эта была, в сущности, борьбой «за Горького». В своем письме к Алексею Максимовичу в 1909 году Ленин писал:
«Своим талантом художника Вы принесли рабочему движению России — да и не одной России — такую громадную пользу, Вы принесете еще столько пользы, что ни в каком случае непозволительно для Вас давать себя во власть тяжелым настроениям, вызванным эпизодами заграничной борьбы. Бывают условия, когда жизнь рабочего движения порождает неминуемо эту заграничную борьбу и расколы и свару и драку кружков, — это не потому, чтобы рабочее движение было внутренне слабо или социал–демократия внутренне ошибочна, а потому, что слишком разнородны и разнокалиберны те элементы, из которых приходится рабочему классу выковывать себе свою партию. Выкует во всяком случае, выкует превосходную революционную социал–демократию в России, выкует скорее, чем кажется иногда с точки зрения треклятого эмигрантского положения, выкует вернее, чем представляется, если судить по некоторым внешним проявлениям и отдельным эпизодам».105
Когда буржуазная печать начала «смаковать» как самую «сенсационную новость» слухи об исключении Горького из партии, Ленин гневно отвечал:
«Напрасно стараются буржуазные газеты. Товарищ Горький слишком крепко связал себя своими великими художественными произведениями с рабочим движением России и всего мира, чтобы ответить им иначе, как презрением».106
Во времена наиболее острых идеологических расхождений с Горьким Ленин, не колеблясь, писал:
«…Горький — безусловно крупнейший представитель пролетарского искусства, который много для него сделал и еще больше может сделать».107
Из этого не следует, что Ленин замалчивал политические ошибки Горького в пору его «впередовского» отхода. Говоря об одном из его открытых писем того времени, Ленин заявляет:
«На мой взгляд, письмо Горького выражает чрезвычайно распространенные предрассудки не только мелкой буржуазии, но и части находящихся под ее влиянием рабочих. Все силы нашей партии, все усилия сознательных рабочих должны быть направлены на упорную, настойчивую, всестороннюю борьбу с этими предрассудками».108
Очень интересно, и с необычайной для Ленина лиричностью, показывающей, как дорог был для него Горький, он пишет, узнав о факте приветствия Горького Временному правительству:
«Горькое чувство испытываешь, читая это письмо, насквозь пропитанное ходячими обывательскими предрассудками. Пишущему эти строки случалось, при свиданиях на острове Капри с Горьким, предупреждать его и упрекать за его политические ошибки. Горький парировал эти упреки своей неподражаемо–милой улыбкой и прямодушным заявлением: «Я знаю, что я плохой марксист. И потом, все мы, художники, немного невменяемые люди». Нелегко спорить против этого.
Нет сомнения, что Горький — громадный художественный талант, который принес и принесет много пользы всемирному пролетарскому движению.
Но зачем же Горькому браться за политику?»109
Конечно, из этого замечания Ленина глупо делать вывод, будто бы действительно «некоторая невменяемость» является неизбежной чертой художника или что художник по какому–то своему внутреннему существу непременно плохой политик. На такую неверную точку зрения стали по отношению к Горькому Г. В. Плеханов и в значительной степени также В. В. Воровский.110 Наоборот, Ленин ценил в художнике крепкую, ясную мысль; он недаром так высоко ставил «Что делать?» Чернышевского. Из отношения Ленина к Горькому, как из отношения к художникам Маркса и Энгельса, можно вывести, однако, заключение о необходимости известной снисходительности, известного умения прощать отдельные неточности, неясности, идеологические срывы художника, если все это восполняется талантом и главное — пламенным желанием художника служить делу революции.
7. Высказывания, Ленина на литературные темы
Каковы были литературные вкусы Владимира Ильича? В ряде мемуаров о Ленине по этому поводу сохранились интересные свидетельства, относящиеся к бытности Ленина в ссылке.
«По вечерам, — пишет, например, Н. К. Крупская, — Владимир Ильич обычно читал или книжки по философии — Гегеля, Канта, французских материалистов, или — когда очень устанет — Пушкина, Лермонтова, Некрасова. Когда Владимир Ильич впервые появился в Питере и я его знала только по рассказам, слышала я от Степана Ивановича Радченко, что Владимир Ильич только серьезные книжки читает, в жизни не прочел ни одного романа. Я подивилась; потом, когда мы познакомились ближе с Владимиром Ильичем, как–то ни разу не заходил у нас об этом разговор, и только в Сибири я узнала, что все это чистая легенда. Владимир Ильич не только читал, но много раз перечитывал Тургенева, Л. Толстого, «Что делать?» Чернышевского, вообще прекрасно знал и любил классиков. Потом, когда большевики стали у власти, он поставил Госиздату задачу — переиздание в дешевых выпусках классиков.
В альбоме Владимира Ильича, кроме карточек родственников и старых каторжан, были карточки Золя, Герцена и несколько карточек Чернышевского».111
В другом месте своих воспоминаний она говорит:
«…B Сибири узнала я, что Ильич не меньше моего читал классиков, не только читал, но и перечитывал не раз, Тургенева, например. Я привезла с собою в Сибирь Пушкина, Лермонтова, Некрасова. Владимир Ильич положил их около своей кровати, рядом с Гегелем, и перечитывал их по вечерам вновь и вновь. Больше всего он любил Пушкина. Но не только форму ценил он. Например, он любил роман Чернышевского «Что делать?», несмотря на малохудожественную, наивную форму его. Я была удивлена, как внимательно читал он этот роман и какие тончайшие штрихи, которые есть в этом романе, он отметил. Впрочем, он любил весь облик Чернышевского, и в его сибирском альбоме были две карточки этого писателя, одна надписанная рукой Ильича, — год рождения и смерти. В альбоме Ильича были еще карточки Эмиля Золя, а из русских — Герцена и Писарева. Писарева Владимир Ильич в свое время много читал и любил. Помнится, в Сибири был также «Фауст» Гете на немецком языке и томик стихов Гейне».112
Ленин особенно ценил крепкий социальный реализм, дающий художественно сгущенное изображение общественных явлений через их типично выразительные примеры. Так, т. Крупская пишет:
«Возвращаясь из Сибири, в Москве Владимир Ильич ходил раз в театр, смотрел «Извозчик Геншель», потом говорил, что ему очень понравилось. В Мюнхене из книг, нравившихся Владимиру Ильичу, помню роман Гергарда «Bei Mama» (У мамы), и «Buttnerbauer» («Крестьянин») Поленца».113
Но и монументальный символизм, который возвышает ту же социальную действительность через художественное сгущение до обобщающих кристаллов, почти, можно сказать, до художественной абстракции, не был чужд Ленину. Так, т. Крупская свидетельствует, что Ленин в бессонные ночи зачитывался Верхарном.114 Сюда же относится, по моему мнению, тот факт, что, попав на немецкое и довольно слабое представление «Живого трупа» Толстого, Ильич, по свидетельству т. Крупской, «напряженно и взволнованно следил за игрой».115 Уже больным Ленин с особым удовольствием слушал рассказы Джека Лондона, когда они были полны истинного пафоса, и смеялся над ними, когда в них проявлялся ложный, мещанский сентиментализм.116
Ленин очень часто и чрезвычайно удачно иллюстрировал свои статьи и речи цитатами и образцами из различных писателей. Особенно охотно цитирует он Щедрина, но также Гоголя, Гончарова, Толстого, Тургенева, Помяловского, Короленко, Чехова, даже Андреева и, наконец, Маяковского.
Манеру Маяковского Ленин не любил. Ему вообще претила чрезмерная напряженность, неестественность всяких ультрасовременных изысков. Но стихотворение Маяковского «Прозаседавшиеся», в котором с большим юмором высмеивалась страсть даже хороших большевиков к заседаниям, вызвало веселое настроение Ленина и использование этих острых строк для своих публицистических целей.117 Несомненно, если бы у Ленина было время ближе познакомиться с творчеством Маяковского, в особенности с творчеством последних лет, свидетелем которого он уже не был, он бы в общем положительно оценил этого крупнейшего союзника коммунизма в поэзии.
Скажем здесь несколько слов о глубочайшей простоте ленинской манеры изложения, простоте, неразрывно соединявшейся с убедительностью. Ленин с негодованием относился ко всякому сюсюканию с рабочими, к замене серьезного обсуждения вопроса «прибаутками или фразами».118 В речах и статьях Ильича рабочие всегда видели, что Ильич, как выразился один рабочий, говорит с ними «всерьез».
«…Главное внимание должно быть обращено на то, чтобы поднимать рабочих до революционеров, отнюдь не на то, чтобы опускаться самим непременно до «рабочей массы», как хотят «экономисты», непременно до «рабочих–середняков», как хочет «Свобода» (поднимающаяся в этом отношении на вторую ступеньку экономической «педагогии»). Я далек от мысли отрицать необходимость популярной литературы для рабочих и особо популярной (только, конечно, не балаганной) литературы для особенно отсталых рабочих. Но меня возмущает это постоянное припутывание педагогии к вопросам … организации. Ведь вы, господа радетели о «рабочем–середняке», в сущности, скорее оскорбляете рабочих своим желанием непременно нагнуться, прежде чем заговорить о рабочей политике или о рабочей организации. Да говорите же вы о серьезных вещах выпрямившись, и предоставьте педагогию педагогам, а не политикам и не организаторам!»119
Через три года [в июне 1905] Владимир Ильич вновь возвратился к затронутому им в «Что делать?» вопросу и писал:
«В политической деятельности социал–демократической партии всегда есть и будет известный элемент педагогики: надо воспитывать весь класс наемных рабочих к роли борцов за освобождение всего человечества от всякого угнетения, надо постоянно обучать новые и новые слои этого класса, надо уметь подойти к самым серым, неразвитым, наименее затронутым и нашей наукой и наукой жизни представителям этого класса, чтобы суметь заговорить с ними, суметь сблизиться с ними, суметь выдержанно, терпеливо поднять их до социал–демократического сознания, не превращая наше учение в сухую догму, уча ему не одной книжкой, а и участием в повседневной жизненной борьбе этих самых серых и самых неразвитых слоев пролетариата. В этой повседневной деятельности есть, повторяем, известный элемент педагогики. Социал–демократ, который забыл бы об этой деятельности, перестал бы быть социал–демократом. Это верно. Но у нас часто забывают теперь, что социал–демократ, который задачи политики стал бы сводить к педагогике, тоже — хотя подругой причине — перестал бы быть социал–демократом. Кто вздумал бы из этой «педагогики» сделать особый лозунг, противопоставлять ее «политике», строить на этом противопоставлении особое направление, апеллировать к массе во имя этого лозунга против «политиков» социал–демократии, тот сразу и неизбежно опустился бы до демагогии».120
Это лишь пояснение того, что сказано было раньше и что определяет требования Ильича к популярной литературе.
Необыкновенно яркую характеристику соединения глубины и убедительности мысли с популярностью в практике Ленина дает т. Сталин в заметке «Сила логики» в его брошюре «О Ленине». Вот что говорит там т. Сталин:
«Замечательны были две речи Ленина, произнесенные на этой конференции: о текущем моменте и об аграрном вопросе. Они, к сожалению, не сохранились. Это были вдохновенные речи, приведшие в бурный восторг всю конференцию. Необычайная сила убеждения, простота и ясность аргументации, короткие и всем понятные фразы, отсутствие рисовки, отсутствие головокружительных жестов и эффектных фраз, бьющих на впечатление, — всё это выгодно отличало речи Ленина от речей обычных парламентских ораторов. Но меня пленила тогда не эта сторона речей Ленина. Меня пленила та непреодолимая сила логики в речах Ленина, которая несколько сухо, но зато основательно овладевает аудиторией, постепенно электризует ее и потом берет ее в плен, как говорят, без остатка. Я помню, как говорили тогда многие из делегатов: «Логика в речах Ленина — это какие–то всесильные щупальцы, которые охватывают тебя со всех сторон клещами и из объятий которых нет мочи вырваться: либо сдавайся, либо решайся на полный провал».121
Исключительную ценность для характеристики ленинских воззрений на литературу, искусство и на литературную политику партии имеют его разговоры с Кларой Цеткин. Не говоря уже о том, что т. Клара Цеткин является свидетелем, заслуживающим всяческого доверия, пишущий эти строки позволяет себе сделать еще следующее замечание. Работая несколько лет в области культуры под непосредственным руководством Ленина, он, разумеется, имел несколько широких и глубоких бесед с великим вождем по вопросам культуры в целом, по вопросам народного образования в частности, а также искусства и художественной литературы. Он не может разрешить себе излагать эти беседы. Авторитет Ленина неизмерим; было бы преступлением освятить этим авторитетом какой–нибудь субъективный взгляд, который прокрался бы в такое изложение, сделанное на основании воспоминаний без точных записей на расстоянии многих лет. Но автор этой статьи может с уверенностью сказать, что мысли Ленина по этому предмету, излагаемые в нижеследующих цитатах из воспоминаний о нем Клары Цеткин, находятся в полном соответствии с тем, что сохранилось в его воспоминании, как подлинные руководящие директивы Ленина. Вот что передает нам Клара Цеткин:
«Пробуждение новых сил, работа их над тем, чтобы создать в Советской России новое искусство и культуру, — сказал он, — это хорошо, очень хорошо. Бурный темп их развития понятен и полезен. Мы должны нагнать то, что было упущено в течение столетий, и мы хотим этого. Хаотическое брожение, лихорадочные искания новых лозунгов, лозунги, провозглашающие сегодня «осанну» по отношению к определенным течениям в искусстве и в области мысли, а завтра кричащие «распни его», — все это неизбежно. Революция развязывает все скованные до того силы и гонит их из глубин на поверхность жизни. Вот вам один пример из многих. Подумайте о том влиянии, которое оказывал!! на развитие нашей живописи, скульптуры и архитектуры мода и прихоти царского двора, равно как вкус и причуды господ аристократов и буржуазии. В обществе, базирующемся на частной собственности, художник производит товары для рынка, он нуждается в покупателях. Наша революция освободила художников от гнета этих весьма прозаических условий. Она превратила Советское государство в их защитника и заказчика. Каждый художник, всякий, кто себя таковым считает, имеет право творить свободно, согласно своему идеалу, независимо ни от чего».
«Но, понятно, — добавил сейчас же Ленин, — мы — коммунисты. Мы не должны стоять сложа руки и давать хаосу развиваться, куда хочешь. Мы должны вполне планомерно руководить этим процессом и формировать его результаты»122 (разрядка здесь и далее наша. — А. Л.).
Затем следует интересное изложение мыслей Ленина об устойчивых достижениях человеческого искусства, о лучших результатах наиболее зрелых эстетических эпох в истории человечества и о современных исканиях упадочной буржуазии. По этому поводу у нас еще до сих пор имеются разногласия. Важно констатировать, что думал по этому поводу и как чувствовал в этом отношении наш вождь. Я должен тотчас же оговориться: в конкретных вопросах искусства, в вопросах вкуса Ленин был до чрезвычайности скромен. Всякое свое суждение он обыкновенно сопровождал словами: «Я тут совсем не специалист», или: «это мое личное мнение: легко может быть, что я ошибаюсь». Вместе с тем я должен подчеркнуть, что лично я питаю огромное доверие к вкусу Владимира Ильича и считаю, что и в этих областях, где он высказывался с такой чрезвычайной осторожностью и скромностью, он, как и его лучший ученик, в этом отношении занимающий обыкновенно такую же позицию, неизменно был прав в своих суждениях.
Ленин говорил т. Цеткин:
«Мы чересчур большие «ниспровергатели в живописи». Красивое нужно сохранить, взять его как образец, исходить из него, даже если оно «старое». Почему нам нужно отворачиваться от истинно прекрасного, отказываться от него, как от исходного пункта для дальнейшего развития только на том основании, что оно «старо»? Почему надо преклоняться перед новым, как перед богом, которому надо покориться только потому, что «это ново»? …Бессмыслица, сплошная бессмыслица. Здесь — много художественного лицемерия и, конечно, бессознательного почтения к художественной моде, господствующей на Западе. Мы хорошие революционеры, — но мы чувствуем себя почему–то обязанными доказать, что мы тоже стоим «на высоте современной культуры». Я же имею смелость заявить себя «варваром». Я не в силах считать произведения экспрессионизма, футуризма, кубизма и прочих «измов» высшим проявлением художественного гения. Я их не понимаю. Я не испытываю от них никакой радости».123
Но, быть может, всего важнее то, что высказал Ленин т. Цеткин об общей социальной роли искусства:
«…Важно не наше мнение об искусстве. Важно также не то, что дает искусство нескольким сотням, даже нескольким тысячам общего количества населения, исчисляемого миллионами. Искусство принадлежит народу. Оно должно уходить своими глубочайшими корнями в самую толщу широчайших народных масс… Оно должно объединять чувство, мысль и волю этих масс, подымать их. Оно должно пробуждать в них художников и развивать их. Должны ли мы небольшому меньшинству подносить сладкие утонченные бисквиты, тогда как рабочие и крестьянские массы нуждаются в черном хлебе? Я понимаю это, само собою разумеется, не только в буквальном смысле слова, но и фигурально, мы должны всегда иметь перед глазами рабочих и крестьян. Ради них мы должны научиться хозяйничать, считать. Это относится также к области искусства и культуры».124
Приведем еще одно замечательное место из воспоминаний т. Цеткин, из которого ясно видно, что Ленин вовсе не думал, будто бы социалистическое искусство ограничится какими–то примитивными формами, якобы соответствующими слабой культурной подготовке масс.
«Кто–то из нас, я не помню, кто именно, заговорил по поводу некоторых особенно бросающихся в глаза явлений из области искусства и культуры, объясняя их происхождение «условиями момента». Ленин на это возразил:
«Знаю хорошо. Многие искренне убеждены в том, что panem et circenses («хлебом и зрелищами») можно преодолеть трудности и опасности теперешнего периода. Хлебом — конечно! Что касается зрелищ, — пусть их! Не возражаю. Но пусть при этом не забывают, что зрелища — это не настоящее большое искусство, а скорее более или менее красивое развлечение. Не надо при этом забывать, что наши рабочие и крестьяне нисколько не напоминают римского люмпен–пролетариата. Они не содержатся на счет государства, а содержат трудом своим государство. Они «делали» революцию и защищали дело последней, проливая потоки крови и принося бесчисленные жертвы. Право, наши рабочие и крестьяне заслуживают чего–то большего, чем зрелищ. Они получили право на настоящее великое искусство. Потому мы в первую очередь выдвигаем самое широкое народное образование и воспитание. Оно создает почву для культуры, конечно, при условии, что вопрос о хлебе разрешен. На этой почве должно вырасти действительно новое великое коммунистическое искусство, которое создаст форму соответственно своему содержанию. На этом пути нашим «интеллигентам» предстоит разрешить огромной важности и благородные задачи. Поняв и разрешив эти задачи, они покрыли бы свой долг перед пролетарской революцией которая и перед ними широко раскрыла двери, ведущие их из низменных жизненных условий, которые так мастерски охарактеризованы в — «Коммунистическом манифесте», — на простор».125
Вот гордый и блистательный завет Ленина искусствоведам и художникам, литературоведам и писателям.
8. Ленин и современное марксистское литературоведение
Все ленинское наследство должно быть самым внимательным образом исследовано литературоведами, начиная от философских построений Владимира Ильича, его исторической концепции, его политических воззрений и кончая непосредственно литературными высказываниями. Часто бывает, что брошенные, казалось бы, вскользь замечания Владимира Ильича содержат на самом деле целую программу действий для литературоведа, намечают вехи его методологического пути, приобретают директивное значение.
«…Социолог–материалист, делающий предметом своего изучения определенные общественные отношения людей, тем самым уже изучает и реальных личностей, из действий которых и слагаются эти отношения. Социолог–субъективист, начиная свое рассуждение якобы с «живых личностей», на самом деле начинает с того, что вкладывает в эти личности такие «помыслы и чувства», которые он считает рациональными (потому что, изолируя своих «личностей» от конкретной общественной обстановки, он тем самым отнял у себя возможность изучить действительные их помыслы и чувства), т. е. «начинает с утопии»…»126
Это чрезвычайно существенное положение Ленина, будучи примененным в литературе, указывает на то, что литературовед, имеющий перед собой «реальную личность», ни в каком случае не должен начинать свое исследование от этой личности как якобы первопричины. Он должен отправляться от общественных отношений, ибо только это исследование дает ключ к реальному пониманию личности.
Требуя от всякого исследования конкретности, то есть подлинного изучения действительно объективного материала, который и должен быть потом освещен и объяснен при помощи применения диалектико–материалистического метода, Ленин всякое исследование, стало быть и литературоведческое, считал необходимым поставить на широкую научную базу. Среди наших литературоведов, в особенности в пору печального примата переверзевских взглядов, можно было встретить людей, которые считали, что литературоведение марксистско–ленинского характера должно опираться исключительно на социальные науки как таковые.127 Они чрезвычайно скептически относились к привлечению сюда наук биологических, психологических, лингвистических и т. д. Между тем мы имеем прямое указание Ленина на необходимость привлечения всех этих разделов знания как вспомогательных. Правда, Ленин перечисляет эти отрасли знания как источники «истории познания вообще». Но всякому ясно, что история и теория литературы относятся к такой общей истории познания целиком. Вот эти замечательные указания Ленина:128
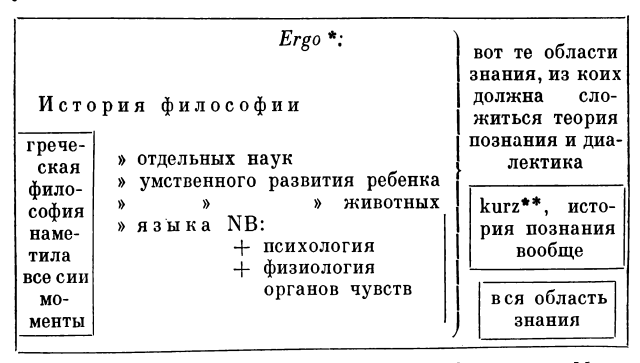
* следовательно. — Ред. ** кратко. — Ред.
Довольно резкие отзывы Ленина (вслед за Энгельсом и Марксом) о попытках прямого перенесения биологических законов в область исследования социальных отношений нисколько не противоречат этому знаменательному перечню привходящих знаний. Марксистская социология «снимает» биологию, но горе тому, кто не поймет этого гегелевского выражения, которое сам Ленин тщательно истолковал: «Снять — это значит кончить, но так, что конченное сохраняется в высшем синтезе».129 Это значит, что биологические факторы больше не являются доминирующими в общественной жизни человека, но это не значит, что можно вовсе игнорировать строение и функции его организма, в том числе мозга, болезни и т. п. Все это приобретает новый характер, все это глубоко видоизменяется новыми социальными силами, но не исчезает. Литературовед, который считал бы возможным совершенно игнорировать зачатки эстетического чувства у животных или развитие впечатлительности и творчества у ребенка, или богатейшие сокровища, которые еще лежат неисследованными в области коллективного творчества языков, был бы узким исследователем, к которому, конечно, можно отнестись снисходительно, поскольку мы находимся в начале нашей работы, но со стороны которого было бы смешно ставить себя в пример мнимой чистоты марксистского исследования.
Заветы Ленина современному литературоведению ни в коей мере не академичны. Искусство для него никогда не было самоцелью; как мы видели выше, он ставил перед ним задачу «объединять чувство, мысль и волю масс, подымать их» (из воспоминаний Кл. Цеткин). За такое воинствующее, боевое, партийное искусство Владимир Ильич боролся с величайшей энергией. Прекрасным свидетельством этой борьбы является его статья «Партийная организация и партийная литература», относящаяся к эпохе первой революции (1905 г.). Поводом для написания этой статьи было желание упорядочить политическую литературу партии, ее публицистику, ее научные издания и пр. Но, разумеется, объективное значение статьи выходит за эти рамки, и суждения Ленина прекрасно применяются ко всей художественной литературе той поры.
«Литература, — писал Ленин, — может теперь, даже «легально», быть на 9/10 партийной. Литература должна стать партийной. В противовес буржуазным нравам, в противовес буржуазной предпринимательской, торгашеской печати, в противовес буржуазному литературному карьеризму и индивидуализму, «барскому анархизму» и погоне за наживой, — социалистический пролетариат должен выдвинуть принцип партийной литературы, развить этот принцип и провести его в жизнь в возможно более полной и цельной форме.
В чем же состоит этот принцип партийной литературы? Не только в том, что для социалистического пролетариата литературное дело не может быть орудием наживы лиц или групп, оно не может быть вообще индивидуальным делом, независимым от общего пролетарского дела. Долой литераторов беспартийных! Долой литераторов сверхчеловеков! Литературное дело должно стать частью общепролетарского дела, «колесиком и винтиком» одного–единого, великого социал–демократического механизма, приводимого в движение всем сознательным авангардом всего рабочего класса. Литературное дело должно стать составной частью организованной, планомерной, объединенной социал–демократической партийной работы.
«Всякое сравнение хромает», говорит немецкая пословица. Хромает и мое сравнение литературы с винтиком, живого движения с механизмом. Найдутся даже, пожалуй, истеричные интеллигенты, которые поднимут вопль по поводу такого сравнения, принижающего, омертвляющего, «бюрократизирующего» свободную идейную борьбу, свободу критики, свободу литературного творчества и т. д., и т. д. По существу дела, подобные вопли были бы только выражением буржуазно–интеллигентского индивидуализма. Спору нет, литературное дело всего менее поддается механическому равнению, нивелированию, господству большинства над меньшинством. Спору нет, в этом деле безусловно необходимо обеспечение большего простора личной инициативе, индивидуальным склонностям, простора мысли и фантазии, форме и содержанию. Все это бесспорно, но все это доказывает лишь то, что литературная часть партийного дела пролетариата не может быть шаблонно отождествляема с другими частями партийного дела пролетариата. Все это отнюдь не опровергает того чуждого и странного для буржуазии и буржуазной демократии положения, что литературное дело должно непременно и обязательно стать неразрывно связанной с остальными частями частью социал–демократической партийной работы. Газеты должны стать органами разных партийных организаций. Литераторы должны войти непременно в партийные организации. Издательства и склады, магазины и читальни, библиотеки и разные торговли книгами — все это должно стать партийным, подотчетным. За всей этой работой должен следить организованный социалистический пролетариат, всю ее контролировать, во всю эту работу, без единого исключения, вносить живую струю живого пролетарского дела, отнимая, таким образом, всякую почву у старинного, полуобломовского, полуторгашеского российского принципа: писатель пописывает, читатель почитывает».130
Отмежевываясь от «полу–азиатского» прошлого русской литературы, Ленин сейчас же проводит резкую границу, которая не позволила бы нам пойти по не менее грязным путям западной буржуазной литературы. Он посвящает этой проблеме блестящие строки:
«Мы не скажем, разумеется, о том, чтобы это преобразование литературного дела, испакощенного азиатской цензурой и европейской буржуазией, могло произойти сразу. Мы далеки от мысли проповедовать какую–нибудь единообразную систему или решение задачи несколькими постановлениями. Нет, о схематизме в этой области всего менее может быть речь. Дело в том, чтобы вся наша партия, чтобы весь сознательный социал–демократический пролетариат во всей России сознал эту новую задачу, ясно поставил ее и взялся везде и повсюду за ее решение. Выйдя из плена крепостной цензуры, мы не хотим идти и не пойдем в плен буржуазно–торгашеских литературных отношений. Мы хотим создать и мы создадим свободную печать не в полицейском только смысле, но также и в смысле свободы от капитала, свободы от карьеризма; — мало того: также и в смысле свободы от буржуазно–анархического индивидуализма.
Эти последние слова покажутся парадоксом или насмешкой над читателями. Как! закричит, пожалуй, какой–нибудь интеллигент, пылкий сторонник свободы. Как! Вы хотите подчинения коллективности такого тонкого, индивидуального дела, как литературное творчество! Вы хотите, чтобы рабочие по большинству голосов решали вопросы науки, философии, эстетики! Вы отрицаете абсолютную свободу абсолютно–индивидуального идейного творчества!
Успокойтесь, господа! Во–первых, речь идет о партийной литературе и ее подчинении партийному контролю. Каждый волен писать и говорить все, что ему угодно, без малейших ограничений. Но каждый вольный союз (в том числе партия) волен также прогнать таких членов, которые пользуются фирмой партии для проповеди антипартийных взглядов».131
По этому поводу Ленин дает гневную, яркую, по совершенству своей формы, можно сказать классическую характеристику буржуазной «свободной» литературы:
«…Господа буржуазные индивидуалисты, мы должны сказать вам, что ваши речи об абсолютной свободе одно лицемерие. В обществе, основанном на власти денег, в обществе, где нищенствуют массы трудящихся и тунеядствуют горстки богачей, не может быть «свободы» реальной и действительной. Свободны ли вы от вашего буржуазного издателя, господин писатель? от вашей буржуазной публики, которая требует от вас порнографии в рамках * и картинах, проституции в виде «дополнения» к «святому» сценическому искусству? Ведь эта абсолютная свобода есть буржуазная или анархическая фраза (ибо, как миросозерцание, анархизм есть вывернутая наизнанку буржуазность). Жить в обществе и быть свободным от общества нельзя. Свобода буржуазного писателя, художника, актрисы есть лишь замаскированная (или лицемерно маскируемая) зависимость от денежного мешка, от подкупа, от содержания.
* В пятом издании сочинений В. И. Ленина редакционное примечание: «В источнике, по–видимому, опечатка; по смыслу следовало бы «в романах».Ред.».И мы, социалисты, разоблачаем это лицемерие, срываем фальшивые вывески, — не для того, чтобы получить неклассовую литературу и искусство (это будет возможно лишь в социалистическом внеклассовом обществе), а для того, чтобы лицемерно–свободной, а на деле связанной с буржуазией, литературе противопоставить действительно–свободную, открыто связанную с пролетариатом литературу.
Это будет свободная литература, потому что не корысть и не карьера, а идея социализма и сочувствие трудящимся будут вербовать новые и новые силы в ее ряды. Это будет свободная литература, потому что она будет служить не пресыщенной героине, не скучающим и страдающим от ожирения «верхним десяти тысячам», а миллионам и десяткам миллионов трудящихся, которые составляют цвет страны, ее силу, ее будущность. Это будет свободная литература, оплодотворяющая последнее слово революционной мысли человечества опытом и живой работой социалистического пролетариата, создающая постоянное взаимодействие между опытом прошлого (научный социализм, завершивший развитие социализма от его примитивных, утопических форм) и опытом настоящего (настоящая борьба товарищей рабочих)».132
Несмотря на то что со времени написания этой статьи прошло больше четверти века, она до сего времени ни на йоту не потеряла своего глубочайшего значения. Более того, основной принцип партийности литературы, служащей делу социалистического переустройства мира, в настоящее время так же актуален, как и развернутая в статье жесточайшая критика буржуазной литературы, как и пламенная характеристика будущей социалистической литературы, служащей миллионам и десяткам миллионов трудящихся. Статья «Партийная организация и партийная литература», содержащая руководящие указания по вопросам литературной политики партии, лишний раз свидетельствует о том, как огромно было бы участие Ленина в тех жгучих литературных спорах, которые особенно широко развернулись после его кончины.
Партия следует по стопам Ленина и с непререкаемой верностью развивает его положения и применяет их к жизни. В ряде решений Центрального Комитета и авторитетных высказываний центрального органа партии мы имеем богатейший дополнительный материал для построения литературоведения, материал глубоко ленинского характера, хотя формально и выпадающий из задач нынешней статьи. Руководство Центрального Комитета партии, проявляющее в вопросах литературы глубокую ленинскую чуткость, гарантирует нам максимально–безболезненное развитие нашего литературоведения и самой литературы. Работа тут предстоит чрезвычайно большая и сложная, ибо если надо строго осудить всякого, кто полагает, что в нашем арсенале мы не имеем основных и важнейших определителей для нашей литературоведческой работы, то надо также считать величайшим заблуждением, даже позором, стремление замкнуться в повторение задов, отсутствие смелости в творческой работе, такую чрезмерную боязнь невольной ошибки, которая парализует самую возможность идти вперед.
Марксистско–ленинское литературоведение переживает в настоящее время этап бурного роста. В его борьбе против различных идеалистических и механистических систем, равно как и в его позитивной исследовательской работе, ленинское наследство является надежнейшим компасом. Излишне говорить, что мы имеем здесь в виду все ленинское наследство во всем его объеме, начиная от философских тетрадей и исторических исследований и кончая высказываниями на темы пролетарской культуры или литературы, часто таящими в себе замечательные оценки явлений, которые должны лечь в основу специальных исследований. Характерный для всего наследства Ленина дух боевой партийности, присущая этому наследству политическая заостренность в соединении с философской глубиной и исторической конкретностью должны оплодотворить, уже оплодотворяют и будут оплодотворять марксистское литературоведение. Именно в атмосфере развернутого социалистического строительства, которое и после преждевременной и трагической смерти великого вождя партия продолжала развертывать в его духе и во все более захватывающих темпах, теоретическое наследство Ленина является водителем современной литературной практики и пролетарской литературной теории.
- «Карл Маркс» (1914). — В. И. Ленин, т. 26, стр. 50. ↩
- И. В. Сталин, Сочинения, т. 6, М. 1954, стр. 71. ↩
- Там же. ↩
- Имеются в виду «Тезисы о Фейербахе» (1845) (К. Маркс и Ф. Энгельс, Сочинения, т. 3, стр. 1–4). ↩
- «Конспект книги Гегеля «Наука логики» (1914). — В. И. Ленин, т. 29, стр. 200. ↩
- В. И. Ленин, т. 34, стр. 289. ↩
- См., например, В. И. Ленин, т. 31, стр. 132; т. 37, стр. 225. ↩
- А. Богданов, Эмпириомонизм. Статьи по философии, кн. I–III, М. 1904–1906. ↩
- См. П. Юшкевич, Современная энергетика с точки зрения эмпириосимволизма. Статья в сборнике статей разных авторов «Очерки по философии марксизма», СПб. 1908. ↩
- А. Луначарский, Религия и социализм, т. I, изд–во «Шиповник», СПб. 1908 (вторая часть опубликована в 1911 г.); «Атеизм», статья в сб. «Очерки по философии марксизма», СПб. 1908. ↩
- См. Г. В. Плеханов, Materialismus militans. Ответ г. Богданову (1908); О так называемых религиозных исканиях в России (1909). — Сочинения, т. XVII, М. (б. д.), стр. 1–99, 238–258. ↩
- «Материализм и эмпириокритицизм. Критические заметки об одной реакционной философии» (1908–1909). Разделы: «Ошибка Плеханова относительно понятия «опыт»»; «Теория символов» (или иероглифов) и критика Гельмгольца» и другие (В. И. Ленин, т. 18, стр. 155–156, 244–251). ↩
- Там же, стр. 85. Цитату из «Людвига Фейербаха» Ленин сопровождает ссылкой на 4–е нем. изд., стр. 18. ↩
- Там же, стр. 120. ↩
- Там же, стр. 127–128. ↩
- Там же, стр. 130. ↩
- «К вопросу о диалектике» (1915). — В. И. Ленин, т. 29, стр. 316. ↩
- Там же, стр. 316–317. ↩
- Там же, стр. 317. ↩
- Там же, стр. 317–318. ↩
- «Материализм и эмпириокритицизм…». — В. И. Ленин, т. 18, стр. 135–136. Цитата из Энгельса сопровождается ссылкой: (81). Ссылка относится к изданию: «Herrn Eugen Dührings Umwälzung der Wissenschaft» von Friedrich Engels. Fünfte, unveränderte Auflage. Stuttgart, Verlag von J. H. W. Dietz Nachf, 1904. ↩
- Там же, стр. 138–139. ↩
- Там же, стр. 146. ↩
- Там же, стр. 343. ↩
- Там же, стр. 345. ↩
- Там же, стр. 198. ↩
- Там же, стр. 363–364. ↩
- «От какого наследства мы отказываемся?» (1897). — В. И. Ленин, т. 2, стр. 546–548. ↩
- В. И. Ленин, т. 1, стр. 418–419. ↩
- См. об этом статью «Г. В. Плеханов как литературный критик» в наст. томе. ↩
- «Успехи и трудности Советской власти» (1919). — В. И. Ленин, т. 38, стр. 55. ↩
- «Задачи Союзов молодежи». — В. И. Ленин, т. 41, стр. 304–305. ↩
- Политический отчет ЦК РКП(б) 27 марта 1922 г. — В. И. Ленин, т. 45, стр. 95. ↩
- Ср. «Государство и революция» (1917). — В. И. Ленин, т. 33, стр. 99. ↩
- Ср. «Что делать?» (1902). — В. И. Ленин, т. 6, стр. 171–173. ↩
- «Правда», 1922, № 240, 24 октября; № 241, 25 октября. ↩
- Некоторые цитаты из статьи Я. Яковлева приводятся Луначарским с небольшими изменениями. ↩
- И. В. Сталин, Сочинения, т. 7, стр. 137. ↩
- Луначарский приводит цитату из статьи «О национальной гордости великороссов» (1914). — В. И. Ленин, т. 26, стр. 107. ↩
- «Критические заметки по национальному вопросу» (1913). — В. И. Ленин, т. 24, стр. 129. ↩
- В. И. Ленин, т. 32, стр. 150–151. ↩
- Там же, т. 27, стр. 397. ↩
- В своих романах, посвященных производственным процессам (выделке вина, обработке льна и т. п.), Пьер Амп пропагандировал техническую рационализацию производства в капиталистическом обществе. ↩
- «Талантливая книжка» (1921). — В. И. Ленин, т. 44, стр. 249–250. ↩
- В. И. Ленин, т. 17, стр. 206. ↩
- Там же, стр. 212–213. ↩
- «Наша программа» (1899). — В. И. Ленин, т. 4, стр. 184. ↩
- В. И. Ленин, т. 16, стр. 215–217. ↩
- Там же, стр. 218. ↩
- Луначарский своими словами излагает мысль Ленина из работы «Аграрная программа социал–демократии в первой русской революции 1905–1907 годов». — См. там же, стр. 269. ↩
- «Сущность «аграрного вопроса в России»» (1912). — В. И. Ленин, т. 21, стр. 310. ↩
- Ср. в работе «Две тактики социал–демократии в демократической революции» (1905). — В. И. Ленин, т. 11, стр. 46, 47. ↩
- Там же, стр. 282–283. ↩
- «Две тактики социал–демократии в демократической революции». — Там же, стр. 74. ↩
Ср. у В. И. Ленина:
«А тот, кто пожелает вспомнить давнюю историю русского либерализма, тот уже в отношении либерала Кавелина к демократу Чернышевскому увидит точнейший прообраз отношения кадетской партии либеральных буржуа к русскому демократическому движению масс»
(«Еще один поход на демократию» (1912). — В. И. Ленин, т. 22, стр. 84).
В связи с откликом Кавелина на арест Чернышевского Ленин называет Кавелина «подлым либералом», а одно письмо его к Герцену — образчиком «профессорски–лакейского глубокомыслия» (В. И. Ленин, т. 21, стр. 259; т. 5, стр. 33).
↩- «Что делать?». — В. И. Ленин, т. 6, стр. 25. ↩
- «Из прошлого рабочей печати в России» (1914). — В. И. Ленин, т. 25, стр. 94. ↩
- «О «Вехах» (1909). — В. И. Ленин, т. 19, стр. 169. ↩
- «Памяти Герцена» (1912). — В. И. Ленин, т. 21, стр. 256. ↩
- Там же, стр. 255–256. ↩
- Там же, стр. 256 ↩
- Там же, стр. 258–259. ↩
- Там же, стр. 259. ↩
- Там же, стр. 261. ↩
- Там же, т. 16, стр. 43. ↩
- «Либеральное подкрашивание крепостничества» (1913). — В. И. Ленин, т. 23, стр. 17. ↩
- В. И. Ленин, т. 22, стр. 84. ↩
- «О значении воинствующего материализма» (1922). — В. И. Ленин, т. 45, стр. 31. ↩
- «Принципиальные вопросы избирательной кампании» (1911–1912). — В. И. Ленин, т. 21, стр. 75. ↩
- «Что такое «друзья народа»…» (1894). — В. И. Ленин, т. 1, стр. 301. ↩
- «Торжествующая пошлость или кадетствующие эсеры» (1907). — В. И. Ленин, т. 15, стр. 213. ↩
- «О национальной гордости великороссов». — В. И. Ленин, т. 26, стр. 107. ↩
- «Очередные задачи Советской власти» (1918). — В. И. Ленин, т. 36, стр. 206. ↩
- «Письмо к американским рабочим» (1918). — В. И. Ленин, т. 37, стр. 57. ↩
- Ср. Н. К. Крупская, О Ленине. Сб. статей, Госполитиздат, М. 1960, стр. 70. ↩
- Там же, стр. 64–65. ↩
- См. В. И. Ленин, т. 1, стр. 290–291. ↩
- Имеется в виду статья «Народники о Н. К. Михайловском» (1914). ↩
- «Народники о Н. К. Михайловском». — В. И. Ленин, т. 24, стр. 333–334. ↩
- «что такое «друзья народа»…». — В. И. Ленин, т. 1, стр. 262–263. ↩
- В. И. Ленин, т. 3, стр. 594–595. ↩
- Имеется в виду статья Г. В. Плеханова «Гл. И. Успенский» (1888). — Сочинения, т. X, М.–Л. 1925. ↩
- Выражение И. С. Тургенева из предсмертного письма Л. Н. Толстому (конец июня (ст. ст.) 1883 г.). Ср. И. С. Тургенев, Собр. соч. в двенадцати томах, т. 12, М. 1958, стр. 580. ↩
- Плеханов написал о Толстом пять статей. См. Плеханов, т. XXIV, М.–Л. 1927. ↩
- Луначарский имеет в виду раскритикованную Лениным (см. т. 20, стр. 23) точку зрения на Толстого, как на «великую совесть». Впервые это определение употребил С. А. Венгеров. ↩
- Луначарский имеет в виду, например, работу Б. Эйхенбаума «Лев Толстой», кн. I, Л. 1928 и др. ↩
- «Л. Н. Толстой и современное рабочее движение» (1910). — В. И. Ленин, т. 20, стр. 39–40. ↩
- Имеется в виду статья «Л. Н. Толстой» (1910). ↩
- В. И. Ленин, т. 20, стр. 90. ↩
- Там же, стр. 100–101. ↩
- Там же, стр. 102. ↩
- Там же. ↩
- Там же, стр. 103. ↩
- Там же, стр. 104. ↩
- «Лев Толстой, как зеркало русской революции» (1908). — В. И. Ленин, т. 17, стр. 209–210. ↩
- Там же, стр. 210. ↩
- Там же, стр. 210–211. ↩
- Там же, стр. 212. ↩
- «Л. Н. Толстой». — В. И. Ленин, т. 20, стр. 19. ↩
- Там же, стр. 19–20. ↩
- Там же, стр. 21. ↩
- Там же, стр. 22. ↩
- Там же, стр. 40. ↩
- См. статью «Горький на Капри» и примеч. к ней в т. 2 наст. изд. ↩
- В. И. Ленин, т. 47, стр. 220. ↩
- «Басня буржуазной печати об исключении Горького» (1909). — В. И. Ленин, т. 19, стр. 153. ↩
- «Заметки публициста» (1910). — Там же, стр. 251. ↩
- «Письма из далека» (1917). — В. И. Ленин, т. 31, стр. 49. ↩
- Там же, стр. 48–49. ↩
- См. Плеханов. «О так называемых религиозных исканиях в России», т. XVII, Госиздат, М. (б. д.), стр. 258–259; Воровский, «Максим Горький», «Еще о Горьком». — Сочинения, т. II, стр. 201, 208, 219–222. ↩
- Ср. «В. И. Ленин о литературе и искусстве», М. 1960, стр. 620. ↩
- Ср. Н. К. Крупская, О Ленине. Сб. статей, Госполитиздат, М, 1960, стр. 70–71. ↩
- Там же, стр. 71. ↩
- Там же, стр. 72. ↩
- Ср. там же. ↩
- Там же, стр. 74. ↩
- «О международном и внутреннем положении Советской республики» (1922). — В. И. Ленин, т. 45, стр. 13. ↩
- «Что делать?». — В. И. Ленин, т. 6, стр. 132. ↩
- Там же, стр. 131. ↩
- «О смешении политики с педагогикой». — В. И. Ленин, т. 10, стр. 357. ↩
- И. В. Сталин, О Ленине. Речь на вечере кремлевских курсантов 28 января 1924 г. — Сочинения, т. 6, стр. 55. ↩
- «В. И. Ленин о литературе и искусстве», М. 1960, стр. 659. ↩
- Ср. там же, стр. 660. ↩
- Ср. там же. ↩
- Ср. там же, стр. 662. ↩
- «Экономическое содержание народничества» (1894–1895). — В. И. Ленин, т. 1, стр. 424. ↩
В. Ф. Переверзев в то время считал, что классовая принадлежность писателя и вытекающая отсюда его «классовая психология» составляют и исчерпывают содержание его творчества, так что писатель может быть подлинным художником только там, где он изображает людей своего класса; все остальное — «переодетые образы» или образы «гетерогенные», то есть искаженные «классовой психологией» автора. Эта «сущность» художественного творчества целиком определяет, по Переверзеву, и художественную форму вплоть до мельчайших деталей.
Концепция Переверзева совершенно игнорировала теорию отражения и представляла собой вариант вульгарной социологии применительно к литературе и искусству.
↩- В. И. Ленин, Конспект книги Лассаля «Философия Гераклита Темного из Эфеса» (1915). — В. И. Ленин, т. 29, стр. 314. ↩
- В «Конспекте книги Гегеля «Наука логики» (1914) Ленин писал: то есть «снять–покончить–удержать (одновременно сохранить)» — Ред. (В. И. Ленин, т. 29, стр. 96). ↩
- В. И. Ленин, т. 12, стр. 100–102. ↩
- Там же, стр. 102. ↩
- Там же, стр. 103–104. ↩

