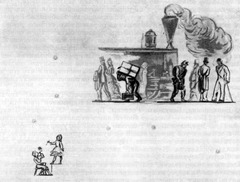I
Слава Льва Толстого, в особенности в последние годы его жизни, был огромной, поистине мировой.
При этом восторг, уважение к Толстому определялись далеко не только признанием его художественного гения, восхищением перед его беллетристическими произведениями; в нем видели также и «современного святого» учителя жизни, протестанта против общественной лжи и пророка духовного обновления человечества.
Европа, Азия и Америка, вслед за миллионами русских, протягивали к нему руки, ища помощи на путях жизни от мудреца из Ясной Поляны.
Многочисленные портреты Толстого вместе с его произведениями, вместе с его заповедями положены были в основу того грандиозного образа который вырос перед глазами века под этим именем: Толстой.
Всем казалось, что среди людей обыкновенного роста поднялся гигант в крестьянской одежде, с седой бородой, развевающейся под дуновением какой–то мистической бури, с острым, как будто из твердого дерева вырезанным лицом, и колючими, все насквозь пронзающими глазами. Огромная фигура стояла перед глазами всех, как на известном портрете Репина заложивши узловатые мужицкие руки за поясок рубашки, и, оглядывав весь окружающий мир, возвещала суровую правду с таким знанием человеческой души, которое казалось непревосходимым.
Особое внимание к «пророку» привлекали сразу бросавшиеся в глаз противоречия его природы: этот мужицкий по облику и по сути своего учения мудрец был с головы до ног барин, аристократ, помещик в стране реакционной монархии и гордой знати.
Этот проповедник крайней простоты жизни, этот разоблачитель суетной мишуры искусства и всей современной цивилизации был одним из величайших художников своего века во всем мире.
Если титулованный барин, прославленный художник отбросил все сокровища своего исключительного положения как никуда не годные побрякушки, то не было ли это очевидным доказательством серьезности его проповеди?
Надо сказать, что проповедь эта, пожалуй, и не проникала так уж глубоко в сознание широких общественных кругов. Таких последователей Толстого, которые действительно перестраивали бы свою жизнь, согласно его учению, было очень мало даже в России, тем более вне ее.
Но приятно было сознавать наличие в своей культуре этой живописной и дерзновенной личности такого бесспорно огромного масштаба. Толстой сокрушитель культуры, был вместе с тем ее украшением и не только как замечательный художник слова, а именно как своеобразная «совесть» или даже «угрызение совести», которое почти всем казалось как–то к лицу нашей цивилизации, в общем обремененной такими противоречиями, пороками и страданиями.
Имя Толстого тем легче можно было произносить с великим почтением, что учение его, содержавшее в себе столько разрушительных для современной цивилизации начал, сочеталось с проповедью непротивления злу насилием и этой своей стороной не только не грозило «обществу» болезнью и ударами, но даже могло служить для него в некоторой степени щитом от разных революционных обвинителей, которые в своем призыве сопротивляться насилием невыносимому злу общественной жизни натыкались на Толстого, толстовцев и их учение как на силу, расслаблявшую волю к такому сопротивлению.
Вот в общем, в самом суммарном виде тот социальный портрет Толстого в его отношениях к современникам, из которого надо исходить как из общественного факта.
II
Подойдем ближе к великану. Присмотримся пристальнее к нему как к художнику и как к общественному проповеднику.
Пока ограничимся констатированием несомненных фактов и того содержания произведений Толстого, которое вкладывал в них сам граф.
Никогда художественная литература не была для Толстого ни приятным времяпровождением, ни производством ценностей, имеющих своей целью развлечь людей.
Толстой всегда, едва ли не с самого детства своего, отличался способностью или, вернее, был почти рабом потребности наблюдать самого себя, разбирать все свои переживания.
Эти переживания, конечно, неразрывно связаны с окружающим. Толстой, в своем сознании, брал внутренний свой мир в этой неразрывной связи с внешним. При этом уже рано становится заметным (мы позднее скажем почему), что Толстой в своем самоанализе, в своих самоотчетах, в суде своем над собой и через себя надо всем окружающим ищет не счастья, не какого–нибудь самодовольного равновесия, не славы или сознания величия своих дел, а прежде всего, и почти исключительно, справедливости. Чуть ли не с детства его сознание страдает страхом перед грехом, перед преступлением в собственных своих глазах, перед вытекающим отсюда глубоким недовольством самим собою. Сначала рядом с этим чувством играют значительную роль и стремление к богатству, к устройству гармоничной семейной жизни, к славе, но потом все это отметается как нечистое, и жажда праведности, чистоты, т. е. незапятнанности своей совести перед самим собой, выступает на первый план.
Так называемый переворот в жизни Толстого, происшедший в нем приблизительно на пятидесятом году жизни, был только моментом, когда совесть взяла решительный перевес над другими сторонами сознания.
Все было уже готово в Толстом и до этого переворота. Так же точно и религиозный характер этого, по преимуществу этического, мышления Толстого был ему присущ с детства. Правда, справедливость, с которой душа человека должна жить в полном мире, — это бог. Неправда, несправедливость, которые ведут человека страсти, распаляемого соблазнами, — это мир, это земля, это, так сказать, чёрт.
К писанию длинных дневников и к зарождению из этих дневников повестей и романов вел Толстого именно этот искренний и мучительный и вместе с тем богатый и красочный внутренний самосуд.
Толстой сознавал, однако, что те мысли и чувства, которые проходили в нем и которые так часто отливались в яркие, полные жизни образы, отнюдь не были чем–то важным только для него самого: он сознавал, что те же вопросы должны мучить и, наверное, мучат людей вообще, прежде всего людей его круга. А если бы эти проблемы не мучили других людей, то это означало бы только, что душа их спит мертвым сном и что ее нужно разбудить. Писать для других, раскрыть перед всеми свою внутреннюю драму падений и самоисцелений, одевши эту драму в разнообразные художественные маски, казалось Толстому делом не только увлекательным, ибо интенсивная жизнь его требовала своего экстенсивного расширения, но и делом общественно важным, если угодно, — религиозно важным.
Толстой в своих художественных произведениях был, в сущности, всегда проповедником. Не только его поздние художественные произведения, уже совершенно явно проповеднические, но и ранние, которые он сам позднее осуждал как будто бы слишком самодовлеющее искусство, всегда были заряжены, чуть ли не до отказа, этическим электричеством толстовской природы.
Правда, Толстой был не только этиком. Отчасти самая сила происходивших в нем внутренних бурь вызывалась именно тем, что в нем чрезвычайно силен был, — пользуясь его терминологией, — не только бог, т. е. совесть, но и чёрт, т. е. страсть.
Толстой был натурой преизбыточно страстной.
Это был человек неукротимой чувственности, почти сверхчеловеческого развития зрения, слуха, осязания, памяти, яркости воображения, силы превращения самого себя в любое внешнее существо.
Все это, с одной стороны, позволяло Толстому одеть свою мораль в необычайно роскошные художественные одежды. С другой стороны, этот, если мы осмеливаемся так выразиться, портной в Толстом, этот изготовитель красочных, сверкающих одежд, часто оказывался сильнее Толстого–моралиста, так что изготовленные Толстым для доказательства его этических тезисов куклы как бы поглощались великолепными одеждами, и на время задуманный Толстым проповеднический рисунок, еще правильней — чертеж, тонул в фейерверке огней и красок Толстого–волшебника, Толстого, одержимого жизнью и ее страстями.
Однако, взвешивая окончательно Толстого как художника, нельзя не прийти к заключению, что главная его сила с самого начала, т. е. с «Севастопольских рассказов» и «Детства и отрочества», заключалась не в пейзаже, не в портрете, не во внешних описаниях вообще, еще менее того в гармонии языка, а прежде всего в увлекательной правдивости изображения душевных переживаний.
У Толстого внутренний мир его героев все время стоит на первом плане. Рисуя их поступки, увлекательно передавая их речи, Толстой особенно любит вдруг вскрыть то, что ни для кого не зримо и никому не слышно, а именно то, что думал, что чувствовал герой, или даже то, о чем он сам в себе не догадывался, но что происходило в тайниках его личности бессознательно даже для него самого.
Толстой–художник работает в особенности как ясновидец, которому открыты секреты сознания всех людей и даже животных.
Разнообразие созданных Толстым «душ», т. е. сознаний, характеров, очень велико. Однако, надо прямо сказать, все это колоссальное разнообразие создано, главным образом, из чисто толстовского материала, т. е. из тех переживаний, тех порывов страсти, тех раскаяний, той жажды спасения, которые присущи были самому автору. В его огромном саду цветут самые буйные и ядовитые цветы рядом с целебными растениями. В одной части этого необъятного сада раскинулись непроглядные джунгли, а в другой все просветлено, разработано и на всем лежит печать чистоты и высокого мира. В злом и в добром сад Толстого содержит и самые скромные травки и самые причудливые гигантские растительные формы. И все это — Толстой. Только во всем этом — Толстой. И к этому нужно прибавить динамику, т. е. сознательное стремление Толстого переводить зло в добро, как он понимал это добро, между прочим, хотя бы ценою превращения при этом перенесении гигантов зла в добродетельных карликов.
Толстовский мир зла (того, что Толстой считал злом) мне кажется гораздо привлекательнее, чем окропленный елеем, скучный и монотонный мир его добра. Но это уже другое дело. Важно только то, что Толстой–художник, служа своему делу торжества добра, творит фигуры в своих художественных произведениях, беря для этого то одну, то другую частицу своего огромного внутреннего мира. Но именно поэтому все построенные Толстым души кажутся такими удивительно живыми, естественными, а все, что в них происходит, таким убедительным и интересным.
Прибавим здесь же еще только одно замечание о Толстом–художнике. Толстой — изумительный реалист. Мы еще вернемся к этой основной формальной характеристике его художественного творчества. Сейчас я хочу отметить двойственность корней, из которых возник реализм Толстого. Конечно, отчасти он объяснялся уже эпохой: все другие современные Толстому писатели в России были тоже реалистами.
Но у Толстого были особые причины писать именно реалистически.
Первая заключалась в том, что он любил действительность, чувствовал ее, что только одна она была ему мила и интересовала его. Развлекать или отвлекать себя и других фантазиями Толстой посчитал бы делом недостойным. Жизнь серьезна. И Толстой глубоко серьезен. Действительность, конечно, и пугала его: он не мирился с нею, но ее противоречие, т. е. казавшийся Толстому несомненным факт существования двух действительностей, одной материальной, преходящей, а другой вечной, идеальной, — все это входило в действительность в общем, в ту, над которой Толстой работал и которую он хочет изображать, чтобы просветить ее.
Другой корень толстовского реализма, быть может, полусознательный, — это его уверенность в огромной убедительности художественного реализма, в его проповеднической силе, в его способности создавать всепобеждающее доказательство. Чем более художественная картина кажется созданной самой природой, тем больше она дышит правдой, тем скорее читатель поверит в нее и вместе с ее фактической стороной, так сказать, проглотит и ту тенденцию, которую Толстой, подчас очень искусно, скрывал под художественной оболочкой.
III
Однако без понимания философии Толстого, его религии Толстой–художник остается непонятным, да, кроме того, мы не имеем права за художником забывать моралиста.
Правда, некоторые из крупнейших критиков Толстого, например, человек такой тонкой культуры, как Стефан Цвейг, да и многие русские критики, даже марксисты, склонны слишком резко различать в Толстом художника и моралиста и принимать одного, отметая другого.1 Но хотя мы и признаём Толстого натурой глубоко противоречивой, однако эти противоречия вовсе не отпадают друг от друга, как плохо склеенные части: Толстой противоречив и в то же время един.
Ни один роман Толстого не понятен, если не понятна этическая тенденция, которая в нем живет и его строит. С другой стороны, религиозно–философская система Толстого смогла оказать свое влияние только потому, что она выросла на тех же могучих корнях, которые питали Толстого–художника.
Мы только что несколько ближе присмотрелись к Толстому–художнику. Сделаем то же самое по отношению к Толстому–мыслителю, т. е. моралисту.
Религиозная философия Толстого носит на себе черты единства от самого появления ее первых основ до конца дней великого писателя.
Конечно, она развивалась. Но, с одной стороны, она всегда была верна своему первому основному принципу, так сказать, зерну, которое ее породило, а с другой стороны, с начала до конца движение этой религиозной мысли и этого религиозного чувства постоянно пересекается и, так сказать, омрачается внутренним сомнением.
Нельзя ни на минуту забывать, если ты хочешь понять Толстого, что он никогда не достиг безмятежной святости. И это, конечно, очень хорошо. Тысячу раз прав Горький, когда он говорит, что самая отрицательная, пожалуй, антипатичная самому Толстому черта — это его святость.2 Если бы при его жизни или после его смерти ему или его ученикам удалось бы потопить всю эту полную жизни и борьбы огромную личность в белом и сладком соусе святости, — это была бы довольно большая беда для всей человеческой культуры, которой, на наш взгляд, Толстой мог служить и служит лишь как борец с самим собой.
Итак, Толстой всю жизнь в известной степени сомневался в собственном учении, хотя и опровергал сердито других сомневающихся в нем или тех, кто в нем самом предполагал сомнения.
Толстой искал живого бога. Иногда уговаривал себя, будто бы нашел его. Иногда, вероятно, даже живо чувствовал в себе и вокруг этого найденного бога. Но потом он непременно терял его. И так до конца.
Как справедливо отметил великий марксистский критик Г. В. Плеханов, одним из корней толстовской религиозности была его детская, внушенная ему с начала его жизни, вера.3 Однако такое раннее внушение не могло бы обеспечить прочности этой веры в человеке огромной искренности и огромной способности критики. Если обстрел жгучей толстовской критики не сокрушил в Толстом его веры в бога, в то время как в щепки разбилось все официальное православное богословское и богослужебное строение, то этому были особые причины, ибо нашлись особые питательные источники, которые вновь и вновь спаивали толстовскую веру в бога.
Таким источником было основное и уже отмеченное нами в Толстом: его постоянный мучительный самосуд, не прекращавшаяся работа его совести.
В конце этой главы мы отметим еще одну причину прочности толстовской веры, еще один источник, могуче ее питавший. Но пока остановимся на указанном.
Основным в самочувствии и в мирочувствии Толстого было свойственное в высокой мере также и буддизму и вообще азиатской морально–религиозной мысли сознание болезненности и мучительности всего жизненного процесса. Почему человек несчастен? Вот основной вопрос. А что человек несчастен — это казалось Толстому бесспорным благодаря собственному опыту.
Несчастье человека, рассуждал Толстой, тесно связано с его так называемыми потребностями или страстями. Несчастье — это лишение или страдание, происходящие от злоупотребления страстями.
Миллиарды человеческих существ во времени и пространстве выпущены на арену мира, как жадные животные, безмерно стремящиеся к умножению звериных наслаждений. С первого взгляда кажется, что все свои похоти может удовлетворять человек, когда он богат, и что бедность является проклятой именно потому, что она означает невозможность удовлетворять свои потребности.
Отсюда жажда накопления собственности. Люди рвут друг у друга собственность. Они накопляют ее для непосредственного наслаждения, про запас и как источник общественной власти. Поэтому нет у человека границ <в> его жадности к богатству и в его страхе перед бедностью.
Один из самых лучших видов собственности, с точки зрения удовлетворения страстей, это собственность человеческая, право располагать другими людьми. Рабство во всех его формах есть необходимая часть богатства, все равно, идет ли дело о рабе старых времен, о крепостном, пролетарии, должнике, прислуге, купленной жене, любовнице или проститутке — во всех этих случаях владелец может располагать другим человеком для себя, не справляясь о воле подчиненного.
Однако количество благ, власти, конечно, не таково, чтобы удовлетворить всех людей. Богатство распределяется неравномерно. Каждый стремится получить наибольшую его долю: отсюда страшная битва всех против всех за богатство, за материальное наслаждение. Отсюда ложно направленная работа на умножение материальных богатств и на наживу при этом. Отсюда греховные, преступные человеческие союзы, какими являются государство, церкви, партии, тресты, союзы и т. д. Людей объединяет здесь не любовь, а хищность, — они соединяют свои силы, чтобы ограбить и поработить других.
Вот это–то все является главным источником несчастности человека.
Но возможно ли при таких условиях верить в бога: почему же творец всего этого ада создал столь ужасный мир?
Нет, по Толстому в бога можно и надо верить. Остается неясным, является ли бог Толстого создателем как добра, так и зла. Ясных указаний у Толстого на это нет. Прежде всего для Толстого бог есть покой. Есть великое царство света и любви. В боге не происходит никакого движения. Бог Толстого похож на буддийскую нирвану. Это есть блаженство вне времени. И этот светлый океан, эта пучина счастья зовет к себе людей. Человек есть часть бога. Он должен вернуться к богу. В этом все его назначение. Только приближение к богу есть счастье. Удовлетворение же материальных страстей никогда не дает счастья: это только соблазнительный дьявольский мираж. Человеческое тело с его страстями — это как бы налипшая на огненный дух человека грязь. Она не только держит человеческий дух в плену, но она омрачает его планы, заставляет его судорожно метаться и зловонно чадить.
Итак, каково же исцеление человека? Где путь избавиться от несчастности?
Путь для Толстого, как и для многих азиатских мыслителей, заключается в отказе от забот об удовлетворении страстей. Однако не самоубийственный аскетизм и тем менее простое самоубийство избавляют человека от материи, а победа над нею путем замены вражды к людям — любовью к ним и помощью им на почве отказа от всего лишнего, жизни трудом собственных рук, тщательного избегания всякого подчинения себе брата своего.
Толстой никогда не выдавал своего миросозерцания за нечто новое. Он с гордостью находил, что только повторяет учение Конфуция, Лаодзе, Будды и евангелия.4
Мы имеем в учении Толстого мораль глубоко азиатскую. Мораль отказа от науки, труда, вообще от прогресса и просто власти человека над природой. Такая власть кажется Толстому ненужной, ибо он не ценит расцвета материальной жизни, он не видит, что материальное и самые высокие вершины так называемого духа — это одно и то же, что именно материя на стадии развития мозга и, еще более того, на стадии развития высокоорганизованного союза утонченных и богатых мозгов создает и, в особенности, будет создавать высочайшие формы мысли и чувства. Единственное, что можно было бы назвать божественным, если бы нам, истинным поборникам прогресса, не казалось затхлым и противным самое это слово.
Но, не говоря уже о том, что дуалисту Толстому не было понятно единство материального и духовного, не было понятно, что сознание и его величайшие формы есть именно высокоорганизованная материя, — он еще не верил и в то, чтобы пути прогресса могли быть свободными от истребительной борьбы человека против человека и не орошенными их кровью. С тем большей страстью звал он назад. Звал остановиться, одуматься, отречься, замкнуться в самые малые, самые необходимые потребности и прекратить всякую борьбу.
Эта страшная пассивность Толстого не только обща ему с азиатскими мудрецами, но она возникает у представителей классов, осужденных историей, всякий раз, когда прогресс разрушает, прежде всего, привычные для них устои жизни. Вот почему Толстой протягивает руку и на Запад, родственным умам, как Руссо, Сисмонди, Карлейль и им подобным.
В своих сочинениях, например, в известной сказке об Иване–дураке и его царстве, Толстой не останавливается перед самыми крайними выводами. Он не боится, что его царство монотонных огородников, без городов, без путей сообщения, без науки и искусства, будет царством юродивых. Это не пугает Толстого. Святой дурачок кажется ему, как и всем его азиатским братьям, чем–то гораздо более высоким, чем, скажем, Наполеон или Леонардо да Винчи.
Одним из главных источников наслаждений материального порядка Толстой справедливо считает половую любовь. Как же тут быть? Не станут ли люди драться между собою из–за распределения этого блага? — Непременно. В течение долгого времени Толстой проповедует коренную и основную греховность плотской страсти, но защищает законный брак во имя деторождения. Но ко времени «Крейцеровой сонаты» он делает дальнейший шаг. Вместе с христианством аскетического порядка он говорит: «Могий вместити, да вместит». Пусть тот, кто в состоянии остаться безбрачным, так и поступает. И, конечно, вполне счастливое человечество — это человечество безбрачное.
Но ведь такое человечество в кратчайший срок вымрет! — с ужасом и недоумением возражали Толстому.
Ну что ж такого, — отвечал яснополянский мудрец, — это будет святое человечество, а святому человечеству незачем жить: оно выполнило свой долг и должно вернуться к богу. Так на дне мудрости Толстого мы находим душевное убожество и смерть. Спаситель человечества оказывается его мрачным соблазнителем. Пойти путями Толстого это значит вступить на дорогу декаданса, пятиться назад к одичанию и к уничтожению высшей формы жизни, какая нам известна, т. е. человека и его общества.
Чтобы избавиться от чувства греха, от моря преступлений, каким кажется Толстому все человечество, — Толстой готов ограничить его до уничтожения.
В известной степени то же происходит и с личностью.
Толстой был великой личностью. Он жил гигантским размахом, именно потому индивидуальная смерть казалась ему чем–то бесконечно ужасным.
Барин, интеллигент, чувственник, гений — все это кричало в нем против беспощадного слова судьбы: ты умрешь! Проблема смерти, изнурительные предчувствия смерти играют у Толстого огромную роль. Толстой борется со смертью. Толстой не хочет признать смерти. Но победить смерть можно только в боге. Бог это и есть бессмертие. Остаться с миром значит умереть. Отказаться от мира, уйти к богу — значит избежать смерти.
Но ведь все, что делает личность личностью, принадлежит миру телесному. То, что божественно в человеке: любовь, великий покой — это безлично?
Да, так. Значит, сделаться бессмертным можно только расплывшись в безличной стихии, став похожим на всех других, круглым, как Платон Каратаев из «Войны и мира».
О да, да! Окунуться в мужицкий мир. Мужик не боится смерти, потому что не страдает индивидуализмом. Мужик живет трудом рук своих, он никого не эксплуатирует, не обижает. Он крепко, несокрушимо верит в бога. Он победитель богатства, жадности, суетного стремления вперед, он — победитель смерти. Мужик — это великая станция на пути к полному блаженству, и одно еще есть изумительное в мужике: мужик — это основной элемент старой России, той самой России, которую безумно любит Толстой, за которую он боится, которая на его глазах трещит и рушится под ударами наступающего капитализма. Конечно, в этой старой России есть нечто еще более близкое, еще более родное Толстому, — это барин. Но позиции барина, как постепенно убедился Толстой, никак нельзя защитить. Барин окончательно разбит. Разбит хозяйственно и разбит морально. Мощный классовый инстинкт подсказывает Толстому, что если он не хочет сдаться новому, ужасному, вульгарному миру чумазых капиталистов и их мещанских прихвостней, то он должен окопаться на мужицких позициях. Так мудрость Толстого, моральная, общественно–философская, подкрепляется его классовым инстинктом, таким путем становится Толстой из барина, несмотря на барство, почти что благодаря барству, изумительным представителем среднего крестьянского типа, средней деревенской мысли в России в эпоху великого крушения русской деревни старого крестьянско–помещичьего режима.
И это не только не ограничивает Толстого, но это–то и обеспечило, бессознательно для его почитателей, его мировой успех.
IV
Гений русской революции, Владимир Ильич Ленин, редко писал литературно–критические статьи. Однако о Толстом он написал их несколько.5
Они невелики, но необычайно проницательны. Строки Ленина, конечно, самое гениальное, что когда–либо было написано о Толстом.
Как всегда, Ленин, не затериваясь в биографическом материале, с орлиного полета видит всю эпоху и подлинное место в ней каждой действительно социально–действенной фигуры.
Для Ленина Толстой — прежде всего выразитель всех настроений крестьянства в эпоху великого распада старого, докапиталистического уклада жизни.
Можно было бы без особого труда доказать, что все великие писатели являются порождением какого–либо значительного общественного кризиса.
Конечно, так называемые органические эпохи, когда тот или другой класс, безраздельно господствуя над обществом, спокойно развертывает всю программу, легко способствуют так называемым зрелым или, как иногда выражаются, классическим произведениям. Формальное определение классического при этом берется как полное соответствие формы и содержания, их равновесия. При этой точке зрения легко видеть в действительности часто повторяющиеся явления поступательной романтики, когда новый класс в борьбе устремляется к своему зениту, обладает большим идейным и эмоциональным содержанием, но не может отыскать ему вполне соответствующей формы, и эпохи романтизма отступающего или падающего, которые могут выражаться в мистике или черном пессимизме, но находят себе отражение также и в чисто формальном искусстве, при котором художник совсем не думает о содержании и стремится только к чисто внешнему мастерству.
Однако, когда мы присматриваемся к так называемым классическим эпохам искусства, то мы видим, что поскольку в них, хотя бы приблизительно, осуществилась спокойная зрелость правящего класса, поскольку она отразилась в художественных произведениях (архитектура и скульптура вокруг Фидия, изобразительные искусства XVI века и т. п.), постольку мы в сущности уже присутствуем при переходе к формализму. Классическое искусство, которое характеризуется равновесием, спокойствием, уверенностью, само уже является несколько безжизненным, и недаром так часто появляется переоценка этих вершинных произведений искусства, причем классике противопоставляются как нечто более ценное то формы искусства архаические, то, напротив, следующее за классикой беспокойное время того или иного барокко.
Что касается литературы, то здесь, где идея и чувство должны доминировать и где лишенное живого содержания слово мертвеет гораздо скорее, чем недостаточно одухотворенные мраморы или полотна, можно прямо сказать, что классика в том смысле, в котором мы выше указали, не в состоянии произвести действительно живого в веках произведения искусства.
Достаточно вспомнить, что греческой классике в литературе в качестве наивысшего ее достижения соответствует глубоко классовый, взволнованный театр Софокла и Аристофана.
Правда, обоим этим великанам античной Эллады свойственно было искать примирения. Их задачей, в сущности, являлось как раз осуществление спокойного и, в сущности, аристократического государства. Но бурная, жгучая жизнь, которая до сих пор еще явственно бьется в драмах и комедиях того времени, была именно порождением незаконченной, да так и незакончившейся, борьбы за этот социальный мир и за всеми добровольно признаваемую диктатуру «лучших».
Вот почему мы вновь осмеливаемся утверждать, что великие писатели являются порождением крупных социальных сдвигов, обострившейся социальной борьбы. Великие писатели идут то на гребне наступающего прибоя нового класса, то на уходящей волне падающей аристократии.
Здесь мы не имеем возможности применить такой метод социального анализа к произведениям разных великих писателей мировой литературы, мы должны ограничиться лишь одним грандиозным примером — графом Львом Толстым. Зато здесь, в основных монументальных чертах, работа эта уже сделана Лениным.
Для Ленина Толстой есть великое порождение эпохи кризиса, идущего, по его мнению, от 1861 до 1905 года.
Ленин приводит слова одного из героев романа «Анна Каренина», Левина: «У нас теперь все переворотилось и только укладывается»6 и находит эти слова меткой характеристикой вышеуказанной эпохи. Ленин говорит об этом:
«Л. Н. Толстой выступил, как великий художник, еще при крепостном праве. В ряде гениальных произведений, которые он дал в течение своей более чем полувековой литературной деятельности, он рисовал преимущественно старую, дореволюционную Россию, оставшуюся и после 1861 года в полукрепостничестве, Россию деревенскую, Россию помещика и крестьянина. Рисуя эту полосу в исторической жизни России, Лев Толстой сумел поставить в своих работах столько великих вопросов, сумел подняться до такой художественной силы, что его произведения заняли одно из первых мест в мировой художественной литературе. Эпоха подготовки революции в одной из стран, придавленных крепостниками, выступила, благодаря гениальному освещению Толстого, как шаг вперед в художественном развитии всего человечества».7
Но та революция, о которой говорит здесь Ленин, была, по преимуществу, крестьянской революцией. Будучи выразителем этой революции, Толстой был именно выразителем ее крестьянского характера. Ленин пишет об этом:
«Принадлежа главным образом к эпохе 1861–1904 годов, Толстой поразительно рельефно воплотил в своих произведениях — и как художник, и как мыслитель и проповедник — черты исторического своеобразия всей первой русской революции, ее силу и ее слабость.
Одна из главных отличительных черт нашей революции состоит в том, что это была крестьянская буржуазная революция в эпоху очень высокого развития капитализма во всем мире и сравнительно высокого в России. Это была буржуазная революция, ибо ее непосредственной задачей было свержение царского самодержавия, царской монархии и разрушение помещичьего землевладения, а не свержение господства буржуазии. В особенности крестьянство не сознавало этой последней задачи, не сознавало ее отличия от более близких и непосредственных задач борьбы. И это была крестьянская буржуазная революция, ибо объективные условия выдвинули на первую очередь вопрос об изменении коренных условий жизни крестьянства, о ломке старого средневекового землевладения, о „расчистке земли“ для капитализма, объективные условия выдвинули на арену более или менее самостоятельного исторического действия крестьянские массы».8
Именно в характере крестьянских революционных настроений, направленных и против ненавистного барину Толстому капитализма, но также и против барства, его государства, его церкви, видит Ленин причину основной двойственности всей жизненной философии, которую Толстой высказывал в своих произведениях. Ленин говорит об этом:
«В произведениях Толстого выразились и сила и слабость, и мощь и ограниченность именно крестьянского массового движения. Его горячий, страстный, нередко беспощадно–резкий протест против государства и полицейски–казенной церкви передает настроение примитивной крестьянской демократии, в которой века крепостного права, чиновничьего произвола и грабежа, церковного иезуитизма, обмана и мошенничества накопили горы злобы и ненависти. Его непреклонное отрицание частной поземельной собственности передает психологию крестьянской массы в такой исторический момент, когда старое средневековое землевладение, и помещичье и казенно-„надельное“ стало окончательно нестерпимой помехой дальнейшему развитию страны и когда это старое землевладение неизбежно подлежало самому крутому, беспощадному разрушению. Его непрестанное, полное самого глубокого чувства и самого пылкого возмущения, обличение капитализма передает весь ужас патриархального крестьянина, на которого стал надвигаться новый, невидимый, непонятный враг, идущий откуда–то из города или откуда–то из–за границы, разрушающий все „устои“ деревенского быта, несущий с собой невиданное разорение, нищету, голодную смерть, одичание, проституцию, сифилис — все бедствия „эпохи первоначального накопления“, обостренные во сто крат перенесением на русскую почву самоновейших приемов грабежа, выработанных господином Купоном».9
Крестьянская революция, по мнению Ленина, есть явление двойственное. Она сама в себе заключает свою слабость. И это вполне отразилось в произведениях Толстого. Ленин великолепно характеризует эту сторону дела в таких словах:
«Но горячий протестант, страстный обличитель, великий критик обнаружил вместе с тем в своих произведениях такое непонимание причин кризиса и средств выхода из кризиса, надвигавшегося на Россию, которое свойственно только патриархальному, наивному крестьянину, а не европейски–образованному писателю. Борьба с крепостническим и полицейским государством, с монархией превращалась у него в отрицание политики, приводила к учению о „непротивлении злу“, привела к полному отстранению от революционной борьбы масс 1905–1907 гг. Борьба с казенной церковью совмещалась с проповедью новой, очищенной религии, то есть нового, очищенного, утонченного яда для угнетенных масс. Отрицание частной поземельной собственности вело не к сосредоточению всей борьбы на действительном враге, на помещичьем землевладении и его политическом орудии власти, т. е. монархии, а к мечтательным, расплывчатым, бессильным воздыханиям. Обличение капитализма и бедствий, причиняемых им массам, совмещалось с совершенно апатичным отношением к той всемирной освободительной борьбе, которую ведет международный социалистический пролетариат».10
Мы уже писали раньше о том, как барин Толстой в своем страстном сопротивлении капитализму как плебейскому бездушному началу, разрушающему дорогой старый уклад жизни, убедился постепенно, что защищаться от него на помещичьих позициях невозможно, ибо то главное, в чем он хотел упрекнуть, за что он хотел беспощадно осудить ненавистный капитализм, т. е. жестокая эксплуатация человека человеком и жадность к наживе, — было вполне присуще и барскому миру, который на глазах Толстого покидал свои устойчивые формы и откровенно втягивался в спекуляцию землями, хлебом и т. д. Это подорванное барство показывало Толстому свои слабые стороны. Нельзя было бить врага, желтого дьявола, царство денег, оставаясь защитником богатых помещиков. Нельзя было бить наотмашь, в лицо, культуру господствующих классов и в то же время высоко ценить утонченную культурность помещичьих усадеб.
И Толстой решился на этот шаг. Защищал старую Россию он путем ее идеализации, путем превращения прошлого в картину будущего, в каковой барство отметалось целиком и основой всего становилось среднее крестьянское хозяйство при соответствующей ему религиозной, философской, моральной, художественной и технической надстройке.
Воспринимая, таким образом, Толстого в его противоречиях, Ленин был одинаково далек как от суммарного преклонения перед ним, так и от суммарного отрицания.
Когда в 1910 году один из очень видных публицистов, В. Базаров, дал необыкновенно высокую оценку Толстому, Ленин разразился великолепным протестом.11 Базаров писал, между прочим:
«Наша интеллигенция, разбитая и раскисшая, обратившаяся в какую–то бесформенную умственную и нравственную слякоть, достигшая последней грани духовного разложения, единодушно признала Толстого — всего Толстого — своей совестью».12
Уже против этого утверждения Базарова протестует Ленин. Конечно, интеллигенция того времени, казавшаяся самому Базарову «раскисшей», очень желала принять Толстого целиком, но не могла, ибо как раз революционная сила протеста Толстого <была> неприемлема для нее. Однако тот же Базаров и огромные массы либеральной русской интеллигенции делали все возможное, чтобы с нерешительными «оговорочками» возвеличить Толстого как общенациональную «совесть». Они содействовали той легенде о едином Толстом, из которой мы черпали наши краски для первого суммарного портрета Толстого в начале нашей статьи, для определения облика Толстого, каким он кажется большинству средних читателей в мировом объеме.
Теперь, после суждения Ленина, более или менее достаточно представленного в вышеприведенных длинных цитатах, мы уже знаем, кто такой Толстой и что такое его учение. Отвергая его как учителя жизни, мы, однако, отнюдь не отвергаем его в качестве великого памятника определенной глубоко важной эпохи, не отвергаем и того ценного и вечного, что содержится в его противоречивом наследии. Ленин признал Толстого «вечным писателем». Он говорит об этом:
«…Толстой не только дал художественные произведения, которые всегда будут ценимы и читаемы массами, когда они создадут себе человеческие условия жизни, свергнув иго помещиков и капиталистов, — он сумел с замечательной силой передать настроение широких масс, угнетенных современным порядком, обрисовать их положение, выразить их стихийное чувство протеста и негодования».13
Еще в 1910 году* Ленин предсказывал, что социалистический переворот, который, конечно, поможет всем и каждому правильно разобраться в Толстом, отнюдь не приведет к отказу от его произведений. Он писал:
«Толстой–художник известен ничтожному меньшинству даже в России. Чтобы сделать его великие произведения действительно достоянием всех, нужна борьба и борьба против такого общественного строя, который осудил миллионы и десятки миллионов на темноту, забитость, каторжный труд и нищету, нужен социалистический переворот».14
Социалистический переворот произошел в нашей стране. Государственное издательство СССР выпустило уже целый ряд томов гигантского 90–томного** полного собрания сочинений Толстого, включающего все написанное им до дневников и писем.15 Это издание содержит множество еще нигде не напечатанного материала. Оно производится с всевозможной тщательностью. К работе над ним приглашены ближайшие друзья Толстого, во главе с его душеприказчиком, Чертковым, и его дочерью, Александрой Львовной. В редакционную коллегию включены лучшие знатоки Толстого и эдиториального дела из числа нашей старой профессуры. Издание производится совершенно объективно. Особая государственная редакция, возглавляемая автором этих строк, наблюдает только за тем, чтобы не произведены были какие–либо изменения или пропуски из семейных соображений или соображений толстовской школы, ибо это большое издание должно носить характер совершенно объективного материала, дать произведения Толстого полностью в том виде, как они им написаны, и со всеми вариантами и комментариями, какие были даны самим Толстым.
* В машинописном тексте и в книге ошибочно: в 1908 году.
** В машинописном тексте: 84–томного.
Редакционный текст носит лишь характер хронологических и технических разъяснений, но отнюдь не истолкования произведений Толстого.
Конечно, правительство СССР не ограничивается таким изданием Толстого. Он выходит также в дешевых изданиях, дающих все наиболее важное. Но самое серьезное дело впереди: это издание Толстого во всем существенном, им написанном, с подробным, чисто научным, т. е. марксистским, комментарием.
Тогда будет исполнен завет Ленина относительно Толстого: его произведения сделаются доступными всем, и всем сделается ясным внутреннее, полное противоречий, строение его сознания, его произведений. Великое и малое, революционное и реакционное, правдивое и тенденциозно придуманное, все станет на свое место, и тогда предстанет перед человечеством окончательно вечно живой Толстой, крепко вросший корнями в свою эпоху и именно потому могущий сделаться современником многих веков.
V
Знаменитый роман Льва Толстого «Анна Каренина», являющийся рядом с еще более грандиозной эпопеей «Война и мир» его главным основанием как великого мирового писателя, занимает среди его произведений весьма своеобразное положение.
С одной стороны, роман этот связан еще, притом очень крепкими узами, с теми классово–помещичьими позициями, которые были характерны для относительно молодого Толстого и которые гениально отразились именно в романе «Война и мир», с другой стороны, в «Анне Карениной» ярко сказываются те общественные наблюдения Толстого и те произведенные им внутренние сдвиги, которые привели его, вскоре после окончания «Анны Карениной», к полному разрыву с классово–помещичьими тенденциями и к своеобразной замене их позициями христианско–крестьянскими.
Для того чтобы понять это своеобразное место второго великого произведения гениального писателя в эволюции его миросозерцания и тем самым в истории человеческой культуры, нам надо проанализировать вершину предыдущего периода его творчества, эпопею «Война и мир».
Если современники первоначального опубликования этого великого произведения отдавали еще себе достаточно определенный отчет в очевидной классовой тенденциозности его, то позднее такое понимание главного произведения Толстого было совершенно утеряно или, по крайней мере, до крайности ослаблено.
Позднейший читатель, а также, в очень большой мере, заграничный, не русский читатель, бывает поражен прежде всего необыкновенной грандиозностью картины, которая включает сотни разнообразных персонажей, вводит в салоны и штабы, на поля битв, а главное, в самые недра «душ» различных людей, молодых и старых, знатных и простонародных, мужчин и женщин. Потрясает колоссальная эпическая сила, с которой развертываются картины внутренних и внешних событий, спокойно, уверенно и величаво, словно перед вами творит свои самодовлеющие проявления сама природа.
Отдельные изумительные, никем до тех пор не достигнутые по своей яркости и никем после Толстого не превзойденные, широкие сцены: псовая охота, бал и ощущения при этом молодой созревающей девушки, сражение и т. д., — все это совершенно справедливо признается высоким достижением общечеловеческого словесного искусства. Страшно подкупает при этом кажущаяся чем–то очевидным искренность и правдивость автора. У некоторых читателей создается также иллюзия почти невероятного, почти сверхчеловеческого объективизма. Действительно, автор на сотнях страниц как бы совершенно отсутствует: события и переживания, развертывающиеся с необыкновенной правдивостью и неуловимой логикой в действительности, кажутся предоставленными самим себе, не выдуманными писателем, не аранжированными им, а самопорожденными, глубоко естественными.
Этими чертами объективной убедительности отличается в особенности первая часть романа. Если великий Флобер, прочитав вторую часть, писал в письме к другу: «Какое падение»,16 то он имел в виду как раз появление в произведении длинных пассажей, где автор выдвигается на авансцену и сам непосредственно говорит с читателем, философски, публицистически навязывая ему свои мнения.
Но даже эти историко–философские рассуждения Толстого не снижают у среднего читателя оценки его произведения как свидетельства необыкновенно правдивого. Огромная, сосредоточенная серьезность автора подчиняет среднего читателя, и ему кажется, что толстовский комментарий к событиям 1812 года, что толстовское понимание исторической стихии, роли личности в истории, все это так же правдиво, так же несомненно, как правдив и несомненен весь поток художественно изображенных фигур и явлений, в который вкраплены эти морально–социологические проповеди.
Один из талантливейших марксистских и притом большевистских критиков, трагически убитый позднее в качестве посла Союза, Вацлав Воровский (псевдоним Орловский) был в значительной степени сам обманут этим мнимым объективизмом Толстого. Он сетовал по поводу того, что пролетарская литература — поскольку она уже проявилась в его время в повести Горького «Мать» — не может не явиться тенденциозной, доказывающей некоторую правду, а не просто радующейся самому мастерству воспроизведения жизни во всем ее блестящем многообразии. Воровский прямо указывал на «Войну и мир» как на образец того чистого искусства, каким по существу оно будто бы всегда должно быть.17 Но и корифей и отец марксистской критики Г. В. Плеханов, прекрасно заметивший, конечно, некоторые бросающиеся в глаза особенности изображения Толстым жизни аристократии в эпоху 1812 года, приводит ряд соображений, «оправдывающих» Толстого за эту якобы «совершенно невольную» тенденцию.
Конечно, Плеханов понимал, что Толстой аристократ и что его интересуют почти только одни аристократы. Так, он пишет в своем знаменитом анализе Толстого:
«А что такое герои разных „Дворянских гнезд“ Тургенева? Что такое действующие лица „Войны и мира“ или „Анны Карениной“, все эти Курагины, Болконские, Безуховы, Ростовы, Вронские, Облонские, Левины и и т. д. и т. д.? Все это — кость от костей, плоть от плоти нашего дворянского сословия. В произведениях Толстого „народ“ фигурирует только мимоходом и только в той мере, в какой он нужен художнику для того, чтобы изобразить душевное состояние героя–дворянина: припомните, например, солдата Платона Каратаева, вносящего мир в мятущуюся душу графа Петра Безухова».18
Плеханов видит также, что Толстой не только сосредоточивает в этом романе весь свой интерес на аристократах, но что он избегает вводить в свою широкую картину крепостной — припомним это — России изображение всех проклятых сторон позорного крепостного права. Мы позволяем себе привести для наших американских читателей довольно большую выписку из статьи Плеханова, чтобы показать, в какой мере даже революционный, пролетарский, марксистский критик был побежден, зачарован так называемым «психологическим реализмом» Толстого.
«Рисуя отрадненскую идиллию, Толстой вовсе не задавался целью что–нибудь скрыть или скрасить: об отрадненских крепостных он вовсе и не думал. Его внимание сосредоточено было на изображении любви Николая Ростова к Софье, а участие крепостных в святочных забавах изображено им совершенно мимоходом и просто потому, что нельзя было не изобразить его: вышло бы несогласно с действительностью. Если же нарисованные им бытовые сцены оказываются настоящей идиллией, то это не вина художника и не его заслуга. Что же было ему делать, если такие идиллические сцены имели место несмотря на все ужасы крепостного права? Толстому, конечно, хорошо было известно существование этих ужасов. Но рисовать их он не видел ни малейшей надобности, так как его героями были не крепостные люди, а благовоспитанные, по–своему добрые аристократы, которые непосредственного отношения к названным ужасам вовсе даже и не имели.
Зная наш крепостной быт и дополняя своей собственной фантазией то, что не было досказано художником, мы можем не без основания предположить, что тот или другой из отрадненских крепостных, забавлявшихся на святках вместе с молодыми господами, был очень скоро после того подвергнут позорному наказанию на конюшне. Но ведь наказывали не молодые господа, не Наташа, не Соня, не Николай и даже не старый граф Ростов. Наказаниями в Отрадном распоряжался управляющий Митенька. «Стало быть, Толстому нечего было и толковать о наказаниях; у него речь шла именно о господах: о Наташе, Соне, Николае, старом графе и т. д. В дворянских романах, хотя бы и многотомных, мало было места для изображения народного горя».19
Сам Толстой, однако, прекрасно сознавал значение своего анализа. Он вполне отдавал себе отчет в том, что это произведение полемическое, что это страстный политический памфлет и колоссальное славословие своему собственному классу.
Он сознавал, вероятно, даже и больше, а именно то, какой огромной силой является в его руках именно столь виртуозно проводимая, кажущаяся правдивость всего им изображаемого.
Во времена написания «Войны и мира» Толстой чувствовал себя совершенно солидарным со всем помещичеством. Даже весьма розовый либерал, недавно скончавшийся проф. Грузинский,20 не может скрыть как честный ученый от своих читателей крайней тенденциозности Толстого, хотя он и ищет этому оправданий.
Профессор Грузинский указывает на то, что первоначально Толстой решился было прямо говорить в «Войне и мире» о «злодействах старых помещиков», но что «усиленное подчеркивание в обществе и печати ужасов крепостного права <…> претило своеобразной натуре Толстого»,21 что вызвало его по духу противоречия на выставление себя помещиком и аристократом. Проф. Грузинский лишь отчасти прав: дух противоречия был здесь естественным, усилившуюся критику диких помещиков и ада крепостного права он считал атакой на свой класс и в романе «Война и мир» хотел ответить ненавистным ему мещанам, с их великим вождем Чернышевским во главе, изображением глубины и прелестей дворянской культуры и дворянской души. Толстой сам открыто полемизирует против осуждения крепостного права. Он писал в своей статье в «Русском архиве» в 1868 году*:
«Изучая письма, дневники, предания того времени, я не находил всех ужасов этого буйства в большей степени, чем нахожу их теперь или когда–либо <…>. Ежели в понятии нашем составилось мнение о характере своевольства и грубой силы того времени, то только оттого, что в преданиях, записках, повестях и романах из того времени до нас наиболее доходили выступающие случаи насилия и буйства. Заключить о том, что преобладающий характер того времени было буйство, так же несправедливо, как несправедливо заключил бы человек, из–за горы видящий одни макушки деревьев, что в местности этой ничего нет, кроме деревьев».22
Из этого замечания Толстого ясно, что Плеханов совершенно не прав, думая, что Толстому, так сказать, технически или по ходу повествования, не пришлось коснуться ужасов крепостного права: он сознательно и тенденциозно хотел их замолчать.
В первоначальной редакции романа имела место довольно грязная подробность быта патриарха–аристократа, старика Болконского. Там у него есть и крепостная любовница, и ребенок, отправленный им в воспитательный дом. Но эту бесчеловечную подробность Толстой потом тщательно вымарал из своего романа, чтобы не компрометировать одного из любимых своих героев. А как «мило» звучало это первоначально, читатель может судить по такой выписке из первоначальной редакции романа:
«Александра была горничная княжны, младенец был сын князя. Это был уже пятый, и все они были отправлены в воспитательный дом, а мать возвращалась назад. Все знали это, но князь делал вид, как будто этого не было, и все делали такой же вид, и, когда возвращалась Александра, все сомневались, в самом ли деле это все было. Дети у Александры начали рождаться 1½ года после вдовства князя».23
Так же точно по первоначальному плану у одного из главных героев романа, Николая Ростова**, должна была быть крепостная наложница, что должно было дать возможность описать ревность к ней Сони.24 Это также было тщательно выброшено Толстым. Защищать свой класс, так защищать до конца!
* В машинописном тексте и в книге ошибочно: в 1860 г.
** В машинописном тексте ошибочно: Андрея Болконского.
Я уже сказал, что современники, которым вся постановка вопроса была яснее и ближе, прекрасно понимали, что реализм Толстого есть только внешнее оружие, которое прикрывало его желание дать гениальную защиту, гениальную идеализацию своего класса. Это понимали как враги этого класса, так и его друзья. Роман был встречен градом критических статей, возмущения, насмешек и карикатур со стороны передовых кругов страны. Но зато, быть может, талантливейший и проницательнейший из глубоко консервативных критиков, Константин Леонтьев, столь определенно и столь четко воздал хвалу Толстому как классовому писателю аристократии и так талантливо отметил при этом значение реализма как метода убедительности, что мы не можем отказать себе в удовольствии привести здесь полностью относящиеся сюда слова его:
«Почему я предпочел выше слово „политическая“ слову „историческая“ заслуга, сейчас скажу. Под выражением „историческая“ заслуга писателя подразумевается скорей заслуга точности, верности изображения, чем заслуга сильного и полезного влияния… Вот почему. — Насколько верно изображение эпохи в „Войне и мире“ — решить еще не легко, но легко признать, что это изображение оставляет в душе читателя глубокий патриотический след. При нашей же наклонности все что–то подозревать у самих себя, во всему себя видеть худое и слабое прежде хорошего и сильного — самые внешние приемы гр. Толстого, то до натяжки тонкие и придирчивые, то до грубости — я не скажу даже реальные, а реалистические или натуралистические — очень полезны. Будь написано немножко поидеальнее, попроще, пообщее — пожалуй, и не поверили бы. А когда видит русский читатель, что граф Толстой еще много повнимательнее и попридирчивее его, когда видит он, этот питомец „гоголевского“ и „полугоголевского“ периода, — что у Льва Николаевича тот герой (настоящий герой) „засопел“, тот „захлипал“, тот „завизжал“; один герой — оробел, другой — съинтриговал, третий — прямо подлец, однако за родину гибнет (напр., молодой Курагин); когда замечает этот вечно колеблющийся русский чтец, что гр. Толстой почти над всеми действующими лицами своими немножко и подсмеивается (кажется, над всеми, за исключением: государя Александра Павловича, Андрея Болконского и злого Долохова — почему–то…), тогда и он, читатель, располагается уже и всему хорошему, высокому, идеальному больше верить <…>.
Во–вторых, граф Толстой прав еще и потому, повторяю, что сознательно или бессознательно, но сослужил читателям патриотическую службу всеми этими мелкими внешними принижениями жизни; они это любят и через это больше верят и высокому и сильнее поражаются тем, что у него изящно».25
VI
Как я уже сказал, роман «Анна Каренина» является следующей большой ступенью самосознания Толстого и его общественной позиции. Надо тотчас же отметить, что глубокие изменения, произошедшие в Толстом, вызваны не столько его внутренним духовным ростом, сколько внешними общественными процессами и прежде всего дальнейшим ходом разложения помещичьего хозяйства под ударами наступающего капитализма. Во времена «Войны и мира» Толстой, как мы видим, хотел прославить свой класс. Для этого он выбрал момент, казавшийся ему чем–то вроде кульминационного пункта в жизни дворянства. Роман был исторический. Это помогло заслонить те черты дворянской жизни, которые могли бы шокировать, показать дворянство сквозь дымку времени.
В «Анне Карениной» дается широкая картина жизни и состояния умов помещичьей аристократии во вторую половину 60–х годов. Он остро чувствовал разложение барства, во–первых, разложение хозяйственное, а во–вторых, проистекающее отсюда внутреннее разложение. Дворянство потеряло весь свой апломб. Часть его поплыла по течению тех новых видов накопления хозяйства, которые открывал капитализм. Большею частью, однако, неловко, неумело, так что от этого процесс разорения усиливался еще больше.
Герои романа — те же аристократы. Но в поступках и речах их сказывается внутренняя неуверенность. Классовая психология там еще прочна и по–своему гармонична. Здесь она постепенно разваливается.
Далеко не цельна «душа» несколько туповатого Вронского, человека вообще неуверенного в себе, в своей будущей дороге. Внешняя жизнерадостность Облонского ни на минуту не может скрыть от нас, что здесь дан блестящий образ помещика, разлагающегося и хозяйственно и морально. Еще более типичны судорожные метания Константина Левина, несомненного носителя идей и чувств тогдашнего Толстого, и вырисовывающийся из–за его плеча несколько жуткий образ его брата с каким–то странным окружением и больного, с парадоксальным переходом на позиции революционного мещанства, в общем однако оставленного в тени и, очевидно, крайне несимпатичного автору.
Как социальная картина роман «Анна Каренина» явился результатом продолжительной борьбы Толстого за себя как хозяина, как помещика.
Как раз в это время Толстой покупал земли, старался экономически окрепнуть, на разные лады толковал об особенной роли помещика в отношении хозяйства страны и крестьянства. Вообще он проявил большую и напряженную экономическую деятельность.
В результате получилось громадное разочарование, чувство отсутствия дороги для своего класса и, в значительной мере, для самого себя.
Все, что в романе касается отрицательного описания разложения дворянства, все, что движется вокруг самого Левина с его планами, чудачествами, неудачами и взлетами, все это свидетельствует о мучительном процессе перехода Толстого с помещичьей точки зрения на какую–то другую. Еще незадолго перед тем Толстой доказывал необходимость освобождения крестьян без земли и на опасения, что это приведет к пролетаризации склонен был парадоксальным образом отвечать какими–то рацеями о достоинствах пролетариата, чем, конечно, прикрывалось только довольно откровенное алчное желание прихватить себе всю землю. Ко времени же написания «Анны Карениной» мы уже встречаем у Толстого в его экономических рассуждениях положение, ничего общего не имеющее с барством. В одной из записных книжек 1865 года мы читаем:
«Всемирно–народная задача России состоит в том, чтобы внести в мир идею общественного устройства без поземельной собственности. „La propriété c'est le vol“* останется больше истиной, чем истина английской конституции, до тех пор пока будет существовать род людской. — Это истина абсолютная, но есть и вытекающие из нее истины относительные — приложения. Первая из этих относительных истин есть воззрение русского народа на собственность. Русский народ отрицает собственность самую прочную, самую независимую от труда, и собственность, более всякой другой стесняющую право приобретения собственности другими людьми, собственность поземельную. Эта истина не есть мечта — она факт, выразившийся в общинах крестьян, в общинах казаков. Эту истину понимает одинаково ученый русский и мужик, который говорит: „Пусть запишут нас в казаки, и земля будет вольная“».26
* Собственность есть кража (франц.).
Только отчаяние в каком–нибудь способе примирения помещичьих интересов с крестьянскими, какой–нибудь возможности сопротивления разрушительным силам могло привести к такому сдвигу в настроениях и убеждениях очень крепкого, очень заботливого, порой до жесткости расчетливого помещика, каким в то время показывал <себя> Толстой. С этой точки зрения «Анна Каренина» в разрезе левинской части романа представляет собой важнейший документ как для понимания сущности хозяйственного и общественного переворота той эпохи, так и для понимания движения сознания Толстого. Экономические вопросы занимали его вплотную, хотя о Левине и говорится у него в одном месте: «Всякие разговоры об экономической переделке Левин считал вздором»,27 — и хотя в этом сказывается пренебрежительное отношение к какому–то полумарксизму, о котором, может быть, в то время что–то неясное слыхал Толстой, — проклятая действительность настолько крепко хватала его за сердце, что фактически он говорит именно о себе, когда свидетельствует:
«…Разговоры об урожае, найме рабочих и т. п., которые, Левин знал, принято считать чем–то очень низким, <…> теперь для Левина казались одни важными. „Это, может быть, неважно было при крепостном праве, или неважно в Англии. В обоих случаях самые условия определены; но у нас теперь, когда все это переворотилось и только укладывается, вопрос о том, как уложатся эти условия, есть единственный важный вопрос в России“, — думал Левин».28
Итак, социально–экономическая картина, содержащаяся в предлагаемом вниманию читателей романе, и объективно и субъективно служит переходом к той крестьянской точке зрения, которую выработал Толстой и которая впервые придала роль относительного единства его миросозерцанию, сделав его той своеобразной реакционно–революционной фигурой, какой знал его потом весь мир.
Но в «Анне Карениной» мы имеем не только эту картину. Этот роман есть не только <итог> борьбы против наступающего капитализма и повесть искания путей защиты старого порядка от разрушительных сил. Это не только описание жизни и борьбы Левина на общественной почве. Это еще и роман, посвященный вопросам любви и брака, причем в этой его части центральной фигурой является сама Анна.
Если важность социально–экономического содержания романа подчеркивается тем, что Левин является прозрачным автопортретом, то, с другой стороны, важность этой второй полосы проблем, трактуемых в романе, подчеркивается тем фактом, что именем центральной фигуры этого элемента в романе названо все произведение. Нельзя думать, что мысли, которые Толстой хотел провести в жизнь, своеобразно осветив вопросы любви и брака, находятся, с точки зрения социальной проповеди, в каком–то отрыве от его общественных тенденций.
Можно только сказать, что в левинской полосе романа Толстой, собственно, не приходит ни к какому выводу: он поколеблен, он ищет, он почти отчаивается. Со сдержанной сатирой рисует он свой гибнущий класс. Все надежды возлагает на правдолюбцев в нем вроде Левина и, однако, не только не может гарантировать выхода их на прочную дорогу, но даже еще не знает хорошенько, существует ли такая.
Наоборот, в каренинской полосе романа, беллетристически наиболее совершенной, разительно живой и головокружительно увлекательной, полосе, в которой художественный гений Толстого показывает себя во всем блеске, — он является совершенно уверенным учителем жизни. Он ведет себя так, как может вести себя только обладатель истины. Если он пишет в виде эпиграфа к своему роману слова, вкладываемые в уста божеству: «Мне отмщение, и аз воздам», — то это показывает, насколько он чувствует себя пророком, открывающим человечеству подлинный свет.
Между тем уверенность Толстого в этой части романа, т. е. в постановке проблемы любви и брака, проистекала лишь оттого, что здесь он был более последовательным реакционером.
Уже в то время созревали в Толстом мысли и чувства, которые гораздо позднее бурно проступят в «Крейцеровой сонате».
Уже Толстой 60–х годов ощущает половую любовь как вещь страшную. Он уже хорошо знал ее как разврат. Он несколько раз с упоением, со всей силой таившегося в нем сладострастья, бросался в мутные волны самых безудержных и самых низких половых приключений.
Но учитель жизни, но судья над самим собою, но постоянный проверщик состояния своей души с ужасом отмечал мимолетность моментов острого удовлетворения и ужасный горький привкус, им свойственный, с ужасом отмечал ту душевную темноту и грязь, которая оставалась в результате таких «порочных слабостей».
Из этого омута Толстой согласно стародворянским взглядам, в которых он воспитывался, мог искать спасения либо в монашестве, в отречении от половой жизни — и эта проблема долго и много волновала Толстого, — либо в чистом браке. Толстой в конце своей холостой жизни напряженно и со сладкой надеждой мечтал о невинной и чистой девушке, которая станет подругой его жизни, о высокой просветленной любви, о святом и глубоко моральном браке. Он и постарался найти его практически. Эти поиски отразились в романе историей Левина и Кити.
В ту эпоху Толстой стоит еще на точке зрения признания возможности счастливого и чистого брака. Он знает, что дело это не легкое. Он знает, что все здесь: сама половая жизнь, деторождение с его муками и опасностями, согласование существования двух разных людей в одну систему, — что все это чревато осложнениями и часто муками. Но всей глубины трагедии брака, вот того самого брака, в который он так твердо верил, Толстой в то время еще не осознавал. Твердым голосом говорит он миру:
«Плотская любовь со всеми неотрицаемо присущими ей красотами и волнениями, которые я знаю не хуже кого–либо и которые могу описать не хуже, чем кто–либо, есть сама по себе дьявольский соблазн. Однако можно примириться с этой потребностью в человеке, поскольку ее удовлетворением обусловливается размножение. Если ты посмотришь на брак как на институт, якобы созданный для удовлетворения твоей похоти, мужской или женской, то ты тем самым проявишь глубокое и опасное непонимание брака и семьи. Брак не есть источник наслаждения ни для мужа, ни тем менее для жены: брак есть суровый долг, брак есть поистине цепь, которую нужно нести терпеливо и трепетно. А подлинное оправдание брака — в детях».
Так именно строит Лев Николаевич свою собственную семью и — в общем, как мы знаем, — его жена вполне поддалась в данном случае его руководству. Она без конца рожала ему детей и молоденькой женщиной и старухой, она их кормила и выхаживала, лечила, хоронила или волновалась вместе с ними на дальнейших путях их жизни. Она была прекрасной матерью. У нее также было множество черт, делавших ее, с толстовской точки зрения, с точки зрения того идеального брака, о котором учит Толстой в «Анне Карениной», прекрасной женой. Преданный друг, хорошая хозяйка. Чего же еще?
Начало любви Льва Николаевича и Софьи Андреевны описаны со скрупулезными точностями в «Анне Карениной». Было много молодой взаимной любви. Еще очень долго, до седых волос, было взаимное стремление. Со стороны Софьи Андреевны было благоговение к великому мужу. Но счастья не было. Или почти совсем не было. А к концу все превратилось в ужасную трагедию. Среди массы обвинений, которые в своей книге подымает графиня Толстая против Льва Николаевича,29 громче всего звучат те, в которых она говорит о беспощадном подавлении ее личности, об ее вечных беременностях, об этом безжалостном, библейском: рожай! «Жена да рожает в муках чадо».
Толстой властною рукой построил согласно своему стародворянскому воззрению свою яснополянскую идиллию, а оказалось, что под кровлей жили два врага и что Толстому пришлось, наконец, бежать, как из чумного места, из этой самой Ясной Поляны, а жена его с ужасом оглядывалась на все прошлое.
Ко времени «Крейцеровой сонаты» все это уже было ясно для Толстого: там уже нет никаких оговорок, никаких иллюзий. Дьявол, царящий, по мнению Толстого, надо всей областью эротики, не делает исключения для брака. А между тем только с двух точек зрения можно было оправдать жесточайший суд над талантливой, симпатичной героиней романа, который был произведен его автором.
В самом деле, каково значение непосредственного романа Карениной и Вронского?
С ослепительной художественной силой, чудовищным знанием всех переживаний не только мужчины, но и женщины в эротической области рисует Толстой сближение двух молодых людей, муки и радости любви, конфликт их страсти с «долгом» и гибель героини.
Толстой все время говорит нам:
«Смотрите, как богато возможностями наше тело, как прельщает оно нас и как обманывает, какими запахами, красками, формами прикрывает оно неизбежное разочарование. Если я увлекаю вас мастерским изображением любовных переживаний, то это только для того, чтобы сказать вам о них всю правду, показать потом и ее изнанку, ту другую страшную правду о ревности, раскаянии, стыде, с которыми связана половая страсть.
Хорошо, — отвечаем мы. — Но для чего ты рассказываешь нам, учитель? Что же должна была делать Анна: должна ли она была задушить свою страсть к Вронскому, убить в себе живое чувство и потом безрадостно влачить свой жалкий жребий с постылым мужем?
Да, — отвечает учитель. — Именно так и должна была она поступить. Она должна была сделать это во имя ребенка. Она должна была принести себя ему в жертву. Она должна была это сделать в силу святости брака и взятых на себя обязательств.
А мы ему: но неужели ты думаешь, учитель, что продолжение брака с таким бездушным сентиментальным фантошем*, с такой праведно низменной мумией, как Каренин, создало бы полезную среду для развития мальчика? Думаешь ли ты, что глубокая ложь, на какой покоился бы мир этой семьи, не отравила бы ее насквозь? Думаешь ли ты, что убившая себя мать, вся полная неудовлетворенной страсти и непобедимой, хотя и скрытой ненависти к совершенному над ней насилию, была бы такой подходящей воспитательницей для сына? Не говоря уже о том, что можно еще спросить себя, почему один человек, в данном случае Анна, должен быть целиком принесен в жертву ради каких–то случайных, частичных и сомнительных благ другого человека — в данном случае ее сына.
* марионеткой (от франц. fantoche).
На этот вопрос Толстой мог ответить с уверенностью лишь в тот период времени, когда он считал неразрушимый брак как дело долга чем–то действительно устойчивым и нужным. Но его собственный пример показал, как это построение далеко от истины.
Есть еще другая точка зрения, с которой можно было бы потребовать от Анны воздержания. Можно было бы еще сказать, что половая любовь вообще есть грязная и порочная и что от нее надо воздержаться во имя девственности.
Но тогда спрашивается, что является более грязным и порочным: связь двух молодых людей, любящих друг друга, находящих радость друг в друге, или та связь, от которой родился сын у Анны, т. е. случайная и в этом отношении тупо развратная связь с нелюбимым мужчиной, за которого чей–то холодный расчет «выдал» Анну.
Нет, на самом деле тенденции Толстого, касающиеся брака и любви в романе «Анна Каренина», чрезвычайно слабы и уродливы. Его тезис остается недоказанным.
Если Анна гибнет, то гибнет она в силу безобразного общественного строя, который нагромоздил на пути к откровенному разводу огромную кучу грязи, срама, угроз, несчастий, страха. Толстой, однако, ни одним словом не протестует против всех этих государственных и церковных кандалов, какие носило тогдашнее общество в сфере любви. В том–то и дело, что в этой полосе романа Толстой, уже потрясенный в своем консерватизме в отношении хозяйственных вопросов, остается мрачным реакционером. Роман полемизирует не против государства и церкви, не против лжи брака без любви, а за государство, за церковь, за осуждающую сплетню, за жестокое преследование свободной любви, — против человеческого чувства, против права личности располагать собою.
В этом романе так же, как в первом, Толстой выступает как полемист.
Ведь на общественной арене состязались в то время вовсе не только барин и купец.
Если Толстой позднее перенес свои основы на крестьянскую почву, то на этой двойственной реакционно–революционной почве мог вырасти и рос не только толстовский анархизм.
Часть мелкого мещанства тоже сумела стать выразителями крестьянской революции, но в гораздо более чистой и глубокой мере, чем Толстой: таковы были революционные народники и прежде всего Чернышевский и Добролюбов, великие идеологи революционного народничества. И они не ограничивались только для того времени изумительно правильным разрешением хозяйственных вопросов, идя при этом куда дальше Левина, они разрешали и семейные вопросы тоже совсем иначе, чем Толстой. Для них мужчина и женщина были или должны были становиться сильными, светлыми, умными, свободными личностями, могущими располагать собою и заключающими между собою союзы согласно своему чувству. Блистательное разрешение этих вопросов, ставших тогда именно благодаря возвышению женщины, дал Чернышевский в своем романе «Что делать?».
Толстой понимал, конечно, что разложение, несомое капитализмом, и радикальная революция, шедшая под флагом социализма, — не одно и то же. Но как барин он мог призвать на помощь работающего собственными руками мужика и даже преклониться перед этим своим соседом, недавним рабом, но уж никак не позаимствовать мудрость из чужого лагеря, из чёртова города, где радикальные революционеры и социалистический пролетариат представлялись ему только тяжело заблудившимися и несчастными сынами того же нестерпимого нового духа.
И Толстой в «Анне Карениной» пытается прямо противостоять проповеди свободной любви. Он пытается предостеречь свой класс от подобных явлений. Для него не только сомнительные операции Облонского, легкомыслие, тупость, чиновничье чванство и т. д. являются тяжкими признаками разложения еще дорогой ему аристократии, но и любовь Анны к Вронскому, но и ее попытка быть правдивой в этой любви кажутся ему также признаками разложения его класса. И, воображая себя пророком грозного бога, он подымает перст и гремит об отмщении божьем всем тем, кто разрушает устои дворянского быта.
Таково социальное и моральное содержание этого романа. Он велик не своей тенденцией. Его тенденции антипатичны и слабы. Он велик тем, что, защищая эти свои тенденции, Толстой развернул такую неисчерпаемую галерею роскошно разнообразных картин.
Во–первых, тенденции Толстого еще не совсем отмерли, если не в России, то во всем мире. Хорошо пересмотреть их, когда они представлены таким титаном и с таким изобилием образных доказательств.
А во–вторых, помимо своих тенденций, часто вопреки им, в Толстом говорит знаток жизни и увлекающийся ее изобразитель. И тогда мы получаем из рук Толстого нечто нетолстовское, даже часто антитолстовское. Получаем художественно, гениально сконцентрированные сгустки самой жизни в ее потрясающей силе.
Один из очень усердных и несколько узких последователей Толстого, Никифоров, рассказывал с изумлением, что Толстой, вообще любивший Мопассана за терпкую и грустную передачу зол жизни, отстаивал для избранного собрания сочинений этого писателя какой–то рассказ о собачке, в котором не видно было ни грани морали, а звучало даже то прелестное и фривольное легкомыслие, та галльская пикантность, которая играет у Мопассана немалую роль.
— Лев Николаевич, побойтесь вы бога! Да что же поучительного в этом рассказе? — восклицал толстовец.
— Поучительного, действительно, ничего нет, — отвечал Толстой. — Но уж очень хорошо написано.30
Тут его устами говорил именно художник. А художественное начало в Толстом, которое он так часто, почти постоянно насиловал, на которое он навьючивал груз своих христианских идей, тоже, отнюдь, не было чем–то пустым: оно было наполнено беспредельным любованием <картиной> жизненного потока, напряженной чувственной страстностью, светлым ироническим умом, огромной, не деланно святой, а живой, почти животной, любовью к человеку и миру, непосредственным, страстным гневом против непосредственной же, очевидной несправедливости.
Таков был, так сказать, гениально биологический материал Толстого–художника, на него наслоился, в него въелся, с ним слился социальный облик Толстого — Толстой аристократ эпохи разложения этого класса. А затем, сверх этого, уже сознательно, часто не без фальши, построенный образ святого проповедника новой мужицкой истины, с высоты которой можно и нужно отвергнуть не только непосредственного врага — капиталистический мир, не только скинутые с себя раззолоченные ризы: барства, не только недопонятый и досадный социализм демократических низов ненавистного города, но даже и всю ту непосредственную страсть, всю ту огненную природу, которую Толстой ощущал в себе и которую он готов был принести в жертву своему азиатскому идеалу движения через любовь к покою, граничащему с той самой смертью, от которой Толстой с таким ужасом бежал.
В замечательной характеристике Толстого, которую дал Горький, ценнее всего именно то, что никто и нигде не прощупал за этим извращение классовым, омужичившимся, покаявшимся барином другого Толстого неуемного, роскошного, сомневающегося, переполненного жизни и силы 31
Таким образом, Толстой, и в частности его роман «Анна Каренина», признается нами огромным достоянием человеческой культуры потому, во–первых, что это памятник очень важной общественной эпохи; потому, во–вторых, <что>, критикуя Толстого, преодолевая Толстого, мы растем; потому, в–третьих, что попутно Толстой повсюду и, быть может, особенно в «Анне Карениной» дает так много художественно оформленных кусков подлинной внешней и внутренней действительности.
<1931>
Напечатано (с небольшими сокращениями) только на английском языке в кн.: «Anna Karenina» by Leo Tolstoy. Translated by Constance Garnett. Edited by Bernard Guilbert Guerney and Gustavus Spett, with an introduction by Anatole Lunacharsky, with wood–engra vings by Nicolas Piskariov. Two volumes. Vol. I. Published in Moscow USSR for the members of the Limited editions club of New York by the State Publishing House for Fiction and Poetry. 1933, р. VII–XLIV.
(«Анна Каренина» Льва Толстого. Перевод Констанс Гарнет. Под редакцией Бернарда Джилберта Гернея и Густава Шпета, со вступительной статьей Анатолия Луначарского и с гравюрами на дереве Николая Пискарева. Два тома. Том I. Издано в Москве, СССР, Государственным издательством художественной литературы для членов нью–йоркского клуба любителей изданий, выпускаемых ограниченным тиражом, 1933, стр. VII–XLIV).
«Limited editions club» был основан издателем Дж. Мэси (Georges Масу) в Нью–Йорке в 1929 г. Ежегодно по специальному заказу Клуба издавалось 12 книг. Эти книги в продажу не поступали, а рассылались подписчикам (главным образом, членам Клуба, число которых не превышало 1500).
Издания, выполненные по заказу Клуба, печатались в лучших типографиях США и за границей, иллюстрировались известными художниками (например, Фр. Мазереелем, П. Пикассо, Р. Кентом и др.). Большинство произведений иностранных (не американских) авторов печаталось по заказу Клуба в тех странах, где творил данный писатель. Так, «Собор Парижской богоматери» В. Гюго был издан в Париже.
Подготовляя по договоренности с Клубом издание романа Толстого «Анна Каренина», печатавшегося в типографии Гознак, руководство Государственного издательства художественной литературы обратилось 11 октября 1931 г. к Луначарскому с просьбой написать вступительную статью, которая после перевода ее на английский язык должна быть «сдана в производство в Гознак не позднее 1 декабря с. г.» (ЦГАЛИ, ф. 279, оп. 2, ед. хр. 624, л. 1).
В письме упоминалось и о том, что в книге будет помещена также «статья В. Шкловского, посвященная вопросу о приемах художественного творчества Толстого» (это намерение не было реализовано).
Луначарский, находившийся тогда в Берлине, дал согласие представить свою статью к указанному сроку и работал над ней в ноябре 1931 г.
В его личном архиве сохранилась записная книжка (ЦПА ИМЛ, ф. 142, оп. 1, ед. хр. 81), в которой он делал различные заметки во время работы в «Berliner Staatsbibliothek». Здесь же на л. 5–5 об. имеется набросок:
План (1–й) для «Анны Карениной»:
Великий всемирный и глубоко русский Толстой.
Загадочность фигуры, великий художник — аскет и моралист.
Толстой — мужиковствующий народник.
Религиозный учитель, противник насилия.
Ленин о главном в Толстом.
Ленин о противоречиях в Толстом.
Пророки толст<овского> типа (цит<аты> из меня?)
Крушение барина.
Психологические мотивы — страх смерти.
Облик Толстого у Горького.
Место «Анны Карениной».
- Речь идет о характеристике Толстого в кн. С. Цвейга «Три певца своей жизни. Казанова — Стендаль — Толстой» (см. С. Цвейг. Собрание сочинений. Изд. 2. Т. VI. Л., «Время», 1929). Из работ русских критиков–марксистов Луначарский имеет в виду прежде всего статью Плеханова «Отсюда и досюда» (Сочинения, т. XXIV). ↩
- М. Горький. Собрание сочинений в тридцати томах, т. 14, стр. 278. ↩
- Г. В. Плеханов. Сочинения, т. XXIV, стр. 188. ↩
- Эту мысль Толстой высказывал неоднократно, например, в «Письме студенту о праве» от 27 апреля 1909 г. (Л. Н. Толстой. Полное собрание сочинений (юбилейное), т. 38, стр. 60–61. Далее сокращенно — Толстой). ↩
- Лениным написано шесть статей о Толстом: «Лев Толстой как зеркало русской революции» (1908), «Л. Н. Толстой» (1910), «Л. Н. Толстой и современное рабочее движение» (1910), «Толстой и пролетарская борьба» (1910), «Герои „оговорочки“» (1910 и «Л. Н. Толстой и его эпоха» (1911). ↩
- Толстой, т. 18, стр. 346. ↩
- Здесь и далее Луначарский цитирует статью Ленина «Л. Н. Толстой» (В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 20, стр. 19). ↩
- Там же, стр. 20. ↩
- Там же, стр. 20–21. ↩
- Там же, стр. 21. ↩
- В статье «Герои „оговорочки“» (В. И. Ленин. Полное собрание сочинений т. 20, стр. 90–95). ↩
- Ленин писал о статье В. Базарова «Толстой и русская интеллигенция» («Наша заря», 1910, № 10). Цитата из статьи Базарова приводится Луначарским по статье Ленина (см. В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 20, стр. 90). ↩
- В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 20, стр. 20. ↩
- Там же, стр. 19. ↩
- Полное собрание сочинений Л. Н. Толстого (так называемое юбилейное) в девяноста томах предпринятое в 1928 г. Госиздатом по решению Советского правительства, было закончено в 1958 г. Историю этого издания см. в «Литературном наследстве» т. 69, кн. 2, стр. 429–540. ↩
Луначарский передает смысл того отзыва Флобера о третьем (а не втором) томе «Войны и мира», который И. С. Тургенев сообщил Толстому в письме 12/24 января; 1880 г. Флобер писал Тургеневу:
↩«Благодарю за то, что вы дали мне возможность прочитать роман Толстого. Это перворазрядная вещь! Какой художник и какой психолог! Два первые тома изумительны; но третий страшно катится вниз. Он повторяется и философствует! Одним словом, здесь виден он сам, автор и русский, тогда как до тех пор видны были только природа и человечество…»
(И. С. Тургенев. Собрание сочинений в двенадцати томах, т. 12. М., Гослитиздат, 1958, стр. 542).
- Ср.: В. В. Воровский. Литературно–критические статьи. М., Гослитиздат, 1956, стр. 318–319. ↩
- Г. В. Плеханов. Сочинения, т. X, стр. 379. ↩
- Там же, стр. 380–381. ↩
- Профессор–литературовед Алексей Евгеньевич Грузинский умер 22 января; 1930 г. (р. 1858). ↩
- А. Е. Грузинский. К новым текстам из романа «Война и мир» («Новых мир», 1925, № 6, стр. 8). См. также в кн.: Л. H. Толстой. Новые тексты из «Войны и мира». Кн. первая. М., 1926, стр. 13–14 (Биб–ка «Огонек» № 108). ↩
- Из статьи «Несколько слов по поводу книги „Война и мир“», напечатанной в мартовской книге журнала «Русский архив» за 1868 г. (Толстой, т. 16, стр. 8). ↩
- Толстой, т. 13, стр. 82. (Луначарский мог взять эту цитату из публикации Грузинского в «Новом мире», 1925, № 6, стр. 36 или в Биб–ке «Огонек», стр. 51.) ↩
- В одном из ранних конспектов романа о Николае Ростове сказано: «… Ему 17 лет. Ему дают любовницу <…> Пренебрегает Соней» (Толстой, т. 13, стр. 18, — В публикации Грузинского в «Новом мире», 1925, № 6, стр. 25). ↩
- К. Леонтьев. О романах гр. Л. Н. Толстого. Анализ, стиль и веяние (критический этюд). М., 1911, стр. 20–21 и 23. Приведенным словам у Леонтьева предшествует тезис: «Историческая или, точнее сказать, прямо политическая заслуга автора в „Войне и мире“ огромная». ↩
- Толстой, т. 48, стр. 85. ↩
- См. Толстой, т. 18, стр. 99. ↩
- Там же, стр. 346. Цитату Луначарский приводит в том виде как она дана Лениным в статье «Л. Н. Толстой и его эпоха» (см. В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 20, стр. 100). ↩
- «Дневники» С. А. Толстой. К этому времени вышли три выпуска: вып. 1, М. изд–во М. и С. Сабашниковых; вып. 2, М., то же изд–во, 1929; вып. 3, М., изд–во «Север» 1932. Последний, 4–й, выпуск опубликован издательством «Советский писатель) в 1936 г. ↩
- См. предисловие Л. П. Никифорова в кн.: «Произведения Гюи де Мопассана избранные Л. Н. Толстым», т. I. Изд. 3. «Посредник», <1912>, стр. IV. ↩
- Речь идет об очерке М. Горького «Лев Толстой» (1919). ↩