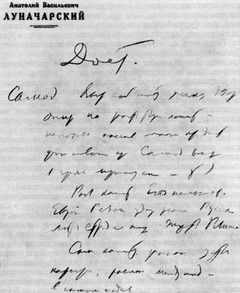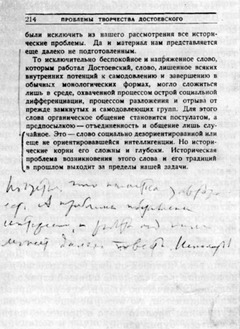Товарищи, Достоевский принадлежит к числу величайших писателей нашей литературы, а в последнее время можно уже окончательно считать его, по признанию огромного большинства читающей публики и критиков, одним из величайших писателей и литературы мировой.
Когда мы подходим к анализу его произведений и спрашиваем себя, чем, прежде всего, отличается Достоевский от других писателей и русских, и иностранных, то мы встречаемся сейчас же с характеристикой его как психолога.
В это слово «психолог» вкладывают то содержание, что Достоевский–де необыкновенно тонко знал человеческую душу и умел изобразить внутреннее состояние человека или различное содержание его сознания, различные процессы в его сознании с необыкновенной прозорливостью, причем тут же предполагается само собой разумеющимся, что человеческая душа действительно потемки, что в ней совершается много иррационального, странного, таинственного и что именно Достоевский все эти причудливые стороны человеческой психики великолепно понимал и умел их делать доступными нашему восприятию путем их художественного воспроизведения.
Мережковский, сам крупный писатель, неплохой критик, окрестил Достоевского «тайновидцем духа» и противопоставил ему Толстого как «тайновидца плоти».1 Это тем более должно казаться странным, что Толстой представляет в свою очередь одного из величайших писателей–психологов, и если некоторые из вас следят за современнейшей нашей критической литературой, то, вероятно, обратили внимание, что как раз совсем недавно те наши молодые пролетарские писатели, которые стараются определить главенствующий стиль пролетарской литературы для ближайшего времени как психологический реализм, выдвигают Толстого в качестве своего образца и учителя.2
И вот всего на этих днях разразилась по этому поводу стычка, которая, быть может, превратится в широкую полемику. Припомнили, что Чернышевский, великий предшественник нашего научного социализма, говоря о Толстом, как раз отметил прежде всего его умение изображать человеческое сознание в развитии, в противоречиях, не брать характер человека и даже какой–нибудь один момент как нечто статическое и устойчивое, а всегда относиться к нему как к текущему процессу.3
Плеханов в свое время эту характеристику Толстого как писателя, умеющего дать человеческое сознание в его процессуальном развитии, в его активности, в его диалектике, назвал необычайно проницательным суждением.4 Мы при свете этих фактов, которые сейчас заставляют некоторых, наоборот, сказать, что Толстой слишком психолог, что как барин, как индивидуалист, он слишком много внимания обращает на анализ разных состояний сознания и слишком часто изображает так называемых самокопателей, рефлектиков, — вот при свете такого суждения о Толстом странным становится, почему Мережковский назвал Толстого «тайновидцем плоти», а Достоевского — «тайновидцем духа».
Между Толстым и Достоевским разница была в том, что Достоевский глубже видит человеческое сознание, глубже видит причины, недра, бездны, как иногда принято выражаться, человеческого сознания.
Дело в том, что если Толстой был почти таким же больным человеком, как Достоевский, и являлся продуктом того самого общественного сдвига, который породил и Достоевского, и потому у них так много общего, что иностранцы часто плохо различают их и одним дуновением уст говорят о великих русских романистах — Толстом и Достоевском, то все же мы можем сказать, что герои Толстого взяты из помещичьей среды, <не> многие из них отличаются крайней порывистостью, прыжками мысли и чувств, какие мы видим у героев Достоевского.
Достоевский, что совершенно правильно отмечено в известной работе Переверзева о Достоевском,5 являлся, несмотря на свое официально дворянское происхождение, представителем разночинской России, представителем мещанства, городского мещанства, которое как раз к его времени хлынуло в жизнь страны как очень серьезный общественный фактор, и хлынуло вместе с тем в ее литературу.
Толстой совсем не знал разночинцев, он игнорирует разночинцев. В тех чрезвычайно редких случаях, когда он изображает разночинцев, он изображает их неумело, он их не знает.
Толстой изобразил гигантский социальный сдвиг, который породил всю русскую литературу, именно — постепенную европеизацию России, рост в ней капитализма и крушение старой барско–крестьянской России, изобразил, главным образом, как отражение в душе помещика, которого теснит новая форма жизни и благодаря которой он ставит целый ряд до тех пор не существовавших для него проблем.
А Достоевский берет несравненно более легкую индивидуальность, не умеющую сопротивляться, лишенную крова, лишенную вместе с тем традиций и потому носящуюся по воле ветров социальной бури туда и сюда.
И немецкая критика 6 и в последнее время — русская 7 отмечает, опять–таки совершенно правильно, что то огромное, сложное сплетение самых различных мыслей и чувств, какое поражает и в целом творчестве Достоевского и в отдельных его произведениях, должно быть отнесено за счет того знаменательного обстоятельства, что капиталистический порядок, когда он разбивает феодальные формы, установившиеся формы, в которых каждый сверчок знает свой шесток, в которых каждый катится по заранее изъезженным колеям, то он приводит в соприкосновение всевозможные уклады — религиозные, психологические, этические, бытовые*, смешивает это общество, в котором постепенно отложились установившиеся пласты, смешивает их, как ложкой можно смешать какой–нибудь сосуд, в котором различных плотностей и веса масла распределяются сверху вниз, и, приводя в соприкосновение эти миросозерцания, уже тем самым порождает душевные бури. Но дело заключается не только в тесном контакте общественных элементов, в прежние времена обычно весьма далеко отстоявших друг от друга, но еще и в том, что жизненный уклад этих элементов оказывается сам разбитым. Они потому соприкасаются, что вышиблены из своих систем. Конечно, это не значит вышиблены абсолютно — одни больше, другие меньше; как раз меньше всего к какой–нибудь системе принадлежал мелкобуржуазный гражданин, горожанин и в особенности тот, который непосредственно относил себя к интеллигенции, т. е. к людям, зарабатывающим <на> свою жизнь теми или иными формами мозговой работы.
* В стенограмме: религиозный, психологический, этический, бытовой.
Эта колоссальная сложность душевной ткани, душевных процессов, возникающих отсюда проблем у героев Достоевского подчеркивается тем (и это–то делает его действительно великим писателем), что на почве всех этих надрывов вырастает совершенно особая проблематика.
Эти лишенные привычек, брошенные в какой–то обновленный и вместе с тем хаотический мир люди, исходя из тех страданий, которые они испытывают вследствие неналаженности своей жизни, ставят большие вопросы общественного характера, религиозного характера, в общем и целом можно сказать этического характера в самом широком смысле этого слова, ставят большие моральные проблемы. И то, что эти моральные проблемы ставятся у Достоевского с неслыханной смелостью и огромной широтой, и приводит к результату совершенно неожиданной оценки его действующих лиц как действующих лиц, настолько издерганных, настолько ненормальных с точки зрения мало–мальски уравновешенного, нашедшего свое место в обществе человека, что, казалось бы, они должны были интересовать скорее как чудаческие явления огромное большинство читателей Достоевского. Хотя среди его читателей есть прослойка людей, которых можно назвать людьми Достоевского, как бы родными братьями его героев, но огромное большинство читателей отнеслось бы к ним как к чудакам, если бы эти чудаки почти всегда не оказывались носителями больших идей, целых миросозерцаний, мимо которых нельзя пройти равнодушно, потому что в этих миросозерцаниях и творится большое миросозерцание нового человека или, вернее, тех новых классов, которые постепенно стали оформлять себя, осознавать себя в процессе этого взбаламученного моря, как Лесков, тоже не далекий по своему характеру от Толстого, назвал в своем романе эпоху, выдвинувшую Достоевского.8
К этим чертам Достоевского — сложности психологической и надрывности, болезненно отражавшим собой стремительный хаотический процесс разложения старого мира и связанности этой надрывной психологии с большой проблематикой, — нужно прибавить умение внедрять, вкрапливать этих героев в чрезвычайно занимательный сюжет.
Достоевский и здесь отразил новую эпоху русской литературы.
Писатель–дворянин, писавший главным образом для дворян, придавал большое значение занимательности сюжетов и даже сверхзанимательности, считая, что погоня за увлекательной авантюрой заключается в том, чтобы читатель, трепеща, ждал, как в будущей главе разрешатся загадочные конфликты предыдущей, — этот писатель–дворянин сменился писателем типа Достоевского, который считал, наоборот, что свои крупнейшие идеи он может развивать и своим настроением заразить публику <даже> в таком случае, если он будет иметь массового читателя, которого нужно поймать на его заинтересованность чтивом (это слово изобрел Маяковский, очень хорошее слово), чтивом как книгой, которая вам нужна, чтобы не столько провести, <сколько> убить время; нужно читателя, испытывающего потребность в развлечении, поймать на это желание обогатить свою жизнь переживаниями симпатических героев, судьба которых обычно очень ярка и интересна.
Достоевский старается этот сосуд захватывающего романического действия наполнить затем своими психологическими ассоциациями и своей философско–этической проблематикой.
Часто говорят, что у Достоевского очень плохой слог. Как вы знаете, слог, стиль, т. е. выбор, конструкция глав, периодов, фраз, выбор слов, сторона образная языка и сторона музыкальная этого же языка — это очень важная вещь у писателя. И писатели–дворяне придавали чрезвычайное значение отточенности, совершенству своего слога.
Правда, уже у Толстого мы этого не видим. Уже Толстой понимает, что такая зашлифованность слога, такая старательность и виртуозность во внешней форме могут повредить очень серьезно содержанию.
У Толстого содержание это настолько уже серьезно и мучительно, что он почти боится, как бы его произведения не были прочитаны с удовольствием. Ему не удовольствие нужно, а ему нужен величайший интеллектуальный интерес и почти до боли доходящее душевное волнение. Поэтому Толстой стремится к такому совершенству стиля, которое бы сделало его почти отсутствующим, которое бы заставило вас видеть вещи и переживать события, как если бы между вами и ими не стояло книги, не было бы действующих лиц, как если бы вы видели все это в волшебном зеркале.
И здесь, по–моему, лежит тот величайший стилистический урок, который Толстой может дать пролетарским писателям. Я не говорю, что пролетарский писатель непременно должен писать в этой толстовской манере, но это единственная в своем роде манера, ибо такого другого писателя мы не имеем ни в нашей, ни в иностранной литературе — это манера уничтожения стиля ради необыкновенной полноты содержания. На деле наш писатель несет также громадный груз содержания и пишет для того, чтобы участвовать в творческом социальном процессе.
Так вот у Толстого и Достоевского слог, ввиду трагизма содержания, испаряется, весь лак, политура сжигается внутренним содержанием.
Достоевский жаловался на то, что он не может отделывать своих произведений, потому что он беден. Он говорит:
«Если бы у меня была Ясная Поляна, если бы мои доходы были обеспечены, то я мог бы медленно писать. Но я должен в известный срок сдать Некрасову новую главу романа, иначе я пропаду от долгов и мне нечем будет кормить жену».9
Отсюда торопливость.
Но не нужно принимать за чистую монету такие жалобы. Если бы у Достоевского и было время, то слог его был бы так же неряшлив и нервен, потому что Достоевский кипит, волнуется, переживает в самом глубоком смысле слова то, что он пишет. Писание Достоевского, хотя и есть литературное ремесло и хотя он продавал рукописи, пользуясь выражением Пушкина,10 и жил на это, — но по существу каждое его произведение было актом его внутренней жизни, было определенным моментом его собственных переживаний, и шлифовать эти переживания, объективизировать их Достоевский не мог, потому что они сейчас же потеряли бы свою заражавшую силу, как только он сделал бы объективную, вне его находящуюся статуэтку.
На самом деле, читая Достоевского, вы прикасаетесь к его мозгу, сердцу, именно этот постоянный контакт с автором, который также является действующим лицом, суфлером, который часто, кривляясь, комментирует драмы, в которых отдельные лица перед вами распинаются и друг друга режут словесными ножами, — эта картина есть непосредственный трепет нервов Достоевского.
Поэтому слог у Достоевского одновременно гениальный и никакой, ибо никакого желания проявить здесь какой–то выбор, какую–то виртуозность, мастерство у Достоевского нет и быть не могло.
Но оголенность материала, которая дается здесь параллельно толстовской, но несколько в другом, более болезненном, более судорожном аспекте, — она сама заменяет всякий слог, всякую внешнюю художественную словесную одежду.
Уже когда <Дерели> переводил первый роман Достоевского на французский язык,11 европейская публика, в известной мере и тогда испытывавшая качания, такие беспокойства, неуверенность в подлинности своих социальных устоев (и это особенно верно как раз для мелкобуржуазной интеллигентской прослойки), влюбилась в Достоевского и провозгласила его великим писателем.
Но его настоящий день пришел после войны, причем среди публики стран–победительниц развал этический, развал бытовой все–таки в гораздо меньшей мере осознавался, чем среди стран побежденных, и прежде всего в такой великой стране, имеющей необычайно серьезную, глубокую культуру, какой является Германия. Здесь, в Германии, поражение — этот полет с высоты в глубину унижения — произвело целый ряд чрезвычайно любопытных, социально–психологических явлений, между ними и тот взрыв отчаяния и неверия ни во что, взрыв болезненного нигилизма с огромной жаждой причалить к какому–то новому берегу, который ознаменовался в явлении экспрессионизма. Вот тут, среди самих экспрессионистов, Достоевский был в буквальном смысле провозглашен пророком, своего рода Мессией, потому что у Достоевского современный герой находил, с одной стороны, полное отражение своей собственной многосложной бесконечной неопределенности и, с другой стороны, хотел получить разрешение этих диссонансов.
Достоевский намеревался постоянно разрешать эти диссонансы в аккорд и даже победоносно утверждал, что разрешил. На самом же деле, как мы увидим дальше, никакого разрешения никогда не давал.
Герман Гессе — один из крупнейших писателей, наиболее близкий по дарованию к Достоевскому, — который после войны переживает чрезвычайно тяжелые душевные бури так, что в одном из романов он утверждает, что сойти с ума есть единственное счастье и выход из современных культурных проблем, считает шизофрению — бредовое помешательство — настоящим разрешением жизненных противоречий,12 — этот самый Герман Гессе, желающий почти перескочить через Достоевского в отношении патологического восприятия жизни, говорил о Достоевском после войны с некоторым ужасом (я в ближайшее время опубликую особый этюд «Герман Гессе о Достоевском»13). Он говорил, что Достоевский приходит в разбитую войной Европу как некий страшный гений или демон, который наносит последние удары европейской культуре. Европейская культура есть определенность, есть логика, принцип тождества, элемент определенного душевного порядка, а Достоевский, по его мнению, страшен именно тем, что он делает бесконечно привлекательным отсутствие убеждений, что он ставит вопросы чрезвычайно по–новому, он может заставить вас простить самый отрицательный поступок, не только простить, но увлечь вас, как неким великим соблазном, в эту внутреннюю свободу, которая при помощи неожиданного поворота души делает приемлемым совершенно неслыханный поступок.
Там, говорит Гессе, в России (подразумевая еще дореволюционную Россию) все еще было свежо, — так думает он, принимая за характеристику России вообще то состояние, в котором находились в эти 60–70–е годы наши городские интеллигенты, — а мы, говорит он, сами теперь начали растворяться, как будто бы попали в какой–то кипяток, в котором формы казавшиеся твердыми, начинают таять, и отсюда опасность Достоевского. В то время Гессе еще не обращал внимания на положительную работу, которую Достоевский совершает рядом с этим.
Но Достоевский изображает не только смятение душ и искание эпохи, но и их устремление к некоторому полюсу.
В эпоху Достоевского, когда капитализм сказывался уже настолько сильно на всей жизни, что стал подкапывать наиболее крепкие устои дворянства и деревню начал отодвигать на второй план, а все это делячество, строительство, биржу, накопление первоначальных капиталов и отсюда весь этот шум и гвалт буржуазного рынка и буржуазной конкуренции выдвинул на первый план, великим выразителем которого был потом Бальзак, — вот у нас в этой дисгармоничной и пестрой комбинации был действительно некоторый полюс, который мы и сейчас считаем положительным, хотя мы знаем, что люди, представляющие собою этот полюс, в условиях того времени не могли еще выдвинуть действительное решение задач, волновавших тогдашнюю русскую публику. Это были передовые народники. Их вождем и выразителем был Чернышевский.
Конечно, их народничество, их утопический социализм, их отношение к революции и к тактике революционной — все это сейчас с нашими знаниями, на нашем уровне уже является устаревшим. Мы знаем, что ограниченность эпохи, в которой они жили, не позволяла им поставить так<ое> решение общественных задач, которым мы теперь обладаем. Но основные их положения: необходимо организовать все революционные силы страны для свержения самодержавия вместе с крепостным правом (тогда они были неразрывны и, как вы знаете, мало что изменилось фактом формальной отмены крепостного права) и надо на развалинах этого самодержавия ни в коем случае не организовывать какой–нибудь республики по западноевропейскому образцу с властью плутократии, с властью богатых, а постараться сорганизовать силы непосредственно трудящихся масс для социалистической борьбы, — эта революционность тогдашних передовых людей была правильной.
Этих людей часто называли неизвестно откуда взявшимся словом, словом старым, но в России взявшимся неизвестно откуда, словом, изобретение которого приписывается Тургеневу, — «нигилист».14
Нигилистами представлялись эти передовые люди людям старой установившейся культуры, потому что они не могли понять, что отрицание, которое несло с собой тогдашнее передовое народничество, совсем не есть голое отрицание, совсем не есть цинизм, который разумеется под словом «нигилист».
Нигилистами называли людей типа Базарова и его наследников, которые были на самом деле глубочайшими реформаторами нашей жизни и с каждым шагом ближе и ближе подходили к идеалам Чернышевского, который официально признавался вождем всех этих, в шутку окрещенных «нигилистами», кругов молодежи.
И Достоевский также называл их нигилистами и как никакой другой писатель способствовал представлению, что революционер–народник есть циник, бес, есть разрушитель и враг всего человеческого достояния.
Но как к этому Достоевский пришел? Тут мы и соприкасаемся с самым главным секретом Достоевского. Должен сказать вам, товарищи, что секрет Достоевского — есть секрет всех наших писателей, только на разные лады он разыгрывается.
Поступательный рост капитализма вызывал к жизни новые классы, основной класс — это, конечно, сама буржуазия. Но когда открываются новые общественные перспективы, когда строятся новые дороги, то начинает жить интенсивной жизнью народная масса и в особенности ее верхушка — интеллигенция, стоящая в промежутке между мелкими и средними буржуазными и народными массами, та самая, которая пела «Вышли мы все из народа, дети семьи трудовой».
Вот эта часть интеллигенции, прежде всего во время революционного, объективно–революционного продвижения капитализма, делала из него субъективно–революционные выводы, т. е. во время этой ломки и смены хотела, от разума исходя, поставить какие–то идеалы, крепкие цели, к которым нужно устремиться и, воспользовавшись ломкой, на самом деле отойти от феодализма и не прийти к капитализму, а организовать некоторое разумное человеческое общество.
Достоевский, когда он вошел в жизнь молодым человеком, гениальным, необыкновенно чутким ко всякому страданию, обиде, гордым, мечтающим об огромной роли и чувствующим <себя> в силах ее выполнить, не мог, конечно, пройти мимо этого юношеского социализма.
Естественно, что он был петрашевцем, и курьезно, что дворянско–буржуазная критика всячески старается это замазать.15 По ее мнению, Достоевский попал туда случайно и уж, конечно, случайно приговорен был к смертной казни, — в действительности же Достоевский был сначала умеренным розовеньким либералом, а потом сделался умеренным консерватором.
На самом же деле мы знаем, что Достоевский был сначала чрезвычайно решительным революционером, который не остановился бы перед террором, а в конце был чрезвычайно решительным реакционером, который не остановился бы перед погромом. И не нам, конечно, стараться представить его в умеренных и комнатных красках и размерах, как это делает всякого рода либеральная критика.
Революционные его мечты, порывы были так велики, что он никогда до последнего своего издыхания не мог их забыть, не мог их вырвать из своей души, в своих произведениях он вновь и вновь возвращается к победе святых начал уравновешенной жизни, и всегда он оставался искренним утопистом.
Но эта искренняя утопия и революционные пути к установлению этого царства правды на земле сделались мучительным кошмаром для Достоевского.
Почему? Потому же, почему для других писателей. Не буду много останавливаться на примерах. Приведу двух писателей.
Гоголь. Он вступает в жизнь необыкновенно веселым человеком с этаким украинским блеском в своих карих глазах и с необыкновенно рассыпчатым и зазывным смехом, но через несколько времени, уже через очень, короткий срок мы видим, что он говорит о своем смехе как о смехе, звучащем сквозь слезы, и восклицает: «Скучно жить на этом свете, господа»16 и «нет хуже и тяжче призвания, чем призвание сочинителя в нашей стране».17 И кончает Гоголь, как вы знаете, ипохондриком, оторванным от общественности человеком, становится пророком на службе у самодержавия и православия.
В чем внутренний смысл гоголевской судьбы? В том, что Гоголь вначале мечтал, конечно, о громоносной критике всякого зла на свете, но убедился потом, что зло — царствующее зло, непоколебимое зло и бороться с ним — значит погибнуть и погибнуть безрезультатно.
Поэтому, придя к выводу, что путь, которым он пошел, есть гибельный и безрезультатный, Гоголь проделывает героическое усилие, сумасшедшее, безумное усилие сохранить свое достоинство, сохранить свою веру в жизнь, <веру в себя> как руководителя своего общества, но вместо того, чтобы бить по злу, делается слугой этого зла. Для этого нужно это зло провозгласить добром, нужно его во что бы то ни стало оправдать, нужно подпевать всей той музыке, всему тому церковному пению и официальным гимнам, раздающимся из медных инструментов христолюбивого воинства, которыми стараются заглушить стоны одних и звериные крики других.
Это даром не дается.
А еще более светлый предшественник Гоголя — Пушкин? Мы знаем, что он говорит: «Не дай мне бог сойти с ума» и рисует перспективу, что <за> сумасшествие держат в цепях.18 Мы знаем, что называет безумием Пушкин.
Безумием он называет вызов, брошенный декабристами царю, безумием он называет тот священный пафос, с которым отдельные единицы, ужасающиеся этому скорбному и мучительному общественному порядку, идут на гибель, и при этом бесплодную гибель, вместо того, чтобы сдержаться, вместо того, чтобы отойти в сторону, вместо того, чтобы покориться.
Перед всеми писателями, перед одним за другим встает этот вопрос: как мне покориться или как мне отойти в сторону хотя бы, и при этом не заплевать самого себя, не показаться себе ренегатом, не показаться себе самому не героем и не поэтом, а трусом и предателем.
И Пушкин разрешал во всю вторую половину своей жизни эту задачу. И он должен был выковать для себя какие–то чрезвычайно драгоценные доспехи, в которых он мог бы выступить перед публикой и не вызвать той укоризны, с которой к нему обращались и Лермонтов и Катенин указанием, что он покинул стан страдающих за великое дело любви.19
Таково же точно положение и Толстого, который пришел к выводам, что государство, церковь, классовый строй, собственность — это все гибельные начала, исказившие образ человеческий, и вместо того, чтобы сказать после этого: «А потому нужно бороться с этими чертами», сказал: «Да, бороться, пожалуй, но бороться словом, убеждением, ни в каком случае не бороться силой против силы».
И то, что Ленин, признававший Толстого столь великим писателем и в рамках нашей страны, и в мировой литературе, называет его «юродствующим»,20 — это все порождено было необходимостью оправдать то, что он сам не идет на борьбу и других не зовет, а прибегает к таким формам протеста, которые более или менее приемлемы, которые не губят всей этой линии.
Вот эта колоссальность и как бы непобедимость зла, т. е. крепостного порядка или буржуазно–монархического порядка, угнетавшего наших писателей, отразилась в их психике то большим, то меньшим изломом, сделала их то в большей, то в меньшей мере психопатами.
Достоевский (возвращаюсь к основному писателю, который нас сегодня занимает) был петрашевцем, шел очень далеко в своих социалистических симпатиях, был арестован, приговорен к смертной казни. На его чрезвычайно впечатлительную натуру, которая бывает таковой почти у всякого писателя, а у Достоевского в особенности, эта сцена или момент, когда он был <лишь> на секунду отдален от насильственной смерти и вдруг услышал, что помилован, произвела неизгладимое впечатление, и каторга была для него двойной. Тут были не только физические страдания каторжанина, но огромное моральное страдание: как же быть? Погибнуть окончательно и унести в преждевременную могилу свою молодую славу, уже отмеченную Белинским, все те гигантские планы, которые рисовались ему, весь тот своеобразный мир, который он в своей душе чувствовал? Надо как–то выйти из этого положения, найти какие–то тропы, которыми можно вернуться в жизнь, отбросить эту каторгу и занять место уважаемого литератора в том же царском Петербурге.
Если вы представляете, что это так просто делается, что Достоевский сидел и думал: как бы мне помириться с самодержавием, — я скажу: может быть, это было, а, может быть, и не было, а то, что действительно было, это подсознательный процесс, который терзал Достоевского.
Представляется такому человеку какая–нибудь мысль, какой–нибудь образ, план, а он говорит «нет», не сам говорит, а внутреннее его подсознание отшвыривает это, — «это опасно, это гибель, это яд» — и подбираются только такие слова, такие фразы, такие темы, которые оказывались бы канатом, за который можно схватиться и при помощи которого можно выйти из пучины гибели, в которую втолкнуло его самодержавие.
Под этим углом зрения вся психика Достоевского — подсознательная и сознательная — начинает гигантскую работу для выработки миросозерцания, при котором Достоевский мог бы сказать:
«Я учитель жизни, я пророк моего народа, я великий писатель земли русской, но царь мне дает пенсию, помогает мне издавать мои журналы, я в дружбе с архиереями и митрополитом, я поддержка и устой существующего порядка».
А ведь так с Достоевским было в конце. Он гениальным образом разрешил эту задачу. К нему относились как к учителю жизни, самому волнующему, ставящему самые глубокие проблемы писателю, и он был вместе с тем официальным глашатаем самодержавия и православия, которое, правда, иногда косилось на него — уж слишком большой человек, слишком космато гениальный, иногда говорит такие вещи, что жутко становится, но все–таки всегда умеет остановиться там, где надо.
Достоевский трагичен не только в том смысле, что он внутри переживает постоянную трагедию и изображает переживающих трагедию, но и формально у него в высшей степени драматургический способ изображения, т. е. у него непрерывно идет дискуссия между отдельными действующими лицами, дискуссия слов и поступков, и это главное отличие произведений Достоевского.
Эта непрерывная дискуссия, этот постоянный спор между отдельными лицами есть, по существу говоря, отражение вечного беспокойства Достоевского. Он все время хочет охарактеризовать — под именем нигилиста, врага отечества, религии, человечества — живущего в нем молодого Достоевского. А молодой Достоевский, петрашевец, верящий в революцию и социализм, постоянно поднимает вновь эти могильные камни, выступает перед Достоевским во всей лучезарности и заявляет свои права.
И Достоевский опять бросает в него грязью и огнем, запирает в глухие подвалы, сажает на цепь, опять дает противопоставление своим действующим лицам — своих гремящих прокуроров, не прокуроров по должности, а своих прокуроров в этих дискуссиях, и своим <прокурорам> дает все шансы, все симпатии, делает так, что они являются прорицателями будущего, только бы сделать так, чтобы они действительно могли отпеть эти беспокойные стихии, он доводит дело до того, что разделяет революционера на две фигуры, сделает из него Смердякова и скажет, что революционные лозунги есть, по существу говоря, вульгарное раскрепощение зверя в человеке, преступнейшие намерения под лозунгом «все позволено». Надо помнить, что преступление, которое сделает Смердяков во имя этих лозунгов, это его преступление. Все ужасы раскрепощенного Калибана,21 сорвавшегося с цепи, полуидиота Смердякова, есть не что иное, как выполнение тайных помыслов социалистических мыслителей. Все это, конечно, не помогло, и до конца дней Достоевский не верил в свое собственное положительное миросозерцание, занимал у церкви все ее ладаны и лампады и компоновал из консервативных и церковных идей с поразительным искусством всякие христианско–просветительные, занимал для этого краски даже у своих эпилептических припадков с их моментами безграничного слияния человечества с вечностью и т. д.
И все–таки оказывается, что именно там, где Достоевский сомневается, там, где Достоевский со злобой внутри выслушивает, что говорит ему вечный оппонент, именно там он интереснее всего, интересен, поскольку задыхается, спорит сам с собою, а как только мы возьмем положительную часть Достоевского, — кроме официальщины, кроме того же самого самодержавия и православия, ничего не находим, и никакие фиоритуры Достоевского не в состоянии окрасить его положительное учение.
В недавнее время мы были свидетелями еще одной полемики вокруг Достоевского. В книге Переверзева о Достоевском этот критик–марксист справедливо указывает на несравненно большую проницательность в суждении о революции, которая была свойственна Достоевскому, по сравнению со всякого рода либералами.
Переверзев прав, когда он говорит, что либералы воображали, что революция будет в белых перчатках, лояльна, будет протекать в рамках свободного гуманизма, каким всегда были окрашены ее знамена. А Достоевский понимал, говорит Переверзев, что революция будет действительно зверем из бездны для многих, что она будет литься кровью, будет дымиться пожарами, что во время ее совершится огромное количество не только необходимых, но и излишних преступлений, что когда будут рубить лес, то много щепок полетит, и тот, кто будет рассматривать революцию издали, вряд ли увидит в ней божественное лицо, она покажется ему звериной рожей.
Но когда Переверзеву кажется, что вследствие этого можно сказать, что Достоевский был в известной мере революционером, если он это действительно утверждает, — а оппонент его, Либединский, утверждает, что к такому выводу приходит Переверзев,22 — то против этого нельзя не протестовать, потому что Достоевский изображал революцию тем не менее грозной, могучей, ужасающей и вовсе при этом не любил ее, даже не мог признать, как Блок, который говорил, что революция есть гейзер, но вы посмотрите, какие светлые потоки он несет с собой.23 Этого у Достоевского не было: да, водопад, Ниагара, но смотрите, какая кровавая. Для него это не было нечто, что нужно объяснить как стихийную форму революции, без которой не может произойти революция, а для него это было уродство революции, во имя которого нужно запереть ей пути, загромоздить камнями отверстие, из которого может хлынуть революционный гейзер.
Но, с другой стороны, когда Либединский упрекает Переверзева, что он меньшевик и не любит революции, это в некоторой степени такие полемические приемы, которых нужно избегать, потому что Переверзев далек от того, чтобы разделять до конца мнение Достоевского. Ему хотелось только отметить эту чуткость Достоевского к грандиозности революции и, разумеется, в этом отношении Достоевский на много голов выше либералов и мнимых революционеров.
И вопрос только в том, правильно ли вследствие этого считать, что Достоевский как личность, т. е. в своем сознании, сколько нибудь симпатизировал этой революции. Я утверждаю, что нет. Но что он внутренне, в глубинах подсознания боролся и все–таки влекся к ней — это верно, и только эта внутренняя могучесть в глазах самого Достоевского заставляла его вновь и вновь нападать на нее.
В настоящее время мы можем уже сказать, что Достоевский через своих Алеш и Зосим на самом деле к победе над этим вечным врагом не пришел, по–видимому, и в собственном своем суждении и тем более в суждении огромного большинства его читателей.
Но мы спросим себя: какое же значение имеет Достоевский для нас?
Во–первых, мы имеем в лице Достоевского изумительный документ его собственной эпохи. Мы должны быть историками. Для того чтобы знать законы общества, которым мы намерены управлять, нам нужно весьма твердо и тонко знать прошлое человечества и в особенности той страны, где мы призваны сами работать.
И искусство является поразительным документом, характеризующим всякую эпоху, только нужно уметь его допрашивать.
Так и Достоевский, если уметь допрашивать, даст ценнейшие указания относительно смысла его эпохи, т. е. смысла наиболее бурных десятилетий линяния старой буржуазии и превращения ее в ту капиталистическую, в которую мы ей превратиться не дали.
Но Достоевский не только является свидетельством о своей эпохе, но и о всех тех эпохах, в которых происходили подобные явления. Так что, скажем, какой–нибудь немецкий экспрессионизм, зная Достоевского, гораздо легче понять, чем не зная, и по–настоящему проанализировать Шекспира без Достоевского необычайно трудно, ибо у Достоевского все те гигантские внутренние противоречия, которые можно считать основными чертами социально–трагических писателей, они выражены в такой прегнантной, выпуклой форме, что через него уже легко понять, в сущности говоря, взбаламученные, взвихренные ветрами социальные эпохи и людей.
Наконец, нам важно еще знание Достоевского и потому, что та болезнь века, которой он был выразителем и которой он хотел быть доктором, не прошла и сейчас даже в нашей стране. В нашей стране имеется довольно большое количество людей, которые, правда, ни в какой мере не являются задающими тон, но которые еще более ошеломлены, почти сломлены наступлением пролетариата в процессе, когда феодальная Россия не успела смениться буржуазной.
Это мировое событие — Октябрьская революция — она вызвала в людях, прямо или косвенно связанных со старым миром, не только феодальным, но и буржуазным, колоссальное внутреннее расщепление, огромную внутреннюю борьбу. И поэтому Достоевского и сейчас еще многие чтут как своего родного отца, чтут как своего настоящего выразителя, находят в его зеркале отражение своих переживаний. Есть еще такая достоевщина 20–х и, может быть, это продлится в 30–х годах нашего столетия, а мы должны это знать. Нельзя сказать, что эти люди не нужны. Нет, они наши сограждане, и нам приходится частью лечить их, частью отбрасывать. Это та прослойка, особенно часто затрагивающая интеллигентных людей, которая приводит ко всяким опасностям и даже к разного рода вредительству. Там часто настоящая достоевщина, и Достоевский свое свидетельство об этой искалеченной и патологической душе, которая попала между историческими жерновами, которая разбита, приведена во внутреннее запутанное движение, — он дает нам для этого замечательный материал, которого мы сами не смогли бы выдвинуть.
И если вы скажете, что современный писатель должен это делать, я скажу, что такая запутанность, изломанность души человеку здоровому трудно дается. Нужно быть самому больным, чтобы это изобразить, и мы вовсе не желаем, чтобы народился новый Достоевский, с нас достаточно старого, чтобы понять современных племянников и внуков его героев.
Но Достоевский хотел быть и врачом. Его микстуры мы решительно отвергаем. Микстуры его нам не нужны потому, что он хотел беспринципность, оторванность от общества излечить гораздо большей бедой — покорностью, верой в провидение и т. д., т. е. лекарствами, которые мы считаем смертельными ядами и которые мы должны бить в Достоевском и через Достоевского.
Наконец, он хотел применить и хирургическое лечение, отсечь гангренозные части общества, т. е. революционное, а оказалось, наоборот, что больными были те, которых он считал здоровыми, а здоровыми те, которых он считал больными. Он хотел, чтобы возглавляемое царским правительством могучее «народовольческое» общество отсекло революционную часть, отняло око, которое соблазняет, и руку, которая ведет к каким–то непотребным действиям, а на самом деле оказалось, что весь организм перешел на эту сторону, и хирургия была использована в обратном направлении — отсеченными больными <органами> оказались его здоровые.
Поэтому, само собой разумеется, принимать всерьез социальные и политические суждения Достоевского никак нельзя, а можно ставить перед собой только вопрос: каким образом Достоевский сочиняет для себя все эти приемы и методы и спасает свое самоуважение, несмотря на то, что он садится верхом на черного коня реакции, каким образом он ухитряется стряпать такие вещи — бороться за них и отталкивать.
Но вреден ли Достоевский? В некоторых случаях очень вреден, но это не значит, чтобы я считал, что следует запрещать его в библиотеке или на сцене. Теперь идет борьба — можно ли его разрешить на сцене. Я считаю, что мы представляем собой сейчас настолько здоровый организм, развивающийся, имеющий в себе огромные повышающиеся запасы энергии, что мы можем позволить себе сейчас такой великолепный материал, как материал Достоевского, ставить перед собой и критически преодолевать его, хотя бы отдельный человек вместо того, чтобы преодолеть его, потонул. Мы не можем запретить купаться в Москва–реке, потому что каждый год тонет несколько человек. Так же точно мы не можем отвести все общество от гигантской задачи: преодолеть Достоевского, использовать его для нас, потому что на отдельных лиц он может подействовать нездоровым образом. Но, конечно, на племянников и внуков героев Достоевского он может действовать отрицательно, и я считаю отрицательным не то, что они могут увлечься его православием и самодержавием (это десятое дело), но Достоевский позволяет преступление или пакость оправдать некоторым сложным психологическим процессом. Гессе говорит о том, что у Достоевского есть некоторое внутреннее разложение. Это верно. <У> Достоевского «преступление и наказание» — ему кажется, что преступление должно уравновешиваться наказанием, а проступок, пакость, в конце концов, всегда уравновешивается раскаянием. Но наказывать преступника не есть <…>,* и мы предпочитаем, чтобы не было преступления и не было наказания, но там, где преступление есть, естественно наказание как акт защиты общества. Но по существу мы против наказания и за то, чтобы истреблять самые возможности преступления.
* Пропуск в стенограмме.
Человек, который совершает невероятную пошлость или подлость и будет говорить, что это произошло от глубины его души и что за это он кровавыми внутренними слезами расплатился, — нас нисколько не утешит, потому что все эти фигуры покаяния не дают никакого хлеба обществу. Это весьма сложные и сами по себе пакостные процессы.
Когда человек совершил ошибку, нужно, чтобы она была признана им и отсечена раз навсегда, а вот человек Достоевского может повторить эту ошибку и второй, и десятый раз, он только каждый раз будет обливаться кровавыми слезами. Это оправданное пакостничество и оправданное преступление у Достоевского было незаконнорожденным плодом его революционности и его православных настроений, и этот омерзительный плод есть самое неприятное, самое зловонное в творчестве Достоевского.
Значит ли это, что мы должны пройти мимо Достоевского, что те соображения, которые я приводил за полезность, за чуткость Достоевского, парализуются этими соображениями? Нет. Но что здесь нужна осторожность, что Достоевский должен даваться всегда с определенной комментирующей критикой, что к нему нужно относиться как к сильно действующему веществу, которое так просто каждому в руки не должно быть вручаемо, особенно подрастающим поколениям, что Достоевский должен даваться в рамках, и чрезвычайно твердых рамках, действительно объективной, но в то же время выдержанной революционной критики, — это не подлежит никакому сомнению.
- В книге: Д. Мережковский. Л. Толстой и Достоевский. Жизнь и творчество. Изд.4. СПб., «Общественная польза», 1909. ↩
- О важности психологического реализма для пролетарской литературы и о необходимости учиться у Толстого говорилось в статье Ю. Либединского «Реалистический показ личности как очередная задача пролетарской литературы» («На литературном посту», 1927, № 1), в некоторых докладах и речах на VI Московской конференции пролетарских писателей в апреле 1927 г. (см. сборник статей «Творческие пути пролетарской литературы». М.–Л., Госиздат, 1928). ↩
- Известные слова Чернышевского о Толстом как замечательном мастере психологического анализа, изображения «диалектики души» (см. Н. Г. Чернышевский. Полное собрание сочинений в пятнадцати томах, т. III, стр. 423–427) в дни, предшествовавшие выступлению Луначарского, привел в своей статье «О хлебе насущном» В. Сутырин, призывая пролетарских писателей учиться у Толстого его художественному методу («Литературная газета», 1929, № 30, 9 ноября). С ним полемизировал в статье «Толстой или Маркс?» Е. Чернявский, заявляя, что нельзя совместить творческий метод Толстого и диалектический материализм (там же, № 31, 18 ноября). ↩
- В отделе III первой части книги Плеханова «Н. Г. Чернышевский» (Сочинения, т. V, стр. 360–362). ↩
- В. Ф. Переверзев. Творчество Достоевского, 1912; изд. 3, М., ГИЗ, 1928. ↩
- Луначарский внимательно следил за работами немецких критиков о Достоевском. См., например, его обзор «Германия о Достоевском» («Культура и жизнь», 1922, 1). ↩
Так, в книге «Проблемы творчества Достоевского», привлекшей сочувственное внимание Луначарского, Бахтин писал:
↩«… Многопланность и противоречивость Достоевский находил и умел воспринять не в духе, а в объективном социальном мире <…> Многопланность и противоречивость социальной действительности была дана как объективный факт эпохи»
(M. М. Бахтин. Проблемы творчества Достоевского. Л., «Прибой», 1929, стр. 42–43).
- Оговорка: автором романа «Взбаламученное море» (1863) является не Н. С. Лесков, а А. Ф. Писемский. Возможно, что Луначарский имел в виду роман Лескова «На ножах» (1870–1871), тоже в карикатурном виде изображавший шестидесятников. ↩
В письмах Достоевский не раз жаловался на необходимость писать к сроку, ради денег:
↩«За что же я–то, с моими нуждами, беру только 100 руб., а Тургенев, у которого 2000 душ, по 400? От бедности я принужден торопиться и писать для денег, следовательно, непременно портить»
(Ф. М. Достоевский. Письма, т. I. М.–Л., ГИЗ, 1928, стр. 246);
«Этот будущий роман уже более трех лет как мучит меня, но я за него не сажусь, ибо хочется писать его не на срок, а как пишут Толстые, Тургеневы и Гончаровы. Пусть хоть одна вещь у меня свободно и не на срок напишется»
(Письма, т. II, стр. 298);
«Верите ли, я знаю наверно, что будь у меня обеспечено два–три года для этого романа, как у Тургенева, Гончарова или Толстого, и я написал бы такую вещь, о которой сто лет спустя говорили бы»
(там же, стр. 283).
Слова книгопродавца из стихотворения Пушкина «Разговор книгопродавца с поэтом»:
↩Позвольте просто вам сказать:
Не продается вдохновенье,
Но можно рукопись продать.
- Первым переводчиком романов «Преступление и наказание», «Идиот», «Братья Карамазовы» на французский язык был Виктор Дерели (Derély). Его переврды Достоевского начали появляться в середине 80–х годов. В книге М. Вогюэ «Le roman russe» (Paris, 1886) дана высокая оценка переводческой работы Дерели как человека, способствовавшего знакомству французского читателя с русской литературой, наряду с Тургеневым, Мериме и Л. Виардо. ↩
- Герман Гессе (Hesse; 1877–1962) — немецко–швейцарский писатель–экспрессионист. Речь идет о его романе «Степной волк» («Steppenwolf», 1927), в котором прославлялись самоубийство и сумасшествие как единственные пути из мрака жизни к счастью. ↩
- Замысел Луначарского написать этюд о книге Гессе «Взгляд в хаос» («Blick ins Chaos», Bern, 1921) остался неосуществленным. ↩
- Слово «нигилист» («нигилизм») употреблялось задолго до появления романа «Отцы и дети». В русской литературе оно встречается еще в статье Н. И. Надеждина «Сонмище нигилистов» (1829). Однако только после выхода тургеневского романа это слово получило широкое распространение для обозначения революционных демократов 1860–х годов. Об истории этого слова см. в статьях: М. П. Алексеев. К истории слова «нигилизм» (Сборник статей в честь акад. А. И. Соболевского. Л., 1928); Б. П. Козьмин. Два слова о слове «нигилизм» (Известия АН СССР. Отделение литературы и языка, т. X, 1951, вып. 4); А. И. Батюто. К вопросу о происхождении слова «нигилизм» в романе И. С. Тургенева «Отцы и дети» (там же, т. XII, 1953, вып. 6); Б. П. Козьмин. Еще о слове «нигилизм» (там же). ↩
- Для таких литературных критиков, как, например. Д. Мережковский или Ю. Айхенвальд, характерно либо полное умолчание о прогрессивных взглядах молодого Достоевского, приведших его в кружок Петрашевского и на каторгу, либо подчеркивание случайности этого эпизода в биографии писателя. О степени участия Достоевского в обшестве петрашевцев дают возможность судить обширные материалы, собранные в кн.: Н. Ф. Бельчиков. Достоевский в процессе петрашевцев. M.—Л., Изд–во АН СССР, 1936. Автор пишет: «В числе главных членов кружка и одним из важнейших, по определению следственной комиссии, был Ф. М. Достоевский» (стр. 1). ↩
- Заключительная фраза из «Повести о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем». ↩
- Вероятно, имеются в виду слова из письма Гоголя к М. П. Погодину от 15 мая 1836 г.: «Грустно, когда видишь, в каком еще жалком состоянии находится у нас писатель» (Н. В. Гоголь. Полное собрание сочинений. Изд–во АН СССР, т. 11, стр. 45). ↩
- Речь идет о стихотворении Пушкина «Не дай мне бог сойти с ума» (1833). ↩
- Более подробно о «Послании» Катенина к Пушкину и стихотворении Лермонтова «К***» (1830–1831) Луначарский говорил в статье 1930 г. «Александр Сергеевич Пушкин» (см. I, 66). ↩
- В статье «Лев Толстой как зеркало русской революции» (см. В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 17, стр. 209). ↩
- Калибан — персонаж пьесы Шекспира «Буря» (1611), грубый, уродливый невольник–дикарь, олицетворяющий человеческую низость и подлость. За бутылку вина он становится добровольным слугой пьяницы–дворецкого и подбивает его на убийство Просперо, который воспитал Калибана. ↩
- Имеется в виду речь Ю. Либединского на пленуме РАПП 23 сентября 1929 г. (см. Ю. Н. Либединский. Несколько слов о Переверзеве. — «На литературном посту», 1929, № 19). ↩
А. Блок писал в статье «Интеллигенция и революция»:
↩«Революция, как грозовой вихрь, как снежный буран, всегда несет новое и неожиданное; она жестоко обманывает многих; она легко калечит в своем водовороте достойного; она часто выносит на сушу невредимыми недостойных; но — это ее частности, это не меняет ни общего направления потока, ни того грозного и оглушительного гула, который издает поток. Гул этот все равно всегда — о великом»
(А. Блок. Собрание сочинений в восьми томах, т. 6, стр. 12).