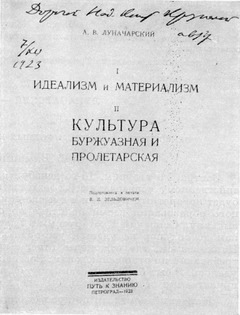Мою лекцию на тему «Материализм и идеализм» я постараюсь изложить как можно более популярно, памятуя, что среди публики, здесь собравшейся, есть очень много молодежи, которая не искушена в какой–нибудь особенно тонкой терминологии и для которой эти вопросы, если не новы, этого я не думаю, то, во всяком случае, не так уж привычны. Но вместе с тем если мы не захотим вульгаризировать нашу тему, упрощать ее чрезмерно, то придется ставить настолько сложные вопросы перед собой, что лекция потребует все–таки довольно напряженного вашего внимания, тем более что я не считаю себя вправе дать короткий и беглый очерк моей темы, а думаю остановиться на всех важнейших сторонах сопоставления идеализма и материализма как двух миросозерцаний и дать некоторый суммарный очерк их истории, и потому лекция моя будет не особенно короткой.
Товарищи, в общеречье еще до сих пор слова «материализм» и «идеализм» употребляются совершенно иначе, чем они употребляются людьми, вкладывающими философское содержание в эти термины. Энгельс,1 например, слыша постоянно такое словоупотребление, далеко не точное, в одном случае очень резко против него протестовал и, говоря, что он осуждает идеализм как ложное истолкование мира, как неправильную концепцию, заявил, что тем самым отнюдь не отрекается от того, что называется практическим идеализмом, от служения определенному идеалу, что такого практического идеализма в материалистах на самом деле гораздо больше, чем в философских идеалистах.
В чем тут дело? Дело в том, что быть идеалистом можно двояко: вы можете иметь высокие идеалы, т. е.
некоторое представление о счастливой, благородной жизни на земле или о каком–либо личном вашем совершенстве, можете носить в себе идеал любого произведения, которое вы хотите создать, скажем вы хотите приблизиться к идеалу в живописи, поэзии, конструкции какой–нибудь машины. Чем выше вы ставите себе такой идеал и чем более страстно стремитесь к тому, чтобы его воплотить, тем более вы идеалист в практическом смысле слова. Чем у человека цели площе, низменнее, достижимее и чем меньше эти цели заставляют его напрягать свои силы, не выводя его из обычного будничного состояния, тем менее он идеалист, и очень часто таких людей, лишенных идеала, называют материалистами. Говорят: ну что этому человеку нужно? Только бы вкусно поесть, жалованье схватить — он материалист! — разумея под этим, что чисто материальные потребности, его личные желудочные потребности есть то, чем он руководится. Так вот идеалистом в этом смысле слова философский материалист не только может быть, но непременно бывает. В течение моей лекции я докажу вам, что настоящий, последовательно, подлинно продумавший и прочувствовавший материалистическое миросозерцание человек — неизбежный практический идеалист в гораздо большей мере, чем адепт, ученик философского идеализма.
А что же такое этот философский идеализм, в каком другом смысле слова можно быть идеалистом? В другом смысле слова можно быть идеалистом вот как: когда человек предполагает, что кроме мира реального, мира вещей, среди которого мы живем, мира явлений, составляющего наш опыт, есть другой мир — идеальный, т. е.
данный нам через идею, через интеллект или, как думают другие философские школы, через интуицию, что некоторыми, особенно тонкими сторонами нашей природы мы можем как бы прозреть сквозь завесу реальных вещей, материи, бытия, которое нас окружает, инобытие, сверхопытное бытие, и это сверхопытное бытие есть идеальное бытие. И вот надо как можно меньше ценности придавать материальной жизни, действительности, в которой мы живем, говорит такой идеалист, а направлять свою жизнь согласно незримым звездам, существующим за пределами нашего опыта, согласно велениям метафизического, мистического или религиозного мира, который и есть подлинный мир.
Материалист–монист, этот материалист признает мир чем–то единым. Вселенная для него абсолютное неразрывное целое, и в этой единой вселенной он может ставить во времени разные цели. Он может говорить: мой идеал в будущем и я к нему устремлюсь, но он не может сказать, что его идеал лежит вне вселенной, в другом мире. Основная сущность идеализма заключается в том, что он дуалистичен, что он предполагает пропасть, предполагает разделение между миром как он есть, который доступен только идее человеческой, который отражается только в его идее и поэтому называется идеальным миром, и миром действительности. Правда, этот мир действительности для некоторых идеалистов есть как бы шелуха, внешняя оболочка идеального мира. И в этом смысле они как будто объединяют его, но всегда существо, основной жизненный характерный пункт, вокруг которого вращается идеалистическое мышление, заключается в том, что я–де мир как действительность считаю бесценным, я не придаю ему значения, есть другой, лучший мир.
И почему идеалисту так важно вращаться вокруг этого пункта о двух мирах? Потому что он в самом себе признает два мира. Он признает, что в нем есть смертное тело и бессмертная душа и эта бессмертная душа есть часть того идеального мира. Она в нем зарождается, в нем развивается, в нем она бессмертные судьбы получает, которые могут самым различным образом представляться различным идеалистам. И она, как вечная сущность, важнее тела. И от того, что идеалист исходит из двух представлений, из которых одно пренебрежительное для него, временное, почти костюм его вечной души, а другое есть его настоящая сущность, вытекает различная оценка одного, материального мира, к которому мы принадлежим, телесного, и другого мира — духа, в котором живет временно разлученная с миром духов и наша душа.
Это нужно твердо и точно себе усвоить, потому что очень часто, даже беспрестанно, смешивают эти два понятия. И слово «идеалист» — высокий чрезвычайно в моральном смысле человек, имеющий идеалы и всем сердцем служащий этим идеалам, — смешивают со словом «идеалист», т. е. человек, верующий в некоторый идеальный мир, находящийся вне мира действительности. И получается, что материалисты в моральном отношении люди плоские, люди, готовые удовлетвориться малым, люди брюха, а идеалисты — люди головы, люди сердца.
Это совершенно неверное представление, и из дальнейшей моей лекции вы увидите, что дело обстоит скорее как раз наоборот.
Действительно, присмотримся к тому, что является, так сказать, основным, чувственным, эмоциональным мироощущения материалиста. Потом я вам изложу саму историю материализма в кратких чертах.
Пока же мы подойдем самым общим образом к вопросу и постараемся определить, какова сущность впечатлений от жизни, внутреннее переживание философствующего материалиста, сознательного материалиста.
Прежде всего такому сознательному материалисту присуща, как я уже сказал, идея того, что вселенная только одна и что эта единая вселенная есть мир нашего опыта, та действительность, в которой мы живем. Материалист прекрасно понимает, что мы не изучили ее вдоль и поперек, что в ней есть много непознанного, что она беспредельна, бесконечно велика вширь и вглубь и качеством беспредельна, что мы еще младенцы в деле познания этой действительности, но материалисту присуще сознание, что это познание будет идти теми методами, как сейчас, что он реально будет завоевывать реальными методами область за областью в этой единой, внутри связанной закономерной связью вселенной, частью которой являемся и мы сами.
Будучи таким образом уверенным, что никакого другого мира, кроме этого мира, нет, и никаких других законов, явлений, кроме тех, которые мы изучаем, устанавливаем и совершенствуем, также нет, материалист должен с точки зрения оценки мира прийти непременно к некоторому трагическому выводу. В самом деле, хорош этот мир или нет? Да, конечно, он восхищает нас своим величием, своим разнообразием, страшно мощным кипением сил. Недаром существуют художники и поэты, которые воспевают вселенную в таких прекрасных тонах и красках; но человек сознает, что этот мир далеко не так создан, как если бы имелось в виду человеческое счастье. Наоборот, он констатирует, что все живое страдает, борется, взаимно уничтожает друг друга. Когда мы присмотримся к жизни микроорганизмов, растений, животных, мы видим, что там идет страшная борьба. То же и среди людей. Мы видим здесь вражду между отдельными группами, племенами, классами и лицами. Миллион всяких опасностей от перемены температуры, от микробов, всяких хищных животных, друг от друга, неизбежность всяких болезней, старости, смерти, потери близких людей и т. д. Все это верно, все это факт, не пессимисты это говорят, а каждый из нас знает, что жизнь человека такова и что она уже десятки, сотни тысяч, может быть, миллионы лет такова, если мы будем говорить о жизни на земле вообще. Присматриваясь к факту жизни живого существа, материалист констатирует что? Что живое существо есть такое существо, которое обладает сознанием, и это сознание живому существу нужно. Живое существо есть некоторая часть мира, своеобразно приспособленная к жизни во вселенной, а именно так, чтобы не только косно противостоять воздействиям или разрушаться от них, как так называемая мертвая или неорганическая материя, а разнообразно реагировать на них, для того чтобы избежать опасности, чтобы усвоить необходимое в смысле пищи — словом, чтобы функционировать, постоянно восстанавливая равновесие свое внутреннее, нарушаемое всякими воздействиями среды.
И вот чутко и тонко живое существо должно и умеет реагировать, иначе оно погибло бы. Живое существо страшно хрупко по своему внутреннему строению, оно не могло бы существовать при земных условиях, если бы оно не обладало способностью тонко, часто на расстоянии, вперед, вовремя почувствовать наступающие положительные или отрицательные воздействия и выбрать ту реакцию, которая при этом наиболее подходяща.
Это и есть то, что мы называем жизнью и сознанием.
Если это так, то естественно, что при воздействиях вредных, разрушительных, если живое существо не должно погибнуть, оно должно уметь сигнализировать себе опасность, оно должно найти какой–то стимул, дабы сделать страшное усилие и устранить, победить эту опасность и укрепить, задержать полезное для него явление, готовое исчезнуть. И этот стимул есть боль, страдание. Страдание, боль есть сигнал, что что–то неблагополучно, что что–то грозит, что нужно напряжение сил для самообороны. И вот, поскольку мир вовсе не создан так, чтобы быть оранжереей для живых существ, поскольку живое существо развивалось в нем и своими мягкими ростками вклинилось в этот твердый, жесткий, чуждый, холодный автоматический мир, поскольку оно постоянно ранит себя о природу и друг о друга, эти поранения сопровождаются болью; если бы этого не было, то живые существа погибли бы так, как человек, который, положив руку в огонь, не почувствовал бы боли и сгорел бы. Таким образом, страдание является неизбежным условием самой жизни, но оно показывает, что между человеком и вселенной существуют колоссальные внутренние противоречия, что мир весь построен из внутренних противоречий, что мир вовсе не создан для человека. Это материалист прекрасно понимает; итак, во–первых, он ощущает абсолютное единство мира, единичность его, т. е. что никуда от него не убежишь, а во–вторых то, что вселенная не устроена ради человека, не имеет в виду человека, что человек есть случайность, которая должна обороняться в мире и больше страдает, чем наслаждается.
И материалист не может себе сказать: ну да, этот мир действительно плох, но есть другой мир, я здесь страдаю, но после смерти установится равновесие, справедливость. Этого материалист сказать не может. Поэтому, казалось бы, материалист должен быть безысходным пессимистом, но он не пессимист, потому что ему присуща третья важнейшая черта — его внутренний волевой стимул, его стремление пересоздать этот мир.
Материалист настоящий — это человек, который никогда не мирится с болью, никогда не мирится с этими противоречиями, который говорит: я на зло всегда реагирую, чтобы боль оттолкнуть, чтобы наслаждение изведать, чтобы себя организовать. Живой организм, здоровый живой организм, всегда есть машина для того, чтобы приспособить к себе мир и самому приспособиться к миру, он всегда есть машина, чтобы утверждать все более победоносно равновесие внутри и по отношению к внешним событиям, и вся материалистическая социология, вся материалистическая программа, вся материалистическая борьба за изменение мира есть постановка вопроса о том, а не могут ли живые существа, и в первую очередь человек, сорганизовать, сгармонировать свои силы, победить природу и перестроить ее таким образом, чтобы она была ареной человеческого разумного счастья? Не может ли человек, как сила среди других сил, вызвать на трудовую борьбу вселенную и в процессе гигантского мирового усилия победить эти бесконечные трещины в сердцах людей, весь этот хаос, весь этот бунт материи против разумной своей части — против человеческих мозгов, против поколений борющихся, страдающих существ?
Материалист хочет зло прекратить, победить, чтобы человек сделался хозяином в природе. И материалист, продумавши до конца свою философию, перед всяким вообще социально мыслящим человеком может поставить проблему таким образом: дело не в том, чтобы я, какой–то, положим, Иван Иванович, победил природу, а дело в том, чтобы люди в процессе их экономики, в процессе их борьбы с природой сумели ее когда–то победить.
Это — основная цель. Каждая отдельная личность должна служить этой цели, и каждое приближение к успеху — уже победа.
Это и есть экономика: когда говорят экономический материализм,2 то к этому термину можно подойти двояко. Это значит, с точки зрения подхода чисто научного, что материализм, занимаясь анализом развития общества, полагает, что это развитие в особенности определяется экономическими сторонами общественной жизни, хозяйством данного общества. Но если вы к этому же самому определению экономического материализма подойдете с философско–этическим критерием, это будет значить: материализм есть глубокое убеждение, что мы и мир есть некоторая борьба за экономию, т. е.
живой, покоряющий природу труд, в котором человек находит спасение от всяких невзгод и личного горя. Социальный процесс, идя часто криво и с перебоями, все же является шествием к триумфу, превращает человека в подлинного хозяина земного шара.
Вы видите, таким образом, что все миросозерцание материалиста по необходимости — если это настоящий, подлинный материалист, а не человек, останавливающийся на середине, — есть миросозерцание настоящего практического идеалиста. Когда Маркс сказал: «Философы лишь различным образом объясняли мир, но дело заключается в том, чтобы изменить его»,3 то он дал самое исчерпывающее определение этической, нравственной сущности материализма, ибо никакого утешающего истолкования мира мы не даем, не занимаемся тем, чтобы сказать, что мир вообще ужасен, но если–де его перетолковать, то он покажется приятным. Именно потому, что мы безусловно честно и мужественно смотрим на мир и чуем в себе запас сил и способностей переделать его, мы провозглашаем такой лозунг: человек еще дезорганизованный, в могучем процессе организующий свои силы в экономическую систему, называемую социализмом, должен преодолеть среду, очеловечить ее не тем, чтобы рассказывать басни, будто бы миром правит на деле какой–то сверхчеловек с седой бородой, бог, а очеловечить тем, чтобы сделать эту природу реально зависимой от человека путем познания законов природы и их применения в нашей все растущей, все более богатой и могучей технике.
Возьмите теперь по сравнению с этим основной тонус миросозерцания идеалиста. Основное миросозерцание идеалиста непременно и исконно пессимистично, потому что аргумент, который вы найдете у каждого идеалиста: мир плох, смерть царствует в этом мире, это мир бывания, мир тления, мир преходящий, — мы не можем им удовлетвориться. А так как мы не можем им удовлетвориться, то мы должны постулировать другой мир, требовать, чтобы и существовал этот другой мир, и мы заявляем, что этот другой мир, хотя он совсем нам не виден и с нами не соприкасается, на нас непосредственно не действует, а живет только в нашем сердце и в нашем чаянии, — мы заявляем, что этот–то мир и есть настоящий. Так появляется преданность к иному миру, страстный порыв в этот бестелесный мир, где нет тления, и, чем сильнее и пламеннее этот порыв, тем с большим презрением осуждает человек свое собственное тело и все, что делается на земле. Это уже полуидеализм, если допускаются известные земные радости, если земные цели не кажутся тусклыми по сравнению с теми, которые открываются перед человеком за гробом или при известном возвышении человека из состояния полуживотного до состояния энтузиастического просветления.
Страшно типично и страшно характерно раскрыл сам себя идеализм в фигуре Канта.4 Это было настоящим саморазоблачением идеализма. Я не буду говорить о том, насколько сильно и удачно удалось Канту ниспровергнуть старую метафизику и старый идеализм и установить трансцендентальный идеализм, согласно которому вся действительность вкладывается в определенные рамки нашего духа, так что мы воспринимаем действительность не иначе как через определенные категории, помимо которых мы ничего ощутить просто не можем. Оставим в стороне эту интересную часть кантовской философии, которая еще до сих пор требует новых и новых пересмотров. Но характерно то, что из этих кантовских положений вовсе не вытекал настоящий, подлинный трансцендентальный идеализм, верящий в потусторонний мир. Из этих кантовских положений, наоборот, следовало так: действительность только одна, она дана в опыте, но человек этот опыт научно обрабатывает, открывает в нем законы и закономерности согласно особенностям своего мышления. Материалист мог спорить, действительно ли человек обрабатывает мир согласно своим субъективным нормам, или законы навязываются явлениями нашей индукции, т. е. непосредственному наблюдению, и мир строится, так сказать, сам в нашей голове. Об этом мог быть спор, но никакого бога, никакого бессмертия души, никакого воздаяния по заслугам не вытекало из кантовской философии. А между тем Кант высосал их, как из пальца. Кант после «Критики чистого разума», этого глубоко ученого и по–своему чрезвычайно смелого труда, написал «Критику практического разума», в которой он с необыкновенным цинизмом разоблачил корни идеализма! Он говорит: нельзя не верить в бессмертие души человека, если человек должен быть моральным! Если мещанам не дать морали, то они будут друг с другом грызться. Откуда же взять мораль для них? Кант, как человек XVIII века, понимает, что полиции, которая просто хватает за шиворот, или внешней морали в виде правил пристойности недостаточно; поэтому Кант учит, что у человека внутри его есть моральный закон, и это моральный закон, очень типичный для мещанской философии: поступай таким образом, чтобы правило твоего поведения можно было применить ко всякому другому человеку, т. е. мещанская средняя линия. В сущности это значит — надо вести себя прилично, «комильфо», как следует каждому добропорядочному обывателю. Ну, а почему я должен себя так вести, а не вести себя как разбойник? С точки зрения совести — почему я не должен совершать проступков? Кант сначала уперся в такую идею: живет этот долг в нас, и ничего не поделаешь.
Но этого Канту показалось мало. Он великолепно понимал, что на этом далеко не уедешь. И как он в первой части своей книги не настаивает, что всякая идея награды и наказания должна быть отброшена, он в конце концов заявляет: ну, а что же в действительности — человек, исполняющий долг, всегда счастлив? Отнюдь нет. Ну, а человек, который совершает прохвостнические поступки, всегда бывает несчастлив? Отнюдь нет. Мещанин не может никак создать круглого миросозерцания. Какая–то странная несправедливость существует в мире, противоречащая божественному долгу, та именно, которая не вытекает у материалиста из соображений загадочной целесообразности, а просто диктуется громовым голосом природы.
Кант говорит: исходя из факта совести, мы имеем право постулировать, что в другом мире грешники будут наказаны, а праведники награждены. Но для этого необходима бессмертная душа. Чтобы можно было с уверенностью сказать, что бессмертная душа будет действительно справедливо судима, нужно верить в бога, и Кант все это постулирует, и когда он сам себе возражает, что постулировать, мол, можно, но где доказательства?
Я ведь сам доказал, что сверхопыт ничем доказать нельзя? — то отвечает: нельзя доказать ни бытия, ни небытия иного мира, стало быть, это пустое место, запредельность. А раз сердце наше жаждет, чтобы это пустое место наполнилось содержанием морали, при которой нам будет легче жить, то для чего нам брыкаться? Ницше 5 правильно сказал, что сидевший в Канте пастор проснулся и восстановил то, что он низверг как философ. Он заявил: всякий потусторонний мир есть мечта, которую человек превращает в действительность потому, что ему очень хочется, чтобы эта действительность существовала.
Но почему человек так этого хочет? Потому, что он мир считает злом. Мир действительности есть мир по существу неприятный, а переделать его, перестроить, революционизировать его — в это мещанин не верит: он слишком индивидуалист, он не верит в возможность массового творчества. Когда он принимается за работу такого размера, он не может ее доделать, а не веря, что есть исход коллективный, он не может выйти из своего положения иначе как через посредство непробудного пессимизма или при помощи мистики.
Шопенгауэр 6 — кантианец во многом. Когда он установил, как ему казалось с полной непреложностью, что мир есть страдание, он все–таки нашел из него выход, и этот выход оказался буддистским выходом. Он заявил, что если в себе всякое желание убить, если внутри свести себя к круглому минимуму, свернуть свою душу в комочек, жить исключительно внутренней жизнью, уснуть великим сном, то это усыпление великим сном, это самоуничтожение, это свертывание жизни в себе, по существу говоря, есть искупление, которое позволяет нам найти мудрость философа.
Я бы мог привести массу примеров, но я хочу только установить факт, что всякий идеалист опирается на такое же отрицание мира и на внутреннюю трусость, на внутреннюю неспособность вызвать этот мир на бой, сказать, что если не я, то мы победим его. На этой почве возникает вера, что у этого царства сатаны есть всемогущая душа, бог, который поможет нашему немощному духу и все приведет к хорошему концу. И бог, может быть, противоречия разрешил уже на каком–то счастливом острове или в преисподней, где бродят тени, или в неведомом пространстве — словом, где–то в другом мире, где вся бухгалтерия сведена таким образом, что кредит и дебет совершенно сходятся и что человек может только рявкнуть «осанна».
Это к общей характеристике материализма и идеализма. Теперь нам будет очень полезно вкратце проследить, как тот и другой возникли и развились…
Первобытный человек имеет и первобытное мировоззрение. Сейчас наука накопила такое количество относящегося сюда материала, что мы почти ясно представляем себе, как мыслил этот полуживотный человек до возникновения анимистических понятий. Все представлялось ему живым так же, как и человеческое тело. Человек для него не распадался на душу и тело, а что тело умело действовать, проявлять себя, не казалось странным — все остальное тоже проявляет себя: ветер, который дует, вода, которая течет, или камень, падающий с горы, тоже действует, проявляя себя, как и человек. Поэтому в этом своеобразном мире виделась ему братская, хотя и враждебная сущность, все были одинаково живые.
Постепенно только начинают возникать представления о том, что есть живое и что есть то, что мы называем мертвым, механическим, неживым. Есть такое, что произвольно движется, и такое, что может быть движимо.
Все это очень неясно у первобытного человека. Например, что такое, когда проносится ветер или протекают волны потока? Но например, камень нужно расшатать и опрокинуть, чтобы он покатился с горы, а сам он этого сделать не может. Если он это делает сам, то это странно.
Некоторые полагают, что разделение на активные и пассивные существа возникает непременно тогда, когда в самом обществе есть разделение на организаторов и организуемых. Я думаю, что это не так. Ведь и до существования этого разделения в обществе существует уже труд. А что такое труд? Труд есть активная работа человека над каким–нибудь материалом, который ему подчиняется. Всякий труд в сущности есть организаторская работа, и ненужно, чтобы в человеческом обществе появились организаторы и организуемые. Достаточно, чтобы человек был организатором любой палки, которую он вдвигает в просверленный камень, чтобы он знал, что она ему повинуется, что он ею владеет. Во всяком случае мы видим здесь миросозерцание расплывчатое, аляповатое, из которого постепенно возникает первобытный анимизм.
Человек приходит к заключению, что его тело в некоторых случаях так же неподвижно, как камень, что оно тогда никуда не годно, что оно есть вещь, лишенная всякой силы. Делая эти наблюдения, человек приходит к выводу, что дыхание, этот теплый ветер, который веет изо рта и носа, есть условие жизни, что, когда человек бездыханен, когда дыхание из него вышло, покинуло его, он становится совершенно пассивной вещью. И это дыхание, которое вышло из человека, по примитивной логике, по примитивному представлению, не может совсем потеряться: оно вышло, но где–то существует. К этому, как вы очень хорошо знаете по прекрасным наблюдениям Тейлора,7 Леббока 8 и других, которые теперь получают все новые и новые подтверждения, присоединяется сон.
Сон, когда человеку снится что–нибудь или когда он сам приснился другому или ему кажется, что он действует в других местах, — этот сон, возвращение души при обмороках, болезни, когда он не может установить причины и представляет, что, очевидно, боль производится каким–то невидимым агентом, — все это приводит человека к мысли, что мертвые — братья, что духи, покинув тело, обладают свойством производить хорошие и дурные поступки, производить различные явления и движения в природе через посредство каких–нибудь индивидуальных тел, овладевая различными предметами. То они живут в одном предмете, то во многих предметах, но они окружают нас целым громадным хором незримых существ, с которыми можно заключать определенные заветы, с которыми можно приходить в определенные договоры, можно давать им подарки, жратву, жертву и за это пользоваться различными их услугами, можно гадать, запугивать их разными заклятиями. И рядом с первобытной наукой, наблюдением над действительными явлениями, над соотношением вещей и явлений появляется лженаука, постепенно появляются и своего рода спецы в этой области, кудесники, жрецы, которые якобы владеют техникой, при помощи которой можно действовать на духов и через них на самые явления.
Конечно, мы здесь еще не ищем идеализма, это только грубое начало идеализма, потому что духи для примитивного человека вовсе не есть идея. Это есть ветер, это есть сгущенный воздух, что–то парообразное, какие–то существа прозрачные, но которые могут сгущаться в тела, которые могут овладевать телом, даже телом покойника, заставить его встать и ходить и т. д.
Этот дух очень близок к материи и даже с ней совпадает.
И спирит нашего времени от этого анимизма далеко не ушел, ибо у него дух прекраснейшим образом движет стульями и столами и обладает такой же силой мускулов, как любой телесный человек. Он представляет его себе материей среди материй, и в этом отношении спирит представляет собой совершенное подобие первобытного анимиста. Это миросозерцание было материалом для идеализма.
Когда общество стало распадаться, когда появились классы угнетенные и классы господствующие, когда образовалась общественная иерархия все более и более высокая, все более и более сложная, то и царство духов тоже стало отражать такую иерархию, т. е. появляются духи — воины, жрецы и т. д. И там отцы, предки вождейаристократов оказывались на высоких степенях, были окружены целыми дружинами убитых с ними и им подчиненных духов, а смерды превращались в тех назойливых, вечно голодных духов — мух, от которых отбоя нет.
Это представление о иерархии духов по мере роста королевской власти, величия и значения жрецов как носителей знаний, как интеллектуальных руководителей масс проявлялось все сильнее. Появились два типа: мощного царя и мудрого тайноведца–жреца, и боги также, предки господ, те, которые их поддерживают, те, которым они молятся, приобрели такой же характер. Цари, повелители, мощь которых велика на земле и на небе, по мере того как на земле появляется мечта о завоеваниях, покоряющих громадные страны, и жрецы, ибо мечта жреца — не копье, не сила мышц, а тайная сила его слова, символа, знака, сила молитв и заклинаний. Таким образом, боги вырастают в тех гигантских колдунов, которых никто не видит, но колдовством которых все существует. Является представление о страшных войнах на небе, боги ведут битвы между собой или с непокорными людьми. Вырастает новый мир, чем далее, тем более абстрактный, чем далее, тем менее похожий на человеческий, потому что в мечтах возвеличения себя и своих предков краски сгущаются. Здесь может быть царь могучий, а бог всемогущ, здесь жрец знающий, а бог всезнающ. Властительный человек, аристократ в богов своих вкладывает все, о чем он мечтает, но все здесь приобретает гиперболический вид, бог становится всемогущим, всеблагим, всемудрым. Этим самым создается идеал, высокое представление о каком–то абсолютном могуществе.
И само собой разумеется, такой разукрашенный мир богов становится бесконечно более желанным, ярко соблазнительным, чем нынешняя юдоль, и тем не менее не всегда такие аристократические общества проникаются сознанием внутреннего разрыва между ними и богами.
Настоящий крепкий язычник говорит: боги мне покровительствуют, боги сражаются вместе со мной, они отдают мне город за городом на разгром, они отдают мне племя за племенем, они дали мне скот, они дали мне рабов, а когда я умру, я уйду к моим предкам, богам, с которыми по–прежнему буду сражаться, охотиться и т. д.
Но когда социальный рост и усложнение общества приводят к тому, что аристократия, выполнив свою работу, достигает своей кульминации, высшего пункта своего развития и начинает разлагаться, разрушаться, когда в процессе смены поколений появляются люди с разрушенными, подорванными нервами декадентов, без каких–либо желаний впереди, когда общество аристократическое начинает шататься, новые экономические силы или опасные враги его со всех сторон теснят, — тогда в аристократии и ее жречестве поднимается тоска по этому потустороннему миру. Тогда им кажется, что тот мир, где они живут, осужден на гибель. Начинается тот пессимизм, который мы знаем в браминизме и буддизме и почти во всех поздних религиях аристократии. Зато там, в мире богов, там есть покой, там есть блаженство и туда надо устремляться. Но нельзя вход туда купить просто смертью, а только известной цепью поступков. И тогда образуются религии самосовершенствования личного и общественного, представляющего собой порыв в созданный ими фантастический мир, миражем встающий над действительным миром аристократии упадка, осужденным, надоевшим, страшным ей.
Когда мы переходим к идеализму самого высокого порядка, когда мы имеем перед собой не жрецов, которые действуют исходя из суеверий народных, но философов–идеалистов, то какие философы являются идеалистами? Это представители высших классов. Это могут быть жрецы, которые по утонченности культуры не могут больше удовлетворяться мифами, которые должны покрепче, постройнее построить свое миросозерцание и которые поэтому развертывают силу мысли, доказующую силу, или это аристократы, которые задумались над юдолью существующей или имеют для размышления много свободного времени. Такие аристократы сами себе порой создают миросозерцание, которое их утешало бы.
Когда появляются эти люди, уже не черпающие просто из традиции, не рисующие нам миф, в который нужно верить, а стремящиеся доказать, тогда мы получаем одну из высших форм идеализма, на котором я пока и покончу, чтобы вернуться к параллельному изложению истории материализма для того, чтобы довести и ее до определенного пункта. Мы имеем теперь перед собой тот идеал, который выражен в философии Платона и тех философов, которые примыкают к трону его как одного из величайших мудрецов. Вы можете его найти также в столь же глубоко аристократическом и консервативном учении Пифагора 9 или Парменида.10 Все эти философы были аристократы, защитники аристократических устоев общества. Если аристократические устои общества были поколеблены, они старались их воссоздать, вернуться к старым или найти подобные условия.
Чему они учат? Порядок есть настоящий вечный мир, космос упорядочен. Все философы в большей или меньшей степени указывают на небо, движения светил как на пример вечного, упорядоченного движения. А что касается подлунного мира, то в нем хаос, в нем беспорядок, в нем нет закономерности. Но не все, далеко не все останавливались на звездном небе, как таковом. Если вы возьмете китайскую философию этого типа, в конфуцианской ее редакции или даосской, то увидите, что из этого вечного неба и его законов абстрагируется идея «пути» (Дао)11 или идея вечного закона, себе довлеющего порядка, и философия китайская, практическая конфуцианская или мистическая даосская, учит тому, что человек отстал от Дао [движущегося неба], человеку нужно жить так, как если бы он был частью неба, он должен жить, как светило, быть скрепленным вседуховным церемониалом. Нужно установить, по мнению Конфуция,12 великий государственный церемониал, чтобы все люди жили как бы под музыку, жили бы ритмично, жили бы закономерно. Такой порядок задумывают китайские мандарины и проводят его, такой порядок, при котором всякое человеческое движение было бы предусмотрено и учтено, стало бы обычаем. Это значит, что небо обняло бы землю, спустилось бы на землю. А кто хранитель этих небесных устоев, переводчик, знающий законы неба, — мандарин.13
Аристократия есть устранитель хаоса, охранитель идеала. В это время Пифагор учил тому же самому в Южной Италии. Из наблюдения над звездным небом он вывел представление, что мир — гармония и пропорция, что на самом деле числа в их чистых отношениях друг с другом есть подлинная сущность мира. Что доступно абстракции, то разумно, а то, что мы видим, — это искажение, это какие–то нерациональные дроби, это какие–то осколки.
Кто же такие эти мудрецы? Это аристократы, которые вносят порядок, которые законодательствуют, которые насильственно, путем меча, если это нужно, в это стадо взбунтовавшейся демократии вносят свой порядок, потому что они — сыны неба и в них говорит бог. Точно так же и Платон во всех своих сочинениях, посвященных порядку и государственности, исходит из одного: что подлинный мир есть мир идей, среди которых царят три представления — истины, добра и красоты. Это истиннейшее бытие, и мы подняться до созерцания этой красоты не можем. Но когда мы говорим: красивая женщина, красивый закат, — это потому, что здесь мы видим отблеск той идеи красоты, которая есть не женщина и не закат, а нечто невообразимое само по себе, что мы только смутно чувствуем. Так же и по отношению к истине и добру. Есть неподвижный мир божественных идей, и наш мир есть отражение, тень, искаженная тень этих идей, и мы должны стараться подняться в мир идей. Как это делается? Это делается так, что великий мудрец, жрец правит миром. Ему должны подчиняться, но ему не подчиняются, потому что внизу хаос, полная безумия человеческая воля, люди брюха, люди ненасытного рта.
Нужно их покорить, нужно их держать в узде. Для этого существует средний человек, воин, аристократ, вооруженный, который должен чтить своего повелителя, носителя идей, и выполнять его предписания мечом по отношению к нижестоящим классам.
Чем же в этих случаях является идеализм? Он является по–прежнему устоем правящих, как древнее утверждение: «Мой отец или мой дед сам Зевс, и поэтому ты не смей бунтовать! Кто ты такой? Ты — грязь, а я — сын божий»; точно так же как эти примитивные представления, так теперь более утонченно подкрепляет аристократию философствующий идеализм. Откуда эта тоска по неподвижным идеям? Почему взоры к небу? Почему такая ненависть к материи, которая есть носитель бесформенной силы и почти не существует для идеалиста? Почему с ненавистью аристократ смотрел на волны этого народа, который имел во главе раззолоченную пену буржуазии, потрясал устои бытия и старался из недр своих создать новый порядок, основывающийся на конкуренции, на чудовищных тиранах, которые именем народа ломали законы? Это все казалось таким отвратительным, таким ненавистным, что человек–аристократ объявлял это злом, чем–то дьявольским, адским и себя считал лучшим, чем–то высшим, каким–то образом заброшенным в этот ужасный хаос сыном неба, который имеет какую–то миссию, который должен мечтать о том, чтобы этот хаос превратить в космос. И Конфуций, и Платон, и другие мыслители этого типа были социальными реформаторами, публицистами, пророками аристократии.
Но когда идеалист видит, что нечего делать, что эта грозная буря народных восстаний все больше и больше сметает все его сопротивление, тогда он бежит к себе, в свои сады, в свою келью под елью и думает, как бы свою душу спасти, он не думает больше о реформах, а думает о том, чтобы выбраться отсюда лично туда, в свой рай. Он начинает жить аскетически, отказавшись от всяческих радостей жизни, от власти, делается анахоретом и хочет оторваться от земли и пойти в тот мир, откуда пришел, мир богов, откуда вышел, как заброшенный, покинутый полубог, являющийся здесь представителем той, лучшей жизни.
Если вы обратите внимание на современных идеалистов, западноевропейских и наших, вы найдете в них те же. черты, менее классические, менее четкие — они боятся многое сказать, нет в них той свободы выявления кристаллов мысли, которую мы находим в прошлом, а есть какая–то конфузливость, недоговоренность, но смысл тот же.
Однако я должен буду вам указать еще на другую ветвь идеализма после перерыва, но до перерыва в первую часть моей лекции я еще включу небольшой очерк истории материализма, как он постепенно развивался.
Рабы, крестьянство, они также мыслят идеалистически, но ни к какому серьезному мышлению они не склонны, у них для этого нет времени, а аристократы, феодалы, дворянство и жречество заинтересованы в развитии своих идеологических религиозных форм.
Какой же класс явится носителем материализма? Носителем материализма явится купечество, ремесленный класс и постепенно развивающийся из ремесленного класса первоначальный капитализм. Почему эти люди являются материалистами? Очень понятно. Возьмем центральную фигуру: ремесленника–горожанина. Ремесленник–горожанин постоянно сталкивается с актом труда.
Акт труда есть определенный акт. Надо знать свойство материала и нужно уметь так сочетать различные виды сил и этих материй, чтобы получить заранее задуманный результат. В своей мастерской рабочий человек находит, что материя превращается в то, во что человек хочет ее превратить, когда он хорошенько знает ее свойства. И он расширяет свой опыт на целый мир, к чему его толкает его социальный инстинкт. Ему неприятны боги–аристократы. Он купец, который бывал всюду видел различные религии, сравнивал их, стал сомневаться, и он старается от этих предрассудков отделаться, и поэтому он легко этот свой опыт начинает расширять и говорить: может быть, весь мир такой, и, значит, я окружен материями, которые имеют разные свойства, и, если бы я изучил мир как свою мастерскую, я бы понял, что весь мир есть великий автомат, а я — человек–практик, я — мастер и могу так направлять эти материи и силы друг против друга, чтобы достигать своего технического результата.
Так он приходит к мысли о том, что базисом могущества человека может быть наука, приходит к выводу, что на основании познания реальных свойств материи можно производить реальные трудовые действия и добиваться счастливых победоносных результатов; так он приходит к выводу, что, может быть, кроме этого ничего и нет в мире, этим исчерпывается бытие, закономерностью, существующей между различными элементами, и нужно яснее их понять, проникнуть в сущность того, что такое действующие силы в материи. Он развивает свою великую «физику» и от физики вновь хочет перейти к родившей ее технике. Физика и техника для него теперь путеводные звезды, и он постепенно приходит к выводу, что, кроме материи, нет ничего. А душа, а его сознание, как это тогда понять? Он ходит по своей мастерской, видит различные механизмы и думает: может быть, и я такой же механизм? Если все под одну гребенку, если все представляет собой закономерно действующую материю, то и я так же материя? И отсюда возникли абсолютно материалистические представления, что душа — та же материя, но она состоит–де из более скользких, круглых атомов, более подвижных, словом, мы видим стремление воссоздать только из физико–технических идей всю вселенную. Так возникает великая материалистическая философия, которая находит свое ограничение в том, что она является на первых порах мещанской.
Являясь мещанской, опираясь на ремесленников, купцов, она лишена настоящего подъема, настоящего размаха.
Вы не найдете никогда ни у одного античного материалистического мыслителя, ни у Демокрита, ни у Эпикура, ни у Лукреция, — вы не найдете того, что при помощи труда можно–де переделать мир, что труд есть победоносная сила, потому что они такого труда не ощущают, не видят. У них труд еще слишком маленький, он может частично удовлетворять некоторые требования, а материалист — человек честный, он не может подменить этот мир и отрицать, что в этом мире существует масса злого.
Поэтому античный материалист склонен к пессимизму, и у Демокрита есть тоже психологический уклон, и он же — у его учеников…
Для Эпикура чрезвычайно характерно то, что он стремится уйти от мира в мысли о мире как о материальном явлении, как о вечной закономерности, найти покой, понять, что все фатально, все неизбежно, стараться уйти с дороги, когда на тебя что–то тяжелое напирает, и как–то так по возможности прожить, не касаясь ничего, счастливо. Он говорил, что боги, может быть, существуют, существуют блаженно, но в «порах бытия».14 И сам он в своих эпикурейских садах хотел устроить «пору бытия». Не на борьбу звал он, а отойти от этого материального мира и не бояться смерти, потому что за гробом ничего нет.
Это еще более ясно у Лукреция, произведение которого «О природе вещей» представляет пессимистическое произведение. Новый гражданин ограждает свое миросозерцание от попов и дворян.15 Но боевых выводов он не делает и говорит: проживем как–нибудь, не будем бояться смерти, так как с ней все кончается. Интересно, конечно, разбирать и распознавать мир, например что такое гром, как вращаются звезды, можно до смерти себя этим познанием тешить, чтобы проводить время за приятным занятием, но в конце концов смерть — и все кончено.
Таким образом, античный материализм не мог выйти за пределы более или менее индивидуальной, ограниченной постановки вопроса, и, будучи величественным как элемент борьбы против идеализма, составляя известную предпосылку физико–технического восприятия мира, научно–трудового восприятия мира, он подняться высоко не мог, потому что в античном мире остались в зачаточном состоянии и наука, и техника. Только капитал мог создать такую величественную технику, которая смогла поднять это материалистическое миросозерцание на гораздо большую высоту.
* * *
В первой части моего доклада я настаивал на том, что идеализм сам по себе, как философское миросозерцание, присущ аристократическим слоям и аристократическим тенденциям, причем он является крепким, оптимистическим, фантастическим, насквозь мифическим, утверждающим определенные грандиозные образы богов, пока аристократия крепка и сильна, и становится философствующим, хныкающим, пессимистическим, мистическим, аскетическим, пройдя предварительно через процесс самоутверждения в форме представления о небесном порядке в отличие от земного хаоса, по мере того как аристократия переходит от наступления к обороне, распыляется в идеалистическую мистику, во всевозможные суеверия, все более и более глубокие, и кончается в том религиозном синкретизме,16 той готовности верить во всякого бога, лишь бы проложить путь к спасению и выбраться из неприятной жизни в желанный потусторонний мир, какой мы находим в конце античного мира.
Между тем существует система идеализма, имевшая огромное значение, и общественное, и философское, именно христианская религия со всеми ее сектами и философскими отростками, которая по своим корням демократична.
Что же такое демократический идеализм и каковы его основные черты? Без критики христианства никакая критика идеализма вообще недостаточна и неправомочна.
Христианство, как и все религии такого типа (а их было немало, и христианство представляет жгут, в котором свит этот предварительный ряд ему подобных религий), представляет собой первоначально действительно религию рабов, религию низов, бедняков, развертывающуюся постепенно в виде сознательного протеста против религии богатых.
В основе такого рода демократических религий, народных религий, лежат, конечно, и демократические идеи, и революционные идеи, и даже иногда, в значительной мере, социалистические.
Демократические идеи потому, что угнетенные классы, изобретая свою идеологию, свое утешительное миросозерцание, такое миросозерцание, которое подняло бы их самочувствие, помогло бы им жить, конечно, не могут не придать этому миросозерцанию характера, который оправдал бы демократию. И действительно, все такие религии, окажем учение еврейских пророков, отдельные, известные нам и сравнительно недостаточно изученные демократические религиозные течения индусов, некоторые такого же рода проявления в китайской религии, всегда утверждают, что божество вовсе не есть покровитель и отец богатых, что, наоборот, земная власть, основанная на неправде, есть уклон от этого небесного пути и что настоящий небесный путь заключается в человеческом равенстве. И с этой точки зрения богатый, попирающий главу ближнего, является гордецом, ненавистным богам, а стало быть, попираемый тем самым божьему сердцу, сердцу этой правды, близок и мил.
У меня сейчас нет времени входить в подробный анализ того, какие своеобразные формы приобретает это учение в разных философиях, у разных мыслителей в зависимости от общественной среды, но факт тот, что демократия, черпая в каких–нибудь старых мифах и устоях времен, когда этой демократии лучше жилось, создает на этой основе религию, создает представление, что духовный мир правды и порядка должен был бы принести счастье всем, и, стало быть, аристократия, узурпируя бога и создавая из этого бога царя, злостно клевещет.
Бог не таков и порядок не таков, как говорит официальный жрец. Он близок чаяниям низов. Конечно, нужны исключительные общественные условия, чтобы низы могли сорганизоваться, выдвинуть своих трибунов.
Исключительно благоприятные условия нужны, чтобы низы могли создать некоторую компактную систему, и христианство — самая великая по объему захвата и по количеству впавших в него демократических религиозных рек система этого идеализма — глубоко демократично, потому что самые основные вехи христианства таковы: бог, который есть порядок, который есть добро, хочет восстановить нарушенный порядок. Эта идея такая же, какая может быть и у аристократов. У аристократов бог тоже всегда хочет восстановить нарушенный порядок, он посылает для этого своих сынов на землю.
На что же Зевс посылал Геракла? Это и в аристократической религии так же. Но в каком виде этот бог–сын является теперь на землю? Он является в виде бедняка.
Помимо того что он приносит с собой учение о равенстве, он еще взойдет на позорную виселицу осужденным богатыми, обруганным, оплеванным ими. Из глубины его страшного унижения он, этот брат каждого бедняка, возносится, чтобы сесть одесную бога–вседержителя и готовиться второй раз прийти уже в другом виде, о котором мы сейчас говорим, — так что бог этот является в чрезвычайно демократическом виде. Кто хочет быть первым там, будет последним здесь. Если ты родился несколько более имущим, отдай вторую рубаху бедняку — стремление унизиться, встать в уровень с самыми малыми. И ученики первых христианских апостолов учат, что бог от премудрых скрыл, неразумным открыл свою истину. Постоянно повторяется стремление противопоставить мудрецу простеца, как ребенка простого сердца, такого бедного Лазаря, который, умерши в рубище, будет сидеть на лоне Авраамовом 17 и смотреть, как жарятся на огне измывавшиеся над ним при жизни богачи.
Этот строй идей революционен. Когда пророки еврейского корня этой религии рисуют грядущую революцию, они находят ужасные краски. А самое Евангелие в словах Христа рисует еще более страшно картину предстоящего страшного суда и тех казней, которые посыпятся на голову гонителей.
И наконец, в апокалиптической литературе, которая возникла до, рядом и после христианской литературы в собственном смысле, уже в окончательном виде торжествующая ненависть и покупаемое ценой страшного катаклизма счастье развертывается как симфония демократической религии. Всякий, кто читал Апокалипсис, помнит, каков бог этой поэмы, как моря и реки от его работы будут полны крови, как он сокрушит тысячи и тьмы на своем пути. Рисуются страшные катастрофы с падением звезд на землю, брат встает на брата, отец убивает сына и т. д. Бесконечное терпение нужно, чтобы среди ужасов социальных и стихийных катастроф дотерпеться. «Претерпевшие до конца — спасутся», увидят звезду утреннюю, которая не есть спасение для всех, потому что прежде, чем праведник войдет в царство небесное, страшный суд будет иметь место. Несметные толпы богатых и знатных уйдут ни с чем, даже не на смерть, а на вечную муку, которая изображается самыми страшными красками, какие только может придумать человеческое воображение, в темницу, где «огонь их не угасает и червь их не умирает».
Это религия, которая ожидала, призывала всеми силами души страшную террористическую революцию, которая была бы не только сокрушительной для царства богатых, но которая утолила бы бесконечную жажду мести демократии перспективами вечных мук, которыми она будет наслаждаться. Еще отец церкви III века Тертуллиан 18 пишет, «как в огромном амфитеатре будут сидеть праведники и наслаждаться зрелищем страдания грешников».
Но есть черты и социалистические в этой религиозности, социалистические черты постольку, поскольку эта заброшенная демократия, оплеванная, избитая, которая до тех пор, пока придет страшный суд, должна терпеть и подставлять левую ланиту, когда ударяют в правую, находит громадное утешение во взаимной поддержке, в общем ожидании «пришествия жениха», который не сегодня–завтра принесет с собой победу правды. И поскольку нужно дожидаться этого времени, бедняки сносят свои крохи, делятся чем можно, чтобы иметь сколько–нибудь вина и хлеба на «вечере любви», чтобы поцелуями и песнями помочь себе пережить день и ночь до близкого, близкого пришествия, которое озарит небо от края и до края и которое будет началом тысячелетнего царствия. И поскольку это потребительное временное хозяйство, чтобы помочь друг другу перебиться, диктовалось их бедностью и единством настроения, постольку есть и социалистические зачатки в этой религиозности.
Но демократизм христианства не доведен до конца потому прежде всего, что революционность его совершенно неправильна.
Христиане редко оказывались способными на восстание, причем, конечно, отнюдь не на победоносное восстание, так как объективные возможности для организации своих сил, для вооруженного сопротивления богатым не были в то время налицо.
Христианство отличается от разных демократических бунтов типа спартаковского восстания, типа восстания Иуды Гавлонита 19 и большого иерусалимского восстания при Веспасиане 20 тем, что христианские вожди объективно понимают невозможность вооруженного сопротивления богатым, и весь смысл их учения заключается в том: ты потерпи, но есть отец, который говорит тебе: я все вижу и я все воздам. «Мне отмщение — и аз воздам».21 Там не прощение, там никакого прощения, там величайшая справедливость и страшный гнев божий, а ты пока терпи. Как это необычайно характерно сказано в одном послании Павла: «Прощай врагу своему, ибо этим ты собираешь угли горящие на его голову!»
Вот обратная сторона христианской любви: потому прощай, что революция придет. Но откуда? С неба она придет. Изображая героя своего романа, мифическую личность Христа, христианство создает миф, как ученики Христа готовы были бы кровью пересоздать мир. Христос спрашивает: «А мечей у вас сколько?» — «Два меча». — «Довольно». Какая слабость, какое ничтожное сопротивление может быть оказано! Поэтому взявший меч от меча и погибнет. «А разве [я] не мог бы, — говорит Христос,22 — 12 легионов ангелов созвать с неба?» Но пока не пришло время. Оно придет, легионы ангелов будут мобилизованы, они явятся на помощь; ждите «небесную красную армию», освобождение земли, которая сама по себе, без такой оккупации ее «революционным небом», не может опрокинуть своего режима.
Вот каково основное настроение этой демократии. Не могут сами опрокинуть, поэтому всякое восстание будет тратой сил. Надо верить и надеяться, что великая и революционная держава Христа, который среди нас когда–то жил и был распят, в один прекрасный день оккупирует землю легионами ангелов, начнет террористическую революцию против богачей, омоет землю кровью и создаст для нас рай, где будут торжествовать бедные. Таким образом, революционность, а стало быть, и демократичность недоделаны, ожидание чуда, а не вера в себя лежит в ее основе. Если ожидать чуда, то до поры, пока чудо не пришло, как быть с властями предержащими, как быть с богатыми? Ничего. Будем покоряться им, терпи и думай, покоряясь: «постой ужо, вот не знаешь часа, «в онь же грядет жених», — для меня жених, а для тебя палач»!
Так же точно и социализм христианский оказался в высшей степени половинчатым, потому что он был потребительским. То не были пролетарии, которые способны были что–либо производить, это были бедняки, которые могли собрать свои лохмотья, свои крохи для того, чтобы друг с другом разделить, и больше ничего, в лучшем случае маленькие земледельческие коммуны.
Но самое–то главное, что из всех этих условий вытекало превращение христианства в величайшее оружие против бедных, которое потом много столетий этих бедняков держало в оковах.
Основой для этого было то, что, во–первых, в корне миросозерцание было идеалистическое, мистическое. Оно исходило из представления о том, что существует иной мир, в этом ином мире правит бог, этот бог мудрее всех, сильнее всех и добрее всех. Стало быть, если он пока еще не предпринял реформы на земле, то так решила его благость, мудрость и могущество. И против этого ничего не скажешь. Стало быть, прежде всего должна быть покорность, поскольку нет власти, которая не была бы от бога, стало быть, должна быть покорность и земной власти. Вместо бунтующего характера христианство этим самым освящало существующее, в надежде, правда, что это существующее когда–то переменится, но когда–то…
Проходили столетия, тысячелетия, оно не менялось, а христиане ждали и терпели. На этой почве было в высшей степени легко приспособиться новой интеллигенции, новой аристократии — духовенству — к тому, чтобы эксплуатировать эту сторону христианства. Труднее было бы христианам ждать и быть покорными, если бы им постоянно не говорили, что вот придет страшный суд и все это исправится, и главным образом не говорили бы того, что немедленно ему, бедному, после смерти воздастся за все страдания в этой жизни.
Да, это великая возможность отвести гнев бедняка, требование счастья, о котором кричало его изнуренное тело, отвести их на надежду за гробом, на надежду в далеком будущем, в день суда…
С таким великим ресурсом интеллигенция, духовенство могли этого бедняка вести как на веревочке, куда им было угодно; когда этот чудный утешительный бальзам собрал вокруг себя почти всю бедноту, когда на «ей стояло духовенство, оно и заполучило в свои руки души бедняков, оно запродало их императорской власти простым заявлением, что власть богачей терпится богом и, стало быть, ее нужно терпеть и всем нам,
И если в сектах продолжалось революционное и антиаристократическое течение христианское, то в основной церкви, наоборот, сам бог пересоздался совершенно на новый лад: из этого Христа с проколотыми ногами, руками и боком, из этого Христа на виселице, из этого Христа в лохмотьях, питающегося колосьями, сорванными на поле, сделан был сын царя небесного, подлинный небесный кронпринц в сверкающей алмазной короне, с глазами, полными мудрости, перед которым надо было падать на колени ниц, как перед царевичем. На небе есть и царица небесная, и целый громадный придворный штат, и колоссальная бюрократия святых, продолжающаяся на земле бюрократией духовенства, где подаются прошения, где нужно молиться по форме, где богу можно дать взятку большую, построив храм, или маленькую, заплатив за какую–нибудь панихиду, и где прямо учат о том, что если умер человек и нет людей заплатить за панихиду, то на божьем суде ему придется плохо. Не добрые дела помогают, а панихиды, возможность заплатить кому–то какую–то мзду. Это глубокая вера каждого христианина, по крайней мере нереформированных религий. Таким образом получилось опять новое аристократическое общество, общество религиозное — царей и жрецов. Бог по типу царя или митрополита на том свете получился вновь, и вместе с тем гораздо крепче стала, чем прежде, преданность бедняка по отношению к этому небу, потому что где–то живет такая идея: этот царственный бог, этот архиерей, который сидит там, на небе, он все–таки в конце концов какую–то правду когда–то установит на земле или на том свете.
…И хотя эта правда нигде не видна, на самом деле ее нет, но тем крепче, тем святее, тем пламеннее каждая старушка, которую эксплуатировали 80 лет ее жизни, верит, что она в некоторый небесный банк вложила свои сбережения, которыми она воспользуется после смерти, и подите докажите, что этот банк обанкротился и что все ее сбережения пропали. Она вас не послушает. Этот капитал надежд, которым располагает церковь, сама являющаяся устоем эксплуатирующего аристократического строя, является для нас теперь сущностью христианства. Сразу идеализм, благодаря тому что он идеализм, вырвался из рук проповедников и апостолов демократов, попал в руки попов, появилось новое жречество, новое государство и новая форма идеализма с таким революционным, с таким демократическим, социалистическим происхождением. Христианство превратили в наиболее искусный пресс, в самое ужасное проклятие, потому что отсутствовала в нем единственно спасительная идея для демократии — материализм. Глубокая вера в то, что все задачи разрешаются в едином реальном мире реальной борьбой и реальным трудом, там отсутствовала. Там был фантастический, иллюзорный момент, и вследствие этого ничего, кроме обмана, и, еще хуже, самообмана не могло получиться.
Однако это не единственная форма революционного идеализма. Возьмем теперь чрезвычайно важную эпоху французской революции. Материализм в новом мире стал развиваться, когда стали быстро развиваться вновь торговля и промышленность. Когда стали появляться и где появлялись торговля и промышленность, сейчас же старые книги Демокрита и Лукреция воскресали вновь.
Возникали новые материалисты: Гассенди, Гоббсы и другие, которые говорили то же самое, что говорили старые материалисты. Фрэнсис Бэкон в своей «Атлантиде»23 рисует перспективы того, как труд победоносно переделывает землю, раскрываются перспективы материальных побед. Кто является носителем этих побед? Буржуазия, известная определенная передовая часть ремесленников и купцов. И во время французской революции в той стране, где буржуазия достаточно созрела, чтобы, опираясь на народные массы, которые она вовлекла вслед за собой в социальное разрушение и социальное строительство, поколебать устои аристократического режима, даже вплоть до казни короля и полного низвержения старого порядка, — в этой стране материализм приобрел наиболее определенный размах, в особенности в предварительную стадию, когда буржуазия готовилась к этому львиному революционному прыжку. Она формулировала в это время свой материализм устами Гольбаха, Ламетри и Гельвеция с большой долей выпуклости, и внутренний тон французского материализма был тот, на который я указал в самом начале доклада: мир есть единый мир, в нем очень плохо живется, но может житься лучше путем просвещения, благодаря прогрессу, который есть развитие знаний и на этих знаниях покоящихся воздействий на природу.
Это, в сущности говоря, то светлое, то утешительное, то радовавшее, что несли с собой французские материалисты. Правда, этот французский материализм опять–таки ни до каких окончательных выводов дойти не мог потому же, почему французская революция не могла дойти до окончательных выводов. Носителем ее была буржуазия. Поэтому в своих самых далеко идущих мечтах она могла иногда рисовать перспективы большого расцвета промышленности, но дойти до постижения того, что труд есть основа жизни и познания, чтобы прийти к победе, и предельная идея, разрешающая все загадки бытия, — для этого достаточного размаха у буржуазии не было, а кроме того, она очень рано начала замечать, что на нее напирают вне ее находящиеся силы: пролетариат, крестьянская беднота, люмпен–пролетариат, т. е.
просто бездомные, неимущие бродяги. Все эти элементы, усилившиеся в революционном хаосе, стали напирать на нее очень сильно. Она стала терять почву под ногами, она поняла, что ей нужен союз со старыми силами — духовенством и дворянством, чтобы дать отпор этой нарождающейся силе. Она поняла, что тот порядок, который она при этом установит и который отнюдь не есть равенство и братство, а есть установление нового мира привилегий, — что этот порядок неудовлетворителен с точки зрения разума, что, стало быть, дальнейшее развитие критики в массах заставит массы идти наперекор тому миру, который буржуазия построила. И посему буржуазия испугалась своего материализма, бросила его в зачаточном состоянии и прямо перешла к отрицанию его.
Но рядом с этим материализмом, который является одним из корней нашего марксистского материализма, развился идеализм революционный, который являлся другим корнем нашего марксистского материализма.
Он развился главным образом в Германии. Почему?
Германская интеллигенция переживала всю французскую революцию. Все поколения, начиная с Шиллера 24 и кончая Гегелем, жили этой революцией, но в то время, когда во Франции была возможность реальной борьбы, в Германий этой возможности не было. Вся революция в Германии сосредоточилась среди студентов, поэтов, философов, передовым образом настроенных пасторов.
Она протекала только в известных слоях интеллигенции.
Эта интеллигенция сознавала великолепно, что сверху на нее давят десятки германских правительств, страшно косных, достаточно сильных, чтобы подавить ее порыв, и что снизу, из масс она не получает поддержки. Она делала себе кумир из французской революции, Наполеона и других. Но то было прошлое, все это не могло установиться в Германии, так как корней в ней для поддержки буржуазии не было. Какая перспектива стояла перед Гете или Фихте? Признать свое бессилие. Допустим, что они сначала стали бы на чисто материалистическую точку зрения. Что бы они говорили? Мир — один реальный мир, он отличается тем, что он, в особенности в нашей Германии, очень скверен. Они могли бы повторить Гамлетовы слова: мир — это тюрьма, а моя Дания — самая худшая камера в ней. Я должен ее переделать, но как? У меня нет сил для этого. Стало быть, отчаяние? А между тем это была молодая, сочная буржуазная интеллигенция! Это была чрезвычайно сильная духом фаланга, небольшая, но в высшей степени взволнованная французской революцией, даровитая и свежая.
Она не хотела примириться. Тогда она стала превращать в кумир свою кабинетную работу, свою духовную работу.
Она бесконечно переоценила значение мысли, значение слова, и мы видим эту безобразную, раздутую, нелепую переоценку ее, когда Фихте начинает говорить, что на самом деле существует только дух, а что материя — это не — я, это только создание духа, что дух свою собственную тень таскает за собой, и это и есть материя и т. п.
И с собственной тенью, стало быть, борется человек, когда трудится над природой, чтобы себе ее подчинить?
Значит, вся дальнейшая борьба в природе и обществе — это есть игра духа с самим собой. Исходя из этого, Фихте говорит: если бы звезды на меня упали и размозжили мое тело, то моя победоносная душа все же воспарила бы над ними. Это идеалистические иллюзии.
Не нужно, чтобы звезды упали, а достаточно, чтобы с крыши что–нибудь упало на голову, и Фихте не стало бы. На деле он заразился от жены тяжелой болезнью и помер. Какой–то ничтожный микроб, попавши в его тело, съел его. И вот тебе великий дух. Это все иллюзии, полнейший самообман относительно необычайной силы души, как искры, огня, души вселенной.
Шеллинг, который с талантом описывает, как постепенно строится мир, как из первобытных глубин хаоса выделяются постепенно кристаллы, растения, животные, как они постепенно совершенствуются в стройное бытие, поднимаются выше и наконец появляется человек, который борется, проходит всевозможные стадии своего развития от допотопного полуживотного до нынешнего гражданина, и на самой вершине этой пирамиды что — художник! А дальше мир предается мечте, вся пирамида для того существует, чтобы на вершине сидел художник и пускал голубые волны дыма своих грез в вечность и бесконечность. Он является целью природы, а он сам — для ничего, для искусства, ради искусства, т. е. занимается бесплодной тратой времени. Вот чем заканчивается пирамида, оплаченная всем ужасом страданий, в которых природа доросла до этого человека. Таков этот немецкий идеализм со всей его ограниченностью, с его страшной переоценкой мысли, но он имеет тем не менее колоссальное революционное значение. Уже у Фихте, у Шеллинга, у революционных поэтов–идеалистов имеются колоссальные задатки истины в учении, что мир есть зло, но он сам развернется постепенно в благо, что ему присущ закон развития. Как интеллигенты, как слабые интеллигенты, не имеющие массовой силы, они искажали понимание этого развития, они мирились на малом, на том, как у Гегеля, что прусская конституция является перлом бытия. Ну, вот этот перл бытия — прусская конституция и 16 томов философии Гегеля. А дальше что? Читать гегелевскую философию и наслаждаться прусскими законами? Дальше все останавливается.
Само собой разумеется, что тут было глубокое искажение представлений, искажение потому, что это были кабинетные крысы, это были люди исключительно внутренней работы, и, как Маркс говорил о левых гегельянцах,25 они думали, что если они на письменном столе разрешали проблемы, то они их разрешали и в мире действительности.
Но они говорили все же, что вселенная подвигается по закону от неразумного к разумному, от несвободного к свободному, что идеал растет закономерно из самой сущности бытия, самого бытия, идеал не представляет собой уже где–то законченного совершенства, он есть процесс совершенствования. Вот в этом–то колоссальное революционное значение немецкого классического идеализма.
И когда Маркс, суммировавший весь мировой опыт, стоял уже обеими ногами на мощной силе человечества благодаря выросшей тогда науке и технике, на начинающемся опыте пролетариата и объективном наблюдении судеб этой части человечества, когда Маркс стал строить свой великий материалистический синтез, он обратился к материалистам и сказал: вы не правы, потому что у вас материя косная, лишенная внутреннего развития.
У вас материя себе довлеющая, у вас какие–то куски, которые находятся в определенном отношении друг к другу, и, конечно, идеалисты более правы, потому что они рассматривают мир не как косные кусочки и их комбинации, а как процесс громадной борьбы сил. Но в чем не правы идеалисты? В том, что идеалисты представляют себе этот процесс как процесс мыслительный, как развитие идеи по аналогии с работой их голов и часто поэтому удовлетворяются мышлением о мире и «правильное» мышление о мире выдают за самый сладкий и зрелый плод. Нет, неверно. Процессы природы идут не по аналогии с мыслью, а по аналогии с трудом, по аналогии с тем, что мы чувствуем в своих мускулах, с борьбой, когда сцепляются две силы и неизвестно, которая из них победит, по аналогии с нашей собственной энергией, а самое слово «энергия» в переводе значит труд!
Надо представить себе правильно эту материю. Она есть скопище зарядов, сил, и весь мировой процесс есть, таким образом, гигантский силовой процесс, вначале нецелесообразный, а только закономерный, в котором эти силы, сталкиваясь между собой, дают необходимые результаты. Колоссальный процесс, в котором эти силы воздействуют друг на друга, грубо приспособляются друг к другу и строят некоторое сожительство, лишенное сознания. В этой борьбе осталось только то, что остаться могло, и, таким образом, образовалась, так сказать, «болванка мира», где и появляется жизнь.
Откуда исходя мы такое представление о мире приняли? А именно из того, что мы социальную борьбу и наше строительство понимаем, говорит Маркс, мы, пролетарии, не как вы, ученые, в виде мыслительной работы, а как мускульную работу. Ковать какой–то металл, рубить какое–то дерево, шлифовать какой–то материал, соединять химические материи и наблюдать и направлять их внутренние распады или их внутренние соединения, т. е. настоящим образом хвататься грудь с грудью с материей! Мы сами своими мускулами создаем себе слуг в виде инструментов и орудий, и с ними мы идем на приступ природы, и мы ее реально изменяем, разрушаем и сдвигаем, заставляя перемещаться в пространстве ее элементы так, как нам нужно, согласно плану, который мы перед собой ставим. По аналогии с этим трудовым процессом, который Маркс так блестяще проанализировал, начиная с первых страниц своей великой книги, мы себе представляем весь мир, и центром этого мира является наш трудовой процесс.
Что же, этот процесс закономерен? Что же, он целесообразен? Что же, он организован? Лишь в высшей степени частично. Маркс, излагая историю труда, показывает, как в процессе этого труда человечество разделяется и на отдельные племена, враждующие друг с другом, и на отдельные классы, как каждая стадия развития наших орудий, инструментов, каждая стадия нашей власти над природой диктует тем самым, какие формы сотрудничества и какие формы власти и разделения труда необходимы именно для данной формы труда.
Эти формы труда иногда застывают надолго, но не останавливаются окончательно. Они вступают в период мутации, когда натыкаются на новые условия. Каждый раз, когда на большое новое натыкается человек, начинается целое пересоздание. Отсюда протягиваются нити во все стороны, и меняется быт человека; от низкой техники он переходит к более высокой, получается, наконец, известная прибыльность труда раба, а врага перестают убивать и порабощают. Эти факты, большие и малые, на которых нечего здесь останавливаться, движут вперед человечество, но это не значит, что они делают его счастливее. Власть человека растет, но создается такая борьба между людьми, что ни о какой единой воле человечества, ни о каком едином сознании человечества не может быть еще речи.
Как совершенно слепо идут явления природы, так слепо идут явления истории человечества.
Каждая отдельная личность сознает свои поступки, но все вместе они сочетаются алогически и никакой мыслью не направляются.
И приходится изучать реку событий так же, как работу материальных процессов. Внутри идет трудовой процесс, стремление овладеть природой, но он расщеплен на мелкие процессы, которые перекрещиваются между собой. И вот мы вступили, в медленном темпе восхождения, в смене одних народов другими, на путь капиталистической культуры, которая привела к неслыханным результатам. Сейчас останавливаться на подробностях, почему удалось развернуть такую мощную науку и великолепную технику, я не буду, но факт тот, что достигнуты наконец решительные результаты: быстро растет труд и быстро меняются социальные отношения и приводят к строю, который мы называем капиталистическим, когда наука и техника служат немногим владельцам орудий производства. Все это опирается на хитро сконструированную государственную власть, которая заставляет неимущих рабочих работать не своими орудиями, путем коллективного и высокоорганизованного труда, с тем чтобы результаты этого труда направлены были на благо отдельных владельцев орудий производства.
И когда все пришло к этому парадоксальному явлению, когда огромные массы человечества строят на основании науки гигантской мощи инструменты, когда существуют уже предпосылки, чтобы развертывать объективно, в целях счастья человечества, эту науку и технику и добиваться возможности организовать довольство и счастье для всех и открыть безграничные перспективы дальнейшего совершенствования человеческого рода, — в это время мы оказываемся как бы в плену у своих собственных машин, мы заходим в тупик капиталистических отношений, и так закипает последняя борьба между той частью человечества, которая стоит у власти, капиталистами, и пролетариатом.
И Маркс говорит: мы подходим к самому замечательному моменту, ибо труд начинает организовываться в единое целое, приобретает единую волю и сознание и тысячами, а теперь миллионами своих голосов он вновь вещает о своем материалистическом миросозерцании: я признаю только тот мир, который я нахожу в моем опыте. Я признаю этот мир лежащим во зле, я признаю в нем гигантские возможности удовлетворить всем потребностям моего счастья и знаю, что у меня есть такие знания и техника, которые могут мне дать первую ступень и первую основу моей победы над природой, очищения ее от всякого зла, превращения мира в великую арену моего прогресса и счастья.
На пути к этому стоит нынешнее капиталистическое государство, организовавшее насилие надо мной и продуктами моего труда, и поэтому я, коллективный труд, должен прежде всего свергнуть с себя это бремя, положить мою мудрую руку самостоятельно на колесо машины и руль человеческого корабля, чтобы потом направлять его целесообразно к лучезарному будущему.
И прав Энгельс,26 когда он говорит: скоро будет совершен скачок из царства необходимости в царство свободы, когда человек человеку мешать не будет, когда человеческий сговор сделает человеческую силу пронзенной лучами разума, и это будет переход к настоящей, подлинной свободе, к свободе человека выявить свои идеалы, то прекрасное, чего он хочет, устои той мудрой жизни, о которой он мечтает, выявить себя целиком. Вот почему Маркс пророчески говорил: вся история человечества была до сих пор преддверием.27 И вот теперь мы входим в настоящую историю человечества, которая начинается тогда, когда человечество будет существовать как организованный и единый человеческий труд. Вот каким внутренним гигантским огнем горит марксистский практический идеализм.
Он представляет мир как борьбу энергий, а человека — как одну из этих энергий, которая, организуясь, может стать доминирующей силой. Он всю историю рассматривает как борьбу и победу всего растущего разумного начала над неразумным, и, таким образом, не нужна ему мистика, ибо он не верит, что в этом мире как–то само собой заложено стремление к разумному. Только на высших стадиях человек начинает приобретать сознательную социалистическую программу и тактику. Это высшее сознание человеком своей сути, своей роли в природе, своих возможностей в природе. Кто на этой точке зрения стоит, тот может быть только индивидуально несчастным, но здесь нет больше места для пессимизма.
В этом огромном развертывающемся «мы», заставляющем захлебываться от будущих радостных перспектив, человек чувствует себя растущим царем природы, способным на огромную любовь к окружающему. Чем более сейчас человечество погружено во всевозможные несчастья и озлобления, тем больше можно его жалеть и любить, но не в том смысле, чтобы бояться совершить над ним операцию (хорош был бы хирург, который, любя своего больного, не мог бы спасти его, потому что жалел бы пролить каплю его крови), а в том смысле, чтобы ни себя, ни других не жалеть, если ясный разум показывает, что иным путем, кроме пути жертвы, нельзя продвинуться к цели.
Вот каков этот марксистский идеализм, и вот почему всякий другой идеализм становится теперь ненужным.
Когда вы не только головой понимаете, а сердцем вливаетесь в это миросозерцание, то смешным кажется постулирование бога, который при всей своей мощности, при всем своем знании попирает весь этот мир, лежащий вокруг него, все это представление о мистическом искании иного мира, когда этот мир может быть так бесконечно прекрасен, когда жизнь так интересна, когда, чем горше, тем лучше жить.
И конечно, смешно, когда возражают: что за дело индивидуальному человеку, что будущее поколение победит? Обратитесь с такой речью к солдату, идущему в первой шеренге какого–нибудь полка, который хочет победы, который прекрасно знает, что он наверное ляжет раненным в грудь или убитым, он ответит: наш полк победит! Это часто наблюдается даже в отвратительной империалистической войне, и сомневается лишь заматерелый индивидуалист в том, что человек способен так жить и умирать. Вот почему материализм соединился с точной наукой, которая тоже верит только опыту, верит в один мир, имея массивный фундамент человеческих знаний, вот почему он оперся на труд как на основу миросозерцания, как на единственный победоносный акт человечества, как на последнюю цель человека — труженика и победителя мира.
Но ни на одну минуту никто не должен думать, что победа труда, что победа разума чем–то обеспечена, какой–то самогарантией, лежащей в самом мире. Ничего подобного! Все находится под страшным риском, под ударом страшной опасности. Конечно, марксистский анализ дает нам почти полную уверенность, что в десятки лет, даже в худшем случае, труд не может не победить, но какие испытания при этом могут наступить для человечества? У нас нет уверенности, что какое–нибудь новое сочетание сил не пересечет того развития, которое вытекает из внутренних тенденций самого труда.
В самом деле, возьмите нынешний момент, когда буржуазия всюду, кроме России, осталась еще наверху, когда она подкреплена лицемерием меньшевистских партий и самым грубым насилием, когда еще они держат раздробленный, напуганный пролетариат под своим коленом и когда они готовят неслыханные, невероятные планы разрушения. Эта буржуазия, один раз поставившая нас на край могилы своей «великой» войной, в настоящее время на наших глазах, пользуясь силой науки и гигантской мощью техники, развивает дальше до сумасшествия страх одной державы перед другой, развивает все новые и новые достижения, выставляет пушки, стреляющие на 150 километров, разрабатывает новые газы, от которых никакая одежда спасти не может, которые разъедают человеческое тело на расстоянии десятков километров, задумывает применять сумасшедшие приемы вроде заражения противника микробами чумы и других эпидемий. Подумайте, что будет, когда гигантские буржуазные державы вновь пойдут друг против друга и когда им не столько будут нужны колоссальные гекатомбы, бесчисленные полки пехоты, а инженерные войска, уничтожающие целые человеческие поселения, для того чтобы в безумной мечте вынудить врага покориться, довести человеческое существование до того, чтобы мы превратились в бродящие по земле орды.
Если на освещенной сознанием вершине трудового мира коммунистический пролетариат не сплотит вокруг себя все светлые идейные силы, чтобы нанести удар этим безумцам, этим человеческим зверям, то в этом случае, конечно, страшная катастрофа последует! С большей или меньшей силой эти катастрофы рухнут на нашу голову, и в это самое время идеалисты, хотя бы в виде какого–нибудь толстовца, начинают говорить: убеждайте их словами, найдите убедительные речи, которые заставят их сказать: давайте–ка жить по–хорошему… Но не употребляйте насилия против насилия: взявший меч от меча погибнет, и всякие такие разговоры.
Когда подобная зараза идет в средних классах населения или в темном классе крестьянства, когда на место разрушающихся ветхих форм идеализма поднимаются тонкие формы идеализма, по существу рассчитывающие на то, чтобы создать пассивное отношение к миру, чтобы сказать, что мы заинтересованы в потустороннем и нам все равно, что делается по эту сторону, это есть невольный отвод глаз, это невольное шарлатанство. Нет, это не только отвод глаз и шарлатанство, это есть злое марево, это есть лживая пропаганда, которая из наших рук уводит братьев, которые могли бы бороться вместе с нами, которая туманит их глаза и не позволяет видеть, что делают практики чужого класса, нынешние господа земного шара, какие оковы они куют.
А им приятен этот идеализм, они будут поддерживать всех профессоров академий, всех пасторов церквей, они будут кадить им фимиам, будут с восхищением говорить об их высоких идеалах, об их чудесной мечтательности или замечательной мягкости, глубине их душевных свойств и т. д. Еще бы! Это потому, что эти люди, когда вообще борются, борются болтовней, борются красивыми фразами и отводят в русло бесплодной борьбы те потоки сил, которые бы обрушились на них.
В газете «Берлинер тагеблатт» я прочел следующую интересную статью, изложением которой я закончу мою лекцию. Я прочитал там такую вещь о нашей антирелигиозной пропаганде. Говорится, будто бы у нас в каком–то театре судили бога, осудили его, хотя и были оправдательные речи, но сильнее были обвинительные речи, осудили, приговорили к расстрелу — что–то вроде этого.
Затем говорится так: «Но благо заключается в том, что в глубине русской деревни живет этот задумчивый, неповоротливый, но истинно религиозный крепкий мужик.
Он смотрит, смотрит на этих коммунистов и в один прекрасный день вдруг так хлопнет их своей широкой ладонью, что закачается земной шар». И вот их надежда!
Может быть, отсталое, темное крестьянство еще достаточно под влиянием религиозной идеи, чтобы этот ужас коммунизма, как–то из–под низу поднявшись, вдруг ввергнуть в бездну; и поэтому как понятно сочувствие всех оттенков попов, которые крестьянство или известную часть колеблющейся интеллигенции повели бы по руслу ненависти к разрушителям бога и идеализма!
Поэтому, товарищи, хотя идеализм не главный наш враг, хотя у нас главный враг капитал и его приспешник — меньшевизм, но и идеализм — опасный враг, и в его отсталых формах, и в его самых тонких ликерах, которые выделывают гастрономы–профессора. Он есть отвод человеческой энергии от действительной борьбы со злом и замена ее мнимым утешением, мнимой иллюзией. Бия себя в грудь, они говорят: мы идеалисты, а вы люди брюха; люди эти стараются извратить суть всего.
Идеалисты эти живут своей тихой жизнью, веря в бога, молясь при лампадке или без лампадки, пишут книги, утончают свою жизнь, занимаются разговорами, очень часто весьма благодушествуют, при этом находятся в довольно сносных условиях, ибо если бы условия были не таковы, то они не могли бы спокойно относиться к ним, и высокопарными фразами заменяют настоящую работу и настоящую борьбу.
Материалист, который так грубо смотрит на вещи, говорит: в этом мире страшно много зла, и я свою жизнь положу без сожаления на то, чтобы участвовать в коллективном процессе спасения мира от этого зла. Вот это есть настоящий практический идеалист, и приятно, когда из лагеря «лжеидеализма» под тем или иным влиянием раздается порой искреннее слово. Мне приходилось неоднократно беседовать с архиепископом Крутицким, бывшим протоиереем Введенским, и все черты идеализма, о которых я говорил, ему в высокой степени присущи, что я ставил ему на вид. Но нельзя не порадоваться, когда из уст его вырываются слава: «Что такое коммунисты? Коммунисты — это люди, которые, не веря, делали великое дело любви, которого мы, веря, не делали».
В этом, товарищи, и суть дела, что идеализм есть узорное, очень красивое бездельничанье, что материализм есть насквозь дело тяжкое, в полном смысле слова материальное, практическое, черное, иногда даже грязное, жестокое дело, но он есть действительное дело преображения мира!
В таких сочетаниях и соотношениях рисуются мне идеализм и материализм, и я, конечно, не льщу себя надеждой, чтобы присутствующих здесь идеалистов повернуть сразу в наше русло. Но я говорю, что во всяком случае рядом с другими освещениями этой многогранной проблемы, остается осветить ее внутренний энтузиазм, ее внутреннюю силу, внутренний тонус каждого из этих миросозерцанй и показать, что наша пропаганда марксистского материализма, удовлетворяя всем нуждам и потребностям, является вместе с тем величайшей моральной доктриной, что ему не может импонировать никакая религия, никакие выспренные выдумки любого на облаках парящего поэта, что он представляет собой поистине величайшее здание человеческой сознательности, какое когда–либо на земле поднималось, что он есть источник сил, что он есть огромное оружие, на которое мы опираемся, что он зовет нас и помогает нам идти к громадным победам, перед величием которых, перед перспективами которых мы, как бы ни были несчастны и как бы нам ни было трудно в наше время, уже перед самими собой являемся искупленными, уже смеем сказать: мы приняли мир как он есть, мы принимаем его в его опасностях, мы принимаем трагедию его борьбы, потому что мы знаем, что вся эта комбинация сил сулит нам победу, сулит роскошное развитие разума и счастья, и участвовать в этой работе есть великое блаженство даже тогда, когда это участие свелось бы к очень небольшому и купленному ценой больших страданий содействию общему делу (Аплодисменты).
- См. Ф. Энгельс. Людвиг Фейербах и конец классической немецкой философии. — К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч, т. 21, стр. 289–290. ↩
А. В. Луначарский несколько упрощенно трактует «экономический материализм», представляющий собой вульгарное понимание истории, при котором единственной реальной силой общественного развития признается экономика. Классики марксизма–ленинизма четко вскрыли несостоятельность отрицания обратного воздействия надстройки на базис. В своей борьбе с народниками В. И. Ленин подчеркивал:
↩«…где читали Вы у Маркса или Энгельса, чтобы они говорили непременно об экономическом материализме? Характеризуя свое миросозерцание, они называли его просто материализмом. Их основная идея… состояла в том, что общественные отношения делятся на материальные и идеологические…»; «Материалисты (марксисты) были первыми социалистами, выдвинувшими вопрос о необходимости анализа не одной экономической, а всех сторон общественной жизни…»
(В. И. Ленин. Полн. собр. соч, т. 1, стр 149, 161).
- См. К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., т.3 стр.1 ↩
- Кант, Иммануил (1724–1804) — немецкий философ, родиначальник немецкого классическою идеализма Характеристику философии Канта см.: В. И. Ленин. Полн. Собр. соч., т. 18, стр. 206. ↩
- Ницше, Фридрих (1844–1900) — реакционный немецкий философ. ↩
- Шопенгауэр, Артур (1788–1860) — реакционный немецкий философ–идеалист. ↩
- Тэйлор, Эдуард Бернетт (1832–1917) — английский этнограф, автор концепции анимизма. ↩
- Леббок, Джон (1834–1913) — английский биолог и этнолог. ↩
- Пифагор (ок. 580–500 до н. э) — древнегреческий математик и философ–мистик. ↩
- Парменид из Элей (вторая половина VI — начало V в. до н. э.) — древнегреческий философ–идеалист. ↩
- Идея «пути» (Дао) зафиксирована в книге «Дао–дэ цзил», которая приписывается Лао–цзы (VI–V вв. до н. э.). ↩
- Конфуций (551–479 до н. э.) — великий древнекитайский философ–идеалист. В центре его учения — этика и политика. Он создал особую религиозную систему, в основе которой — культ предков, культ верховной власти и т. п. Конфуцианство как религия вобрало в себя ряд древнейших представлений и верований фетишистского и анимистского характера. ↩
- Мандарин — чиновник феодального Китая. ↩
Русское слово «пора», мн. «поры» — по Далю «скважина»(ы).
Эпикур учил о существовании между мирами междумирия — «так мы называем пространство между мирами» (лат. intermundium(a)). См. письмо Эпикура к Пифоклу в кн.: Лукреций. О природе вещей, г. II. М, 1947, стр. 569. Комментарий К. Маркса см. в его докторской диссертации «Различие между натурфилософией Демокрита и натурфилософией Эпикура» (см. К. Маркс и Ф. Энгельс. Из ранних произведений. М., 1956, стр. 44).
↩- А. В. Луначарский иногда допускал в своих выступлениях упрощенные характеристики, явно модернизированную терминологию. Так, например, ясно, что в античности не было «дворян» (стр. 27), «феодального строя» (стр. 134), «помещиков и капиталистов» (стр. 187). Неверно считать Библию продуктом борьбы феодального уклада против торгового капитала (стр. 413) и т. д. ↩
- Под религиозным синкретизмом обычно понимают слитность (сращение) различных культов. К примеру, «русское народное двоеверие» — соединение православия с дохристанскими культами древних славян и т. п. ↩
- Библейское выражение «лоно Авраамово» по церковному учению означает «место блаженства праведников», т. е. «рай» или «царство небесное». ↩
- Тертуллиан, Квинт Септимий Флоренс (р. между 150 и 160 — ум. 222) — раннехристианский писатель. Знаменита его формула «credo, quia absurdum» («верую, ибо нелепо»), являющаяся крайним выражением церковного учения о «непостижимости» разумом религиозных «истин». ↩
- Иуда (по Иосифу Флавию — Гавлонит) возглавлял восстание галилеян при прокураторе Квиринии (7 г.). ↩
Веспасиан, Тит Флавий (7–79) — римский полководец, затем император.
Здесь имеются в виду события Иудейской войны 66–73 гг.
↩- Эти слова см. в послании Павла к римлянам (12: 19). ↩
- См. в евангелии от Матфея (26:53): «Или думаешь, что я не могу теперь умилить отца моего, и он представит мне более, нежели двенадцать легионов ангелов?» ↩
- Древняя легенда (она засвидетельствована, например, у Платона) о существовании огромного острова в Атлантическом океане к западу от Гибралтарского пролива, затем «таинственно» исчезнувшего, была использована Ф. Бэконом для его социальной утопии «Новая Атлантида». ↩
- Шиллер, Иоганн Фридрих (1759–1805) — выдающийся немецкий поэт. ↩
- Имеются в виду замечания К. Маркса в письме его к А. Руге (сентябрь 1843 г.) и в «Святом семействе» (см. К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 1, стр. 379; т. 2, стр. 175). ↩
- Имеется в виду известное место из работы Ф. Энгельса «АнтиДюринг» (см. К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч, т. 20, стр. 294–295). ↩
- См. работу К. Маркса «К критике политической экономии» (см. К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 13, стр. 8). ↩