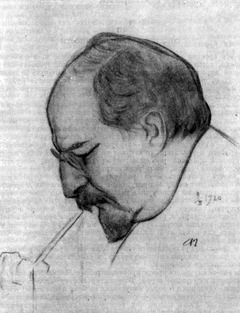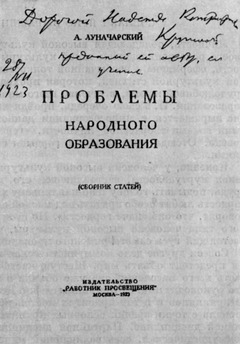Давид Борисович Рязанов 1 представляет собою одну из самых культурных личностей, каких я встретил на своем, уже не коротком веку.
Естественно, что, поскольку моя мысль направляется сейчас к нему по случаю его многознаменательного юбилея, она попадает в круг понятий и явлений культуры, этого огромного здания человеческого труда, человеческого гения в их взаимодействии с природой, этого второго мира, в котором столь сложно соединены и внутреннее единство, и огромное разнообразие по разветвлениям и направлениям, векам, племенам и, в особенности, классам.
Задумавшись о культуре в какой–то связи с высоко уважаемой мною культурной фигурой Давида Борисовича, я напал на мысль об опасностях и соблазнах культуры, и притом именно самого высокого культурного хребта, как раз того, среди пейзажа которого движется т. Рязанов и атмосферой которого он дышит.
Этот пейзаж наивысшей культуры напоминает мне чем–то тот фантас тический и глубоко рельефный голубой ландшафт, который Леонардо да Винчи дал в качестве фона для созданного им изображения культурного человека в одном из тончайших его отражений, в мировом шедевре — Монне Лизе Джиоконде.
Этот пейзаж состоит из высоких пиков о крутых склонах, из глубоких ущелий и долин, по которым текут серебристые реки, причем так и кажется, что воздух там разрежен и холодноват, солнце ярко, тропы редки и круты: карабкаться на соблазняющие вершины, чтобы открыть для себя новые горизонты, — головоломно затруднительно; заглядывать в пропасти — головокружительно, и спускаться в них надо с опаской, ибо такой спуск может внезапно оказаться бедственным срывом.
Хотя я гораздо менее вхож в эти наивысшие регионы культурного плато, чем Давид Борисович и ему подобные, мне все же хочется указать на некоторые, диаметрально противоположные друг другу опасности, которым, судя по нашим наблюдениям за жителями этих вершин, — от нас, снизу, — они подвергаются.
Туземец высокой культуры, Давид Борисович Рязанов поправит меня, если я впаду в ошибки, а может быть, когда–нибудь захочет и пополнить естественные у меня пробелы.
I. Соблазн безграничной широты
Культура необычайна широка. Она почти безгранична. В нее входит огромное множество самых разнообразных явлений. На первый взгляд может показаться, что она представляет собою некое гигантское скопление самого парадоксального и противоречивого характера. Как часто с внутренним ужасом или с усмешкой люди широкой культуры старались начертать ее облик как раз с этой точки зрения тысяч противоречий, в ней уживающихся.
Уже в XVIII столетии забавлялись ниспровержением понятий о единой вере (или единой морали), изображая гигантское разнообразие понятий человечества об истинном, добром и прекрасном и пикантно сопоставляя зло с добром у разных народов, причем понятия эти самым курьезным образом менялись местами.
Еще Вольтер полагал, что по крайней мере вплоть до зари рационализации истории, — которую он склонен был усматривать пока еще в бледном виде в свое собственное время, — история человечества, его верований и нравов представляет собою скопище безумств.2 Ив своем знаменитом «Искушении св. Антония» Флобер, прежде чем отдать всю культуру черту в зубы (разумея под чертом дух автоматического материализма и признание бессмысленности существования), — проводил предварительно перед умственным оком читателя пестрый и кошмарный карнавал абсурдов, которым в разное время своего культурного развития в разных местах поклонялся человек.
Но не все иронизируют или отчаиваются перед лицом потрясающего многообразия форм человеческой культуры. Многие, напротив, приходят в экстаз исследователя и коллекционера. Словно в большом саду, полном странных растений и курьезных животных, разнообразных мостиков и беседок, бегают с ахами и охами резвые дети — так по целой «вселенной» человеческой культуры прогуливаются исследователи–коллекционеры, жадно желая все знать, наполнить свою голову фактами и датами, именами и образами прошлого и настоящего. И чем кто больше прочел, и чем кто больше видел, и чем кто большим обладает в своих национальных музеях или личных собраниях, — тем тот культурнее.
Конечно, с этой точки зрения самым культурным является человек всех культур в пространстве и времени.
Фридрих Ницше пропел дифирамб своему современнику — историческому человеку, которому поистине ничто человеческое не чуждо и который одинаково в изумлении и восторге подымает руки вверх от живости изображений животных в пещере ледникового периода и от картины парижского сюрреалиста, от пирамиды, Эйфелевой башни и дамской шляпы, от древнегреческой монеты и современной почтовой марки. Такой исторический человек восхищенно комментирует утонченного неоплатоника и резкого материалиста, самую простую народную мелодию, симфонию Бетховена и самый какофонический джаз–банд. С уважением склоняет он голову перед гением Маркса и перед «гением» Клемансо и т. д. и т. п.
Слово, которое сию же минуту сходит к нам на губы при зрелище этого высококультурного человека, это слово — эклектик.
Но в том–то и дело: худо или хорошо быть эклектиком?
Настоящий, так сказать, классический и (да позволено мне будет так выразиться) абсолютный эклектик — этакий директор всемирного музея и всечеловеческой библиотеки, влюбленный в свое «учреждение», — представляет собою тип в высокой степени привлекательный. Правда, у него нет убеждений. Но у него все–таки есть одно убеждение, а именно — что все убеждения меняются и что все убеждения могут выражаться в изящных или по крайней мере курьезных образных эмоциональных и мыслительных формах. У него есть даже свои предпочтения: он, конечно, рад, как курьезу, как характерно выраженному в себе явлению, всякой нетерпимой величине, но подлинной печатью человечности кажется ему отмеченным все терпимое, ласковое и широкое. Не таким ли эклектиком был очаровательный человек культуры — Анатоль Франс?
Между тем здесь перед нами вырисовывается один из огромных и опасных соблазнов высокой культуры.
П. Л. Лавров был человеком колоссальной культуры.3 Он не принадлежит к числу таких бескрайно широких и, как я только что выразился, абсолютных эклектиков: добро и зло были для него более четко очерчены. Но именно о нем, как мне рассказывал когда–то с веселой усмешкой покойный М. М. Ковалевский 4 (тоже человек высочайшей культуры), Фридрих Энгельс (тоже человек высочайшей культуры) сказал удивительно меткое слово: «Was der arme Alte auch nicht zusammengelesen hat!..»*.
Много читать — это необыкновенно хорошо. Но при каких условиях не получается вот такого «Zusammengelesen»?** Очевидно, только в том случае, если у человека высокой культуры, преодолевающего и усваивающего целые библиотеки книг, есть внутри какие–то определяющие кристаллы, которые заставляют кристаллизоваться и весь приобретаемый таким образом новый материал. Но тогда все огромное разнообразие впитываемой в себя культуры внутри человека, в его собственном культурном мире отражается каким–то особенным организмом, преломляется, упорядочивается. Культура из безграничного нагромождения явлений становится системой, и не только всякие элементы ее своеобразно размещаются, но и получают знак прогресса и регресса, добра и зла с точки зрения каких–то критериев.
Такой человек, у которого процесс освоения огромной массы культурного материала происходит в вышеуказанных формах, уже избежал соблазна безграничной широты, соблазна безграничного любования разнообразием культуры или, как это иногда бывает, безграничного ужаса перед этим самым ее разнообразием.
* Чего только бедный старик не начитался! (нем.).
** начетничества (нем.).
II. Соблазн замкнутой кристаллизации
Спенсер говорит, что, когда он раскрыл «Критику чистого разума» Канта, он с первых же страниц понял, что книга эта ему совершенно не нужна, и захлопнул ее раз навсегда.5
Не напоминает ли это известного грандиозно анекдотического изречения калифа Омара, когда он сжег александрийскую библиотеку: «Если во всей этой груде книг содержалась истина, т. е. то, что написано в Коране, то зачем все это? У нас есть Коран. А если там говорилось что–нибудь противоречащее Корану, то зачем это? Это будет лишь соблазнять людей. В том и другом случае необходимо испепелить эту груду книг».
Таким образом, отразившийся в человеческой легенде калиф Омар представляет собою законченный тип культурного человека, культурный мир которого законченно и замкнуто кристаллизовался.
Это тоже очень чарующий и манящий соблазн высокой культуры. Быть человеком высокой культуры — разве это не значит иметь на все свой определенный взгляд, прежде всего выделить для себя самое важное и интересное, и выделить сознательно, приобретая таким образом право поглядывать сверху вниз на второстепенное и маловажное, чем могут заниматься люди менее культурные, а затем в области этого самого важного установить незыблемые критерии и точно оформить ответ на Пилатовский вопрос: что есть истина?
В культурном человеке этого типа есть спокойная уверенность, есть умение ответить себе и другим на всякий вопрос, есть подлинная форма, т. е. классичность, т. е. красота. Вы всегда знаете, чего от такого человека ждать: он определенен.
И дело, конечно, идет не только о личностях, но и о группах, школах, течениях, партиях.
Правоверность, ортодоксия — это и есть та высокая форма культуры, в которой выражается замкнутая кристаллизованность.
Но достижение классической оформленности — это явление позднее, даже конечное. То, что такой оформленности достигло, перестает развиваться в своем существе, омертвевает, лишается внутренней диалектики. Если нет внутренних противоречий и если никакие внешние возбудители таких противоречий не порождают, то мы имеем, очевидно, дело с чем–то безжизненным, что и должно начать деградировать и разрушаться, хотя бы по тому типу, по которому тает и распыляется самый крепкий гранитный утес.
Когда мы, марксисты–ленинцы, употребляем слово «ортодоксия», мы употребляем его в совсем другом смысле. Марксизм есть живое древо. Жизнь течет, изменяется вокруг него, и само оно находится в процессе своего весеннего пышного расцвета.
Марксизм полон работы, внутреннего движения. И внутренние импульсы, и внешние проблемы постоянно сдвигают его во множестве важных и частных задач из нынешнего состояния.
Но в таком случае почему же это ортодоксия? В таком случае не может ли подвергнуться подлинный марксист соблазну безграничной широты?
Нет, он не может ему подвергнуться, он не может сделать свою ортодоксальность неподвижной, потому что в самое понятие его ортодоксальности входит прежде всего положение о непрерывном движении и изменении. Марксист не может стать заскорузлым поклонником мертвой догмы, потому что он заранее отрицает всякую догматичность и весь открыт к восприятию объективных фактов — и притом всех фактов.
Но он застрахован также и от эклектизма, потому что в нем действуют огромные силы, детерминирующие принципы, теоретические и классовые доминанты, которые упорядочивают во все более тонкую и сложную систему весь вновь поступающий материал.
На все время, какое мы можем обозреть, сила этих доминант является довлеющей, а потому отступление от этой живой ортодоксии, от найденных нашими учителями великих принципов, является разоружением и деградацией.
И от этих размышлений я перевожу мой умственный взор на культурную фигуру Д. Б. Рязанова.
Какая огромная начитанность! Я не думаю, чтобы начитанность П. Л. Лаврова могла превосходить широту охвата образованности т. Рязанова.
Но какая определенность точки зрения! Какая незыблемая верность определенным силовым линиям, вокруг которых и располагается весь материал, никогда не уродуя умственный организм! Никаких ожирений, никаких опухолей, никаких непереваренных затвердений. Все идет непосредственно в здоровые, все растущие органы того целого, которое есть марксистское культурное миросозерцание.
III. Соблазн рафинированности
Во все времена культурной истории человечества и, в особенности, в те эпохи, когда культура доходила до своей полной зрелости или даже немножко переступала соответственный порог и чуть–чуть отдавала перезрелостью, встречаются в особенно большом количестве культурные люди, которые главной своей чертой, своей особливой культурностью считают рафинированность.
В самом деле, человеческая культура весьма разнообразна также и по квалификации своей продукции. Есть вещи, которые служат непосредственно для потребления масс. Есть такие, которые уже недоступны массам, но представляют собой более или менее нормальные элементы обстановки средних слоев. Есть и такие, которые находят лишь весьма редких ценителей; это — в известной степени — верхушки культурности. Зачастую люди более грубого и утилитарного взгляда на вещи считают такие верхушки культурности праздной роскошью, афтеркультурностью, гиперкультурностью, в конце концов, своего рода извращенностью. Но эта характеристика «почти извращенности» рафинированных продуктов культуры только прибавляет смаку ее продуктам в глазах настоящих дегустаторов, настоящих гурманов культурных редкостей и высоких достижений.
Сама высота достижений в этом случае оценивается не по широте пользы, которую, скажем, тот или другой гениальный мастер осуществил путем своего шедевра, а, наоборот, именно по степени его изысканной бесполезности, именно постольку, поскольку ни понять его, ни, тем менее, употребить для какой–либо жизненной надобности «вульгарный» человек никак не может.
Мне невольно припоминается сейчас один своеобразный разговор, который я имел с товарищем–коммунистом, и отнюдь не каким–нибудь грубым и косолапым человеком.
Мне как–то случилось процитировать известную басню Крылова о петухе, нашедшем жемчужное зерно. Я процитировал эту басню сочувственно, а товарищ, о котором я говорю, напустился на меня после этого: «Неужели вы полагаете, — сказал он мне, — что жемчужное зерно действительно выше, чем ячменное? Разве можно так рассуждать настоящему гражданину строящегося утилитарного, целесообразного мира? Ну, вообразите себе, что весь ячмень на свете заменился жемчужными зернами, самым настоящим крупным жемчугом. Совершенно очевидно, что жемчуг просто упал бы в цене и употреблялся бы так же, как сейчас употребляются любые стеклянные бусы. И разве от этого мало–мальски изменилось бы что–нибудь? И разве не напрашивается мысль, что, собственно говоря, все эти редкостные жемчужины так же мало нам нужны, как и стеклянные бусы, которые бы вовсе не следовало производить, потому что очень трудно привести какие–нибудь оправдания для затраты минимальнейшего человеческого усилия на производство естественного или искусственного жемчужного зерна. А ячмень или то, что мы можем вместо него подставить, — овес, рожь, пшеница, хлебное зерно вообще — разве это не есть в самом глубочайшем смысле слова основа всякой культуры? Переход к земледелию, изобретение человеком пшеницы, борьба за ее засухоустойчивость, морозоустойчивость, за крупное зерно, за питательное зерно — есть гигантская страница в истории человеческого подлинно культурного творчества. И просто смеха достойно сравнивать людей, которые глубочайшим образом заинтересованы в развитии пшеничного зерна, с людьми, которые в какой бы то ни было мере интересуются этим глупым и никому не нужным жемчужным зерном».
Что же, я склонен думать, что товарищ, напустившийся на меня за мою симпатию к Крылову, осуждающему петуха, был прав.
Все дело, однако, в том, что приходится иметь в виду не только жемчужное зерно, которое действительно вещь довольно бесполезная, а немножко понимать внутреннюю иронию дедушки Крылова. Он говорил вообще о людях ограниченных (которых он рисует в образе петуха), о людях, которые часто не могут оценить явлений, выходящих за пределы их сообразительности. С этой точки зрения не только жемчужное зерно, но очень многие произведения искусства, даже очень многие завоевания науки, в глазах вот таких слишком решительных «петухов», привыкших «разрывать» «навозную кучу», заслуживают самого решительного осуждения. И если можно согласиться с моим уважаемым товарищем насчет того, что пшеничное зерно гораздо выше жемчужного, то было бы в высшей степени опрометчиво стать на точку зрения утилитаризма, исходящего из того представления о пользе, которое имеет сам массовый человек в нынешнее время, когда, к великому сожалению и не по вине своей, а по беде своей, этот массовый человек многого действительно понять еще не может.
Но если крайняя вульгаризация культуры, стремление объявить ненужным все, что находит ненужным неграмотный человек, представляет собой чудовищное покушение на развитие всей человеческой культуры, то, с другой стороны, соблазн рафинированности, о котором я сейчас говорю, есть действительно тяжелый соблазн.
Обыкновенно люди, впадающие в этот соблазн, представляют собой отпрыски более или менее паразитарных классов.
Надо быть паразитом, чтобы перестать ценить массовое и непосредственно полезное и чтобы считать бесполезность, редкость и курьезность главными достоинствами предмета и явления, о котором произносится суждение. У паразитарных классов естественна, поскольку все необходимое для бытия доставляется им даром, путем эксплуатации труда масс, все их свободное время уходит как раз на излишества и на привнесение в этот мир излишеств возможно больших развлечений, специализация всякого рода знатоков коллекционерства и соревнования в приобретении подчас до нелепости доведенных культурных раритетов.
Оставляя в стороне всякого рода коллекционерство старых и новых уникумов, обратим немножко внимание на оценку литературных произведений или даже человеческих мыслей. Рафинированный культурный человек любит изыск и такое сочетание идей, чувств и слов, которое никем бы до тех пор не употреблялось, было бы в значительной степени темным, так что среднему человеку и невдомек, какой смысл имеет данное сочетание идей, чувств и слов, но которое бы, тем не менее, за этой внешней темнотой таило какой–нибудь парадокс.
Остроумие, парадоксальность, заумность и всякие в этом роде человечеством изобретенные фокусы, формалистические узоры и монструозные порождения мозга представляют собой довольно заметный пласт человеческой культуры, утолщающийся там, где господствующий класс данной культурной эпохи начинает жить сугубо паразитарной жизнью.
Легко представить себе такого культурного человека, который с какой–то внутренней брезгливостью относится ко всякому предмету, не являющемуся редкостью, ко всякой человеческой фразе, ко всякому переживанию, на котором не лежит печать изысканности и необычайности. Можно представить себе, что это за утомительные люди, в какой огромной мере кажутся они сами ненужными, исключившими себя из жизни, дышащими «неземной» атмосферой!
А между тем людям, раз попавшим в страну высокой культуры, очень легко заметить эти подымающиеся к самому небу пики, которые кончают ся иглоподобными вершинами и на которые хочется взгромоздиться для того, чтобы почувствовать себя особенно эффектно поднятыми над обыденностью и заурядностью.
С такого рода «культурностью» надо, конечно, вести борьбу. Но эту борьбу надо вести с оглядкой. Очень легко, заразившись совершенно законной враждебностью к этим утонченным людям, перегнуть палку и начать относиться, как к ерунде, ко всему, что редкостно и что не умеет сразу доказать свое право на оправдательный приговор перед трибуналом грубоватого утилитаризма. Очень легко перебить все коллекции фарфора на том основании, что фарфоровую посуду можно очень хорошо заменить простой стеклянной или фаянсовой. До вряд ли это правильный подход к культуре..,
В последнем романе Дюгамеля изображается интеллигент–коммунист, по поводу которого между прочим Дюгамель позволяет себе фразу, бросающую совершенно неправильно камешек в мой огород. Он говорит: «Конечно, этот высокий интеллигент–коммунист в сущности был индивидуалистом; индивидуалистом остается каждый интеллигент, будь то Моррас или Луначарский».6
Я не знаю, является ли Шарль Моррас, вождь монархистов Франции, индивидуалистом, и мало интересуюсь этим, но могу заверить господина Дюгамеля, что я сам индивидуалистом отнюдь не. являюсь.
Но героя Дюгамеля вспомнил я не для этого попутного опровержения, а потому, что герой этот говорит между прочим: «Хотя я коммунист, но, когда произойдет переворот, очень может быть, что мне придется умереть, защищая наши музеи от своих собственных масс».
Дюгамелю уже как будто не мешало бы знать, как отнеслись даже в малокультурной, низкой по уровню образованности своих масс России после преобразования ее в Советскую страну к этим самым музейным ценностям.
Да, мы найдем правильное отношение и к уникальному и к рафинированному. Мы не сделаем из него своего обиходного, того, чем мы окружаем свою нормальную жизнь, но мы будем видеть в этом рафинированном своеобразные показатели, своеобразные данные для суждения о разных сторонах человеческой психики, для понимания жизни и стремлений отдельных народов и классов, и, часто, может быть, мы это самое уникальное (если нам покажется, что оно действительно прекрасно и для нас приемлемо) сумеем взять за образец для нашей массовой продукции.
IV. Соблазн массовости
Однако среди людей высокой культуры встречаются и совсем иные типы. Они также считают себя высококультурными и отнюдь не согласятся признать примат рафинированных над собой. Между тем они представляют собой прямую противоположность рафинированных.
Ницше говорил о посредственности, о мещанстве: «Массы? — пускай их возьмет чёрт и статистика».7
Чёрт тут привлечен для красного словца и для того, чтобы подчеркнуть, как пренебрежительно относится Ницше к дюжинному, к сотенному, к заурядному.
Но статистика тут как раз на месте. Законы, по которым управляется мир, обнаруживаются в больших цифрах. Отдельные индивидуальности и отдельные индивидуальные явления тонут в этих больших цифрах и в сущности не имеют никакого значения для человека, который смотрит на мир сверху.
Какое дело настоящему большому генералу–стратегу до того, упадет ли пронзенный пулей Иван Иванов или Николай Николаев, какие кому раны будут нанесены в битве и какие именно горести каким именно членам семьи сражающихся будут при этом причинены!
Но горе было бы такому стратегу, который не принял бы во внимание, какие же вообще могут быть потери при рассчитанной им атаке, не окажутся ли они слишком большими, не поведут ли к тому, что боевые единицы, посланные им в атаку, окажутся надломленными и не осуществят задание?
А так–то, приблизительно, смотрит на вещи и культурный человек, впавший в соблазн массовости. С неменьшей гордостью, чем рафинированный культурменш, он заявляет: «Позвольте! Я человек большой культуры, для меня важны только те явления, которые имеют социологическое значение, которые действительно действенны, которые действительно значимы, а не разная мелкая мелочь, могущая увлекать только коротконогого и близорукого человечка, не умеющего подняться на мою орлиную высоту и окинуть взором широкие горизонты жизни».
Что можно возразить в конце концов против такого социологически мыслящего культурного человека?!
Он не только начинает пренебрегать живой жизнью. Он пренебрегает даже историей. История сама по себе кажется ему каким–то скопищем анекдотов, и в истории его пощады заслуживают только самые общие ее линии.
Возьмите хотя бы историю литературы. Такой возгордившийся человек общих линий и массовых явлений скажет вам: «Какое мне дело до того, что представляет собою Петрарка, Гете или Гоголь? Я знаю, что в определенную пору литература должна была неизбежно выразить определенное социальное содержание. Не родись Петрарка, не родись Гете, не родись Гоголь или имей они случайно совсем другую судьбу, которая помешала бы им написать те именно сочинения, которые они написали, — никакого заметного изменения от этого не произошло бы». «Следите за моей мыслью! — говорит такой культурный человек, — во время Гоголя определенная массовая ситуация, массовые противоречия были даны? Были. А раз они были даны, должны они были найти свое отражение, или вы полагаете, что такое гигантское явление, как литературное отражение уже накопившихся социальных значимостей, зависело от того, что где–то в Полтавской губернии родился Николай Васильевич Гоголь, и что не родись он у своих скромных родителей, то и вся создавшаяся на Руси общественность оказалась бы немой?»
Ну, кто же решится противоречить такой постановке вопроса? Действительно, раз социальные значимости даны, то тем самым дано и их выражение.
А если так, то культурному человеку, подпавшему под соблазн массовости, становится уже совершенно неинтересным, что было до того и произошло дальше с автором выразивших то или иное социальное содержание произведений. Не Гоголь, так кто–то другой.
Отсюда легкий вывод: следует изучить и всех маленьких гоголей вокруг. Они должны были в конце концов делать то же дело, предшествуя Гоголю, вторя ему или довершая начатое им. И вообще Гоголь плюс все маленькие гогольки составляют единое социальное явление. И если вы робко скажете на это, что все–таки интересно было бы знать кое–что о большом Гоголе и что это, пожалуй, более занятно, чем сведения о маленьких гогольках, и что есть все–таки какая–то разница между большим Гоголем и маленькими, хотя они порождены одними и теми же социальными условиями, — если вы скажете все это, то, пожалуй, вам ответят, что вы плохой марксист.
У культурного человека, впавшего в соблазн массовости, нет больше понимания того, что не только массовое является закономерным, но и индивидуальное входит в ковровую ткань истории, как нечто фактически неизбежное, как нечто, чему придан индивидуальный конкретный характер ходом событий и что заслуживает внимательнейшего изучения именно потому, что жизнь в ее реальном ходе и есть та жизнь, которой приходится управлять или которой, — если управлять ею ты или твой коллектив не умеют, — приходится подчиняться.
Вряд ли можно считать рядом с соблазном рафинированности одним из соблазнов высокой культуры и соблазн конкретности, т. е. неумение различить между случайным и значительным, неумение подыматься до социологических абстракций. Я думаю, что это особая точка зрения на вещи просто малокультурного обывателя. Не о ней мы, конечно, говорим. Мы говорим именно об этом стремлении объяснить исключительно большими законами конкретные явления, в особенности те, которые приобрели при всей своей конкретной индивидуальности (как в случае с великими людьми) бросающееся в глаза огромное значение.
Ленин был как нельзя более далек от того «социологического марксизма», который удаляется от конкретности. На стр. 110 в I томе его Сочинений вы можете найти определение задачи марксизма: «Точно изобразить действительный исторический процесс, и ничего больше. Критерием теории является верность ее с действительностью. Критерий этот отнюдь не в абстрактных схемах».8 А в XII томе («О великих людях») Ленин делает такую выписку из «Философии истории» Гегеля: «Великие люди в истории — это те, чьи личные частные цели заключают в себе субстанциональное, являющееся волей мирового духа».9 То, что Ленин не делает при этом никаких возражений Гегелю, вовсе не значит, конечно, чтобы он принимал это положение в таком виде, как оно Гегелем сформулировано. Он принимает его, очевидно, только с переводом на материалистический язык, который бы звучал так: «Великие люди в истории — это те, чьи цели и чье поведение самым точным образом совпадают с основными линиями развития общества, с главными целями класса, являющегося в эту эпоху ведущим».
А отсюда следует, что люди не великие — это те, у которых такое совпадение является гораздо меньшим, затемненным, раздробленным. Вот почему великих Гоголей надо изучать, а маленьких гогольков можно разве захватывать попутно.
Когда, противопоставив антитетически эти два соблазна — рафинированности и массовости, я вновь устремляю свой взор на культурную фигуру Д. Б. Рязанова, я с удовольствием отмечаю тот глубокий интерес, который всегда проявлял Рязанов к фактам индивидуальным, например, скажем, подчас даже к мелочам социальной биографии, мыслительной истории Маркса и Энгельса, а рядом с этим десятка других выдающихся людей их эпохи и других эпох, и вместе с тем его неуклонный и столь естественный в марксисте интерес к явлениям массовым, к тем самым большим цифрам, которые он отнюдь не был склонен посылать к чёрту, а послав их к статистике, принимал из ее рук как драгоценнейший материал для общего построения подлинного представления о человеческой культуре.
V. Соблазн куртуазности
Культура также имеет свой «двор», свою аристократию, несколько тысяч людей, которые более или менее знают друг друга.
Подлинно культурный гистолог знает о каком–нибудь крупнейшем живописце своего времени, а выдающийся артист может вам без больших ошибок назвать крупнейших химиков или путешественников своего времени.
Есть такое выражение «европейская знаменитость» или еще другое, более почтенное — «мировая величина».
Такие «европейские знаменитости» и «мировые величины» составляют своего рода республику, в которой они признают себя более или менее равными согражданами.
Снизу к ним примыкают всякие академики и профессоры и на том же уровне находящиеся мастера разных родов оружия.
Все это люди культурные. Все это даже высококультурные люди.
В общем, культурные люди считают, что существуют некоторые «культурные отношения между людьми». Некультурно относиться к человеку — это значит быть с ним грубым, не признавать его человеческих прав.
Правда, если выясняется, что тот или другой высококультурный человек зашел «слишком далеко» по той или другой линии культуры, если, например, такой высококультурный человек, как Ромен Роллан, слишком очевидным образом ударил по лицу такую «почтенную» вещь, как патриотизм,10 — то высококультурные люди пожимают плечами и произносят нечто вроде следующей фразы: «Такой культурный человек и вдруг допустил такие излишества! Как нелепо такому высококультурному человеку путаться в политику!»
Надо вспомнить, что очень многие из высококультурных людей являются аполитичными отчасти потому, что среди них живет легенда, будто бы наука сама по себе (или искусство само по себе) в состоянии привести человечество к счастью в какие–нибудь ближайшие 25 лет. Вследствие этого на всю суету политиков и на всю борьбу классов они смотрят с жалостью, смешанной с негодованием.
Конечно, республика высокой культуры далеко не едина. В ней есть свое крайне левое крыло, левое, центр, правое и крайне правое. Диалектический материалист встречается в ней с католиком, анархист с монархистом. Принято, однако, при куртуазных отношениях, которые должны связывать высококультурных людей, отодвигать на задний план разницу мнений и помнить прежде всего то место как некую абсолютную величину, которое данный высокий спец занимает во всем мире высоких спецов (или высочайших эклектиков, спецов по всем специальностям и без всякой специальности).
В самом деле, люди высокой культуры — это выдающиеся индивидуальности, утонченные, оставившие позади себя всякие грубые страсти и раздраженную нетерпимость. Они дышат атмосферой свободы мысли и взаимного уважения. Разве это не хорошо? Разве нехорошо будет жить людям высокой культуры в социалистическом обществе? И разве, поскольку все социалистическое общество мощно двинется в направлении к высокой культуре, именно такого рода междучеловеческая куртуазность не сделается естественным модусом взаимоотношений между людьми?
Все так, в этом нельзя усумниться. Но тонкий яд многих соблазнов в том и заключается, что они вовсе не являлись бы соблазном при социализме, т. е. после прекращения свирепой классовой борьбы. Именно этот аромат будущего, этот аромат гармоничных человеческих взаимоотношений, соответствующих плановому хозяйству, и придает им прелесть. А между тем, пока царит эта необходимая борьба, без которой мы никогда не приплывем к желанным берегам социализма, до тех пор предвосхищение нравов будущего и установка их в качестве правила поведения для настоящего есть измена делу.
Нас мало интересует, хорошо или не хорошо, если какой–нибудь высококультурный кардинал любезно беседует с каким–нибудь высококультурным раввином или даже атеистом. Пусть они разрешают эти вопросы как хотят. Но вот, если бы крупный мыслитель или деятель коммунизма хотел завязать узы самой розовой куртуазности с высококультурными классовыми врагами, — то тут нельзя не протестовать.
Хорошо, если эта куртуазность имеет только чисто внешний характер. В самом деле, когда, например, наши советские историки (среди которых было довольно большое количество коммунистов) отправились в Германию в качестве гостей и смогли там прочесть несколько весьма знаменательных докладов, собравших огромное количество молодежи,11 то они действовали правильно, если обменивались поклонами и любезными улыбками с немецкими коллегами, принадлежащими к различным, но большей частью буржуазным историческим направлениям. Но это было бы худо в том случае, если бы из–за куртуазности и чтобы не шокировать любезных хозяев высококультурного образца наши историки, скажем, подлили немного тепловатой розовой водицы в крепкое вино марксизма. Вот это было бы плохо. Они, конечно, этого не сделали, но так может подчас поступить тот или другой высококультурный человек, если он поддастся соблазну и будет думать, что «высокая культурность вообще» важнее в нем, чем его марксистская выдержанность.
Думается, что то же самое верно и для других направлений, только повторяю, мы гораздо равнодушнее к тому, не подмочена ли твердая убежденность людей высокой культуры не нашего лагеря их изысканной куртуазностью.
Внутри нашей страны иной раз также старается как бы определиться некая круговая порука высококвалифицированной интеллигенции. При этом иногда упускается из виду, что именно в нашей стране, где борьба идет в таких жестких формах, высококвалифицированная интеллигенция раздернута на два, очень далеко отстоящих друг от друга лагеря, между которыми мечется, снует туда и сюда, подвергаемая как бы особенному электролизу, не разобравшаяся еще середина. Соблазну куртуазности поэтому в нашей стране нельзя не давать от времени до времени достаточно энергичного отпора.
Я не желал бы только, чтобы читатели неправильно меня поняли. Я вовсе не хочу сказать, чтобы люди, которые умеют больше оценить значение того или другого специалиста, чем другие, просто с этой специальностью не знакомые, не имели права по–ленински поднять голос в защиту того или другого специалиста, о котором неосведомленные часто легко произносят суждение как о чем–то непригодном, потому что чуждом, забывая ленинское указание, что часто этот чуждый специалист, поскольку он является более или менее незаменимым, должен быть поставлен нами в рамки, которые бы пресекали его вредное влияние, и использован, насколько только использовать его можно в нашем строительстве, в котором каждая интеллигентная сила, при скудости нашего интеллигентского наследия и трудности получения новой интеллигенции высокой квалификации, является драгоценностью.12
VI. Соблазн ярко выраженной личности
Личность, обладающая высокой культурой, очень часто считает себя своего рода воплощением такой культуры. В своих глазах вся она, личность, оформлена с необычайной тонкостью и законченностью той громадной культурной стихией, которая проходила через нее в течение всей ее трудолюбивой жизни, в течение всего многозначительного процесса самообразования. И, в свою очередь, пройдя через личность, культура — как она выражается в миросозерцании данного человека — прониклась живыми соками творческой личности, «гением» данного выдающегося человека. Отсюда чрезвычайная гордыня самим собой и своими воззрениями.
Конечно, у человека высокой культуры всегда имеется некоторый оттенок куртуазности, заставляющей его не слишком грубо выпячивать грудь, подымать голову и по–павлиньему хвастать собой. Очень часто даже гордость любят особо прятать под маской смирения, того самого, о котором говорят, что оно «паче гордости». Но стоит только серьезно затронуть такого типа человека высокой культуры, чтобы он зашипел, как самый настоящий гусь самого римского происхождения.
Совсем другое дело коммунистическая партия. Все будущее перед ней. Ей предстоит объять мир. Шестую часть его площади и четырнадцатую часть всего населения она уже объяла в том, по крайней мере, смысле, что руководит ими. Ее принципы свежи. Дело, однако, не только в свежести ее принципов и в тех правилах постепенной организации все нового материала с точки зрения основных принципов. Дело еще в одном — в партийной дисциплине. Партийная дисциплина такой партии, как партия коммунистическая, есть величайший мировой принцип. Только при железном единстве партии окажется возможным исполнить ее всемирную историческую миссию.
Необычайно благоприятным обстоятельством при этом является то, что коммунистическая партия есть партия пролетариата — класса массового, дисциплинированного уже своей ролью в производстве, класса, мужественно выдержанного и органически неприязненно настроенного ко всякой крикливой и выпирающей себя личности.
Однако если нашей партии нужны железные когорты пролетариата, то ей нужны также и люди высокой культуры. Это бесспорно. Люди высокой культуры могут прийти к коммунистической партии из разного рода интеллигенции, могут подняться пролетариата. Но даже эти последние по мере того, как они становятся людьми высокой культуры, могут приобретать характерные черты <их> и подвергаться свойственным им соблазнам.
Если в пределах такой глубоко серьезной партии, как наша, эти вещи приобретают иногда в некоторой степени трагический смысл, то в широком общежитии кризисы, порожденные соблазном ярко выраженной личности, бывают не лишены комизма. Сюда относятся всякие ученые («Я» с большой буквы) теории сэра Имя–Рек, разъяснение «темного факта», данное академиком Таким–то. С весьма ядовитым взором и весьма взволнованным голосом настаивают сэр Имя–Рек или академик Такой–то на том, что они совершенно и полностью правы и что сэр Так–и–Так и академики X и У проявили в данном случае не только слабость логики, но и значительную степень невежества.
Очень забавно наблюдать, как впавшие в соответственный соблазн и необычайно высоко ценящие самих себя граждане «высокой республики максимальной культурности» ссорятся между собой по поводу того, кто первый сказал «э», кто первый открыл какую–нибудь звезду тринадцатой величины и т. д.
Кстати сказать, эта смехотворная черточка начинает несколько отступать перед растущим духом куртуазности, и мы все чаще присутствуем при соглашениях на этой почве совершенно гоголевского типа, когда два или три ученых, открывших одновременно ту или другую «звезду», обмениваясь косыми взглядами и косыми улыбками, заявляют: «„Э“, сказали мы с Петром Ивановичем».
* * *
Обращаясь к человеку, которому посвящен настоящий сборник, я должен сказать, что мне часто казалось, будто он впадает и в соблазн куртуазности, и в соблазн ярко выраженной личности.
Но к Д. Б. Рязанову я отношу от сказанного мною насчет соблазна куртуазности только то, что я отнес к привлекательности этой черты.
Так же точно знаю (да и кто не знает?) Давида Борисовича как полемиста. Мы часто наблюдаем те громы небесные, которые Юпитер этот вдруг посылает против нас в случае разногласий с ним. Не так–то легко устоять на ногах, когда получишь молнию рязановского гнева за то или другое отличие твоего мнения от мнения уважаемого Давида Борисовича!
Но это не единственное оружие, которым он защищает свою ярко выраженную личность. У него есть и другое: очень веселая и очень меткая шутка… Речи т. Рязанова сопровождаются часто смехом, и причиной этого смеха всегда является острота, почти классически литературная, очень тонкая и неожиданно часто очень больно разящая противника и иногда оставляющая каплю яда в царапине, которая отмечает место, где впилась рязановская стрела.
Столь боевые качества Д. Б. Рязанова, которые составляют неотъемлемую принадлежность его великолепного темперамента и всей его дорогой нам личности, могут заставить думать, что он весьма не чужд последнему из перечисленных мною соблазнов. Я все же думаю, что это не так. Дело в том, что гнев Рязанова отходчив и шутки его не злостны. Только в высшей степени мелочный человек может обижаться на яркую полемику т. Рязанова. В ней сказывается скорее очень большая убежденность, горячность натуры, прямота и то богатство арсенала, которое позволяет заимствовать из него подчас очень блестящее и очень отточенное оружие.
Во всяком случае, при свете того суммарного анализа соблазнов высокой культуры, который я делаю в этой статье, фигура Давида Борисовича вырисовывается в самом благоприятном свете. Но это было лишь весьма косвенной целью настоящей маленькой работы: мне хотелось просто бросить взгляд на опасности высокой культуры, осветить их и в то же время пожелать, чтобы возможно большее количество людей подвергалось этим опасностям — при том условии, разумеется, чтобы они сумели их преодолеть. Ибо всякая высокая культура есть вещь не только «вообще», не только «очень высокая», но и весьма необходимая в обиходе класса, который хочет по–новому перестроить мир.
<1930>
- Давид Борисович Рязанов (Гольдендах, 1870–1938) — социал–демократ, до 1917 г. принадлежавший к группе «Борьба», которая занимала промежуточное положение между большевиками и меньшевиками. В 1906 г. эмигрировал в Германию, где вел научно–исследовательскую работу по подготовке издания сочинений Маркса и Энгельса. На VI съезде партии (1917) был принят в РСДРП(б). После Октябрьской революции находился на руководящей профсоюзной работе. В начале 1918 г. временно выходил из партии из–за несогласия с решениями VII съезда по вопросу о Брестском мире. Во время дискуссии о профсоюзах (1920–1921) занял антипартийную позицию и в связи с этим был отстранен от работы в ВЦСПС. Был первым директором Института Маркса и Энгельса. В феврале 1931 г. исключен из ВКП(б) за связь с нелегальной организацией меньшевиков. Последние годы жил в Саратове, занимаясь литературным трудом. ↩
- См. слова Вольтера в его повести «Простодушный»: «История — не что иное как картина преступлений и несчастий» (Вольтер. Избранные произведения. М., 1947, стр. 163). ↩
- О своем знакомстве с Петром Лавровичем Лавровым (1823–1900), социологом и публицистом, идеологом народничества, Луначарский рассказывает в книге «Великий переворот», ч. I. Пг., изд. З. И. Гржебина, 1919: «В Париже познакомился я также со стариком Лавровым. Если не ошибаюсь, это было совсем незадолго до его смерти. Был он очень стар и жил в своеобразной норе, как будто выкопанной между книгами; читал, как всегда в жизни, чрезвычайно много и представлялся мне чудом энциклопедичности. Мне удалось иметь с ним несколько длительных и интересных бесед на темы, которые в то время более всего меня интересовали, именно о происхождении родственных мифов у самых далеких друг от друга народов и о законах эволюции мифов» (стр. 18–19). ↩
- Максим Максимович Ковалевский (1851–1916) — правовед, историк и социолог. В 1870–1880–х годах был профессором Московского университета. За прогрессивный образ мыслей был уволен из университета и уехал заграницу. В 1901 г. основал в Париже «Высшую русскую школу общественных наук», просуществовавшую до 1905 г. После возвращения в Россию стал профессором Петербургского университета и являлся одним из организаторов буржуазной «партии демократических реформ», не имевшей большого влияния. Был членом I Государственной думы. Луначарский познакомился с ним во Франции в 1890–х годах. «Мне кажется, — писал Луначарский, — что за всю жизнь я встретил только двух собеседников, столь исключительно блестящих, можно сказать, фейерверочных. Это были Г. В. Плеханов и M. М. Ковалевский» (А. В. Луначарский. Великий переворот, ч. I, стр. 16). ↩
- См.: Герберт Спенсер. Автобиография. Часть первая. СПб., изд–во «Просвещение», 1914, стр. 220–222. ↩
- Имеются в виду слова Бовуазена, одного из персонажей романа Ж. Дюамеля «Клуб Лионской улицы» («Le Club des Lyonnais»), входящего в цикл «Жизнь и приключения Салавена» (см. G. Duhamel. Vie et aventures de Salavin, v. II. Paris, 1948, стр. 250). ↩
- В книге «Несвоевременные размышления» (1873), ч. II — «О пользе и вреде истории для жизни» (см. Ф. Ницше. Полное собр. соч., т. II. «Московское книгоиздательство», 1909, стр. 164). ↩
- Луначарский излагает следующую мысль В. И. Ленина из его работы «Что такое „друзья народа“ и как они воюют против социал–демократов?»: «Всякий знает, что никаких собственно перспектив будущего никогда научный социализм не рисовал: он ограничивался тем, что давал анализ современного буржуазного режима, изучая тенденции развития капиталистической общественной организации — и только» (В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 1, стр. 186–187). В первом издании сочинений Ленина эти слова находятся на 110–й странице I тома. ↩
- Речь идет о «Ленинских сборниках», т. XII, 1931, стр. 153. ↩
- Имеются в виду антивоенные выступления Роллана, в частности статьи, вошедшие в его книгу «Над схваткой» (1915). ↩
- В первый раз делегация советских историков побывала в Берлине и выступала там с докладами в июле 1928 г. ↩
- См. примеч. 8 к докладу Луначарского на VII съезде работников искусств. ↩