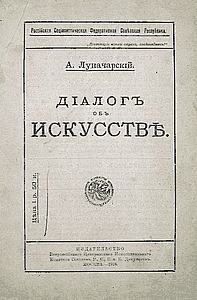Предисловие*
С тех пор как написан мною диалог об искусстве, прошло очень много времени, и обстоятельства изменились невероятно.
Писал я его в качестве ссыльного в маленьком северном городке Тотьме.1 Мы были подпольной партией, пользовавшейся тюрьмой и ссылкой для того, чтобы развернуть параллельно с нашей заговорщической работой теорию классовой борьбы. Теперь я пишу это предисловие в качестве народного комиссара по просвещению первой Социалистической Республики в мире, в Кремле, ставшем резиденцией Рабоче–Крестьянского Правительства.
Четырнадцать лет. Две революции, из которых одна величайшая из когда–либо имевших место.
И, однако, по совести сказать, мне нечего изменить в моем диалоге, только финал его, где «Марсельеза», выступает как образчик революционного искусства, сейчас немного шокирует того или другого читателя. Ее захватали руками бескровные полудемократы и соглашатели. Но и этих строк не хочется мне менять. Гордая «Марсельеза» наших великих предшественников останется нашей. Она сумеет стряхнуть со своих крыльев весь серый прах, который набросали на нее буржуазные и полубуржуазные писатели всех стран, и воспарить вместе с «Интернационалом» и грядущими нашими гимнами над головой победоносного пролетариата.
Кое–что, конечно, изменилось в области искусства. Надо было бы прибавить разбор футуризма во всех его разновидностях. Это потребовало бы работы слишком обстоятельной для тех минут свободы, какими я располагаю. Сейчас это, по существу, не на много улучшило бы мою работу. Я думаю, что она не устарела, что и сейчас ее могут прочесть с пользой те, кто хочет рассмотреть явление искусства под углом зрения революции и ее великих задач. Я счастлив констатировать, как мало из того, что мне приходилось писать на своем веку, подлежало бы сколько–нибудь радикальной переделке при издании вновь. Мы осуществляем сейчас именно то, о чем мы мечтали и что планировали.
Жизнь очень существенно изменилась, но мы остались прежними.2
28/I 19 г.
Введение
На днях Каутский, полемизируя с центральным органом германской социал–демократии «Vorwärts'ом»,3 посвятил несколько интереснейших страниц характеристике научного марксизма и марксизма этико–эстетического. Считаем полезным более или менее полно ознакомить читателей с мыслями высокоталантливого немецкого публициста по этому вопросу. Приводим поэтому целиком наиболее важные страницы.4
«В первые годы по отмене закона против социалистов в «Vorwärts'е» господствовало научно–экономическое направление. Его политику направляли люди, чувствовавшие себя как дома в области национальной экономии и истории хозяйства, питавшие великий интерес к связи политики с экономикой и умевшие осветить эту связь с глубоким пониманием. Главной задачей казалось им схватить и изобразить эту взаимозависимость, объяснить ее читателям. Мышление их было по преимуществу научным, потому что мыслить научно для социал–демократа, да и вообще для современного политика, значит мыслить историко–экономически.
Теперь в «Vorwärts'е» преобладает мышление этико–эстетическое. Дело идет теперь не столько о том, чтобы понять, как о том, чтобы оценить. Задачею является вызвать возможно более сильную этическую или эстетическую эмоцию, внушить читателю отвращение к господствующим порядкам; это — социализм чувства не в том смысле, чтобы представители его были лишены научного образования или чтобы научные интересы были им чужды, а в том смысле, что центр тяжести перенесен у них с научного объяснения фактов на возбуждение чувства.
Я не хочу пускаться в философскую экскурсию о научном и этико–эстетическом мышлении,* я хочу лишь указать на практические разногласия, порождаемые ими. Там, где научное мышление не доминирует и не указывает этико–эстетическим факторам их задачи и направление, неизбежно возникают конфликты.
* Каутский сделал это отчасти в настоящее время в своем сочинении «Этика и экономический материализм». [Примечание 1906 г. — Ред.]5Уже в оценке значения повседневных фактов проявляется разница обоих направлений. Что в высшей мере привлекает и интересует одних, другим кажется лишенным значения или, по крайней мере, маловажным.
Ведь не всегда то, что производит наиболее сильное мгновенное действие на чувство, является вместе с тем обстоятельством, имеющим глубокое и деятельное влияние на общественную и государственную жизнь.
События и вопросы, которые оказывают наиболее могучее и прочное воздействие на ход развития общества, часто обладают невзрачной внешностью, их иногда трудно заметить, а понять можно лишь путем сложной умственной работы, имеющей мало общего с моральными порывами. Тирады против жестокого ростовщика, сосущего соки из должников, действуют непосредственно сильнее, чем теория капитала. Самые эффектные в смысле чувства явления и вопросы лежат как раз на поверхности. Поэтому этически настроенный читатель всегда склонен к поверхностности, к сенсационному, которое он считает политически наиважнейшим; такой читатель будет всегда отрицательно относиться к научному углублению в сущность явлений.
Помимо того, перевес этико–эстетического интереса приводит политического читателя не только к поверхностной погоне за сенсацией и нелюбви к исследованию глубоко лежащих корней явлений (что не препятствует таким читателям с величайшим уважением говорить о науке и просвещении), он приводит его к отношению, прямо враждебному к глубоким исследованиям.
Нет ничего легче, как этически объединить людей, вызвать в них моральное негодование по отношению к тому или другому особо возмутительному факту. Обыкновенно такие факты очень просты, и нетрудно так или иначе согласить всех на одном суждении. Нетрудно было, например, вызвать негодование всего цивилизованного мира против зачинщиков кишиневского погрома. И «Vorwärts» мечтает, что ему удастся создать таким путем столь значительное единство общественного мнения, что лишь «незначительный процент» населения будет против, а изолированность этой горсти «осудит ее на бессилие».
Но если мы не остановимся на простой оценке, если мы захотим понять явление, если мы будем рассматривать отвратительные факты современности не изолированно, а в связи с целым, если мы захотим познать их причины и возможность и способы борьбы с ними, — мы натолкнемся на крайне сложные вопросы, на которые получим самые различные ответы, в зависимости от воспитания и классового положения отвечающих.
Возьмем для примера тот же кишиневский погром. Само собою понятно, что всякий возмущается им. Но как только вы поставите вопрос: какова причина его? каков метод борьбы с подобными явлениями? — начинаются разногласия. В какой связи стоит это ужасное событие с социально–политическими условиями России и мира? Должны ли мы стремиться к ассимиляции евреев или к свободной организации их в обособленную национальность? И если последнее, — должны ли мы стремиться к свободе еврейской национальности в России или к образованию ею особого государства?
Итак, этико–эстетическая оценка приводит легко к единству, научно–экономическая — к разногласиям и борьбе даже среди близких друг к другу элементов. Очевидно, что первый метод находит во втором препятствие и помеху, бросает ему упрек в возбуждении напрасных разногласий и желает послать к черту все, что нарушает моральное единение, которого он достиг или воображает, будто достиг.
Но подобные упреки неосновательны. Наши противники могут быть доведены до бессилия лишь единством действия, а отнюдь не единством морального негодования и общественного мнения. Вернемся к нашему примеру. По отношению к кишиневскому погрому моральное негодование разделялось всеми. Что же? Обессилели от этого те злые силы, которые были причиной катастрофы? Ничего подобного! Волос не дрогнул на голове виновников; финансовое иудейство по–прежнему с готовностью открывало им свой кредит!
Но и там, где нравственное негодование приводит к действию, оно отнюдь не гарантирует еще его единства. Негодование говорит лишь о том, что чего–то не хотят, что что–то осуждают, но оно не говорит ничего, как устранить это осужденное и чем заменить его. И на этой почве возникает тем больше разногласий, чем меньше теоретических дискуссий предшествовало, чем менее свету пролито ими на вопрос.
Преобладание чувства в партийном журнале приводит, однако, еще к одному явлению. Все люди в среднем одинаково нравственны, одинаково склонны осуждать ужасы, из которых не извлекают никакой выгоды. «Vorwärts» прав поэтому, надеясь объединить по подобным вопросам большинство общества. Но доказывает ли это возможность завоевать это большинство для социал–демократии? Нет, это доказывает лишь, что нравственное негодование не есть отличительный признак социалиста; что в этом отношении он отличается от остальной массы населения разве лишь интенсивностью своих чувств. Но что отличает его от адептов других партий и от людей индифферентных, так это его экономическая точка зрения на связь отдельных ужасов с самою сущностью современного строя, его понимание, что устранить их можно, лишь устранив устои современного общества.
Этико–эстетики, не ослабляя своего социалистического способа чувствовать и мыслить, не ища никаких компромиссов, — говорю это во избежание недоразумений, — слишком часто, однако, упускают из виду специфически–социалистическое».
Приведенные мысли Каутского мы считаем глубоко верными. Мы считаем недопустимым преобладание этико–эстетического мышления в литературе, защищающей интересы трудящегося класса. Следует ли из этого, что марксисты отрицают этику и эстетику?
Оговорюсь тут, что пишущий эти строки лично считает этическую оценку лишь разновидностью эстетической,6 но это ничуть не меняет дела.
Послушаем, что говорит об этом Каутский в той же статье.
«Я отнюдь не думаю утверждать, что этико–эстетика должна быть чужда нашей борьбе. В политической экономии этике, конечно, нет места, нет ей места и в основанном на политической экономии научном социализме. Он исследует взаимную связь явлений. Если он делает выводы относительно будущего, то они так же мало общего имеют с этикой, как выводы, делаемые гигиеной из научных данных. Но научный социализм — это лишь одна сторона социал–демократии: она представляет из себя единство теории и деятельности, науки и борьбы. Насколько мало места для этики и эстетики в научном исследовании, настолько же важны они в борьбе пролетариата. Может ли класс обходиться без преданности и энтузиазма своих борцов? Особенно же такой класс, как пролетариат, который противопоставляет экономической и политической мощи противников лишь свое единство? Но и чисто эстетический элемент может играть огромную роль в классовой борьбе. Политика и искусство, в особенности поэзия, имеют множество точек соприкосновения; и политика и искусство стараются как можно сильнее потрясти и поднять человека, и политика и искусство должны стремиться к тому, чтобы как можно глубже постичь и исчерпать человеческую душу. Чистейшая неправда, будто «политическая песня — всегда плохая песня», политика и искусство могут многообразно оплодотворять друг друга; политика может давать художнику возвышеннейший материал, самые страстные импульсы, искусство же может в огромной мере укреплять силы политического борца».
Так говорит глубокий и серьезный немецкий публицист. Не нужно других оправданий для наличности литературно и художественно–критического, как и для беллетристического направления в литературе, отстаивающей интересы рабочего класса.
Но если преобладание эстетической точки зрения недопустимо в чисто политических и научно–философских трактатах, то в отделе художественно–критическом научный историко–экономический метод не только не должен быть, в свою очередь, ограничен, но должен занимать место, по меньшей мере, наряду с оценкой непосредственно эстетической (или так называемой этической).
Здесь, однако, и тот второй способ мыслить и чувствовать допустим и необходим.
Мне уже неоднократно приходилось делать опыты изложения моих воззрений на искусство.7 Но уже давно во мне созрела уверенность, что самою подходящею для этого формою является диалог. Диалог дает возможность объективно изложить ряд мнений, взаимно подымающих и дополняющих одно другое, построить лестницу воззрений и подвести к законченной идее. Взяв на себя смелость идти по стопам мастеров диалога, я последовал их примеру и в том, что по мере сил постарался сделать собеседников живыми людьми, окружить их живою атмосферой. Выбирая для этого подробности и эпизоды, я отнюдь не преследовал цели «оживить» разговор, а хотел ближе охарактеризовать лица и мнения; к этому направлена в диалоге всякая мелочь.
Форма диалога непривычна для читателя; не без тревоги поэтому облек я в нее свои идеи об искусстве. Но если бы форма эта снискала одобрение моих читателей, я охотно пользовался бы ею для развития некоторых сложных идей, принимающих в своем росте ряд форм, встречающих ряд разнообразных препятствий.
Диалог
Большая комната была полна табачным дымом и громким говором; вокруг нескольких столов, уставленных более или менее демократической закуской, толпилось и сидело десятка два молодых людей; публика довольно разношерстная, но в большинстве имевшая прямое или косвенное отношение к искусству. Сам хозяин комнаты имел к нему прямое отношение, ибо был живописцем, его жена, Елена Дмитриевна, — косвенное, как жена живописца и страстная эстетка.
В ту минуту, которую я выбираю, чтобы ввести вас в разговор, шум в комнате достиг высшей степени, прямо стон стоял, и хозяйке пришлось пустить в ход всю силу своего свежего; звонкого голоса, чтобы ее услышали.
— Господа. — кричала она, — это невозможно! Сошлись все спорщики отчаянные, с убеждениями и взглядами самыми разнообразными и орут! Ни друг друга не слышат, ни себя самих, кажется! — Спорящие рассмеялись. — А между тем я вижу тут такую компанию, которая могла бы устроить интереснейший турнир и друг с другом познакомиться, и маленьких людей, вроде меня, грешной, поучить. Будем сегодня, господа–товарищи, европейцами: давайте говорить по порядку, и я предлагаю себя в председательницы.
Добрая половина присутствующих зааплодировала, другие, как раз спорщики–то, улыбались сдержанно.
— Par acclamation, par acclamation!* — кричал безусый молодой человек, влюбленными глазами глядя на красивое, раскрасневшееся лицо кандидата в председатели.
* единогласно! (франц.) — Ред.
— И так как, — продолжала Елена, — Акинф Фомич волнуется больше всех, то ему я даю голос первому.
Молодой человек, в тужурке верблюжьего цвета, с копной пыльных волос на голове и нервным желтым лицом, недружелюбно глянул на хозяйку и, комкая и туша папиросу в пепельнице, произнес:
— Волнуюсь? С чего вы взяли… Что мне Гекуба!8
— Не злитесь, не злитесь, маленький холерик… Вы имеете слово…
— Какое там слово?.. Я никаких речей произносить не намерен… — кривя рот, отрезал Акинф Фомич, — я выскажусь очень кратко… В искусстве я ни бельмеса не смыслю и не желаю смыслить…
— А это стыдно! — пылко произнес безусый юноша. Акинф Фомич глянул на него презрительно.
— У меня есть один знакомый… так, поросенок… маменькин сынок. Встретил я его на Невском, а он дышит на меня дымом и пристает: «Чувствуешь, что я курю, чувствуешь?» Я говорю: «Табак». — «Да, впрочем, говорит, разве ты смыслишь что–нибудь в сигарах? А это, братик, стыдно», — Я говорю: «Дурак», говорю. — И Акинф Фомич стал победоносно закуривать сделанную во время рассказа папироску.
Пылкий юноша хотел воспламениться, но строгий взгляд председателя усадил его на стул.
— В искусстве я не смыслю, — продолжал Акинф, держа в зубах задорно поднятую папироску, — и смыслить не желаю. Раз у людей избыток времени, потому что им нет нужды работать, то они скучают. Скука — мать развлечений, а искусство — развлечение. Как все, так и развлечение специализируется, и появляются специалисты–развлекатели: буффоны и шуты всех разновидностей. Они приобретают разные навыки и забавляют праздных и скучающих. И в украшенном лентами и орденами профессоре академии я узнаю пестрого шута. Человек, сделавший своею специальностью забаву других, в моих глазах — низменный человек. Мне кажется, что не только я, плебей, но и господа всадники и сенаторы не только в древнем мире, но и теперь, всегда немножко презирают мимов, флейтистов и других «мастеров потешного дела». Мастеровой дорвется до праздника, вылакает штоф, идет растерзанный и орет песню — развлекается. Купец вылакает дюжину шампанского, перебьет в первоклассном ресторане зеркала и морды половым — развлекается. Другие не так шумно, более тонко, но все то же, от скуки, тягостного труда или тягостного безделья. То, что общество тратит чертову уймищу денег на театры, музеи и пр. и пр., показывает, что в нем пропасть богатых тунеядцев. Это — один из позорных симптомов позорного распределения благ в обществе.
Акинф остановился и, сопя от негодования; стал крутить новую папиросу.
— Вы кончили? — спросила Елена.
— Нет, не кончил, — сказал Акинф сердито. — Ну, добро… — продолжал он, закуривая папиросу. — Развлекайтесь и тратьте то, что вам дано чужим трудом. А вы, «потешных дел мастера», развлекайте. Так нет! Каждому грибу хочется в своих глазах быть пальмой. Сидел вот я в тюрьме и в окно постоянно слышал разговор моих уголовных соседей. Проповедовал там все время старик, какой–то сектант, чудак: «Вы, говорит, воры, грех это!» Один отвечает: «А ты думаешь, вор не нужен? И вор, брат, нужен, тоже без вора–то не очень». — «А на что ж вора надо?» — «Стало быть, надо… виданное ли дело, чтобы без воров?.. Надо кому–нибудь и воровать». Настоящей теории тут не было, но чувствовалась жажда теории, которая бы оправдала и возвеличила вора. И без теорий он тоном глубочайшего убеждения утверждал, что надо кому–нибудь воровать. Ну, а у «потешных» — теорий через край. Наиболее невинная — теория служения искусству. Жонглирует тарелками и говорит: «Жонглерство есть искусство священное, и я ему всей душой служу». Помню, раз при мне квартальный с клоуном поссорился насчет бильярда: «Шут, говорит, полосатый!» А клоун ему: «Господин квартальный, клоун тоже артист». А я скажу: артист тоже клоун…
В комнате раздался шум и возгласы негодования.
— Вы его не злите, — густым и медленным басом сказал высокий рыжий господин в сюртуке, — а то он вам еще и не такого напарадоксит.
— Ежели Елене Дмитриевне угодно председательствовать, то пусть хранит порядок и молчание, — желчно заговорил Акинф, — хотя я того мнения, что охрана порядка не… не женское дело!
— Не бабье, Акинф? — спросил бас.
Елена Дмитриевна расхохоталась своим серебряным смехом и сказала:
— Ну, дальше, дальше, маленький холерик вы!
— Маленькая холера! — добродушно пустил бас при общем смехе.
— Я могу продолжать или не могу? — вызывающе спросил оратор.
— Да я же десять раз вас просила продолжать.
— А если художественная сия публика не желает слушать, с превеликим удовольствием могу кончить… Пусть тянут эстетическую канитель… — И, помолчав минуту, Акинф продолжал: — Это наиболее невинно, ежели танцовщица, оперный горлодер или изобразитель солнечных бликов на зеленой крыше, служа искусству разнообразно развлекать, считает это искусство самодовлеющим и в себе целью. Почему же бедному клоуну не думать, что он — артист, а раз артист, то и нечто важное, ибо надо кому–нибудь, непременно надо кому–нибудь и артистом быть. Но мало им! Мы, говорят, милость к падшим призываем,9 мы раскрываем неправду жизни, проливаем свет, учим любви! А, черт раздери! Врете–с… Положительно, врете–с, хотя иные из вас и бессознательно. Толстому брюху и тоненьким нервам надо разнообразия! Раздушенная дама хочет видеть воочию, как бунтуют с голода ткачи с ввалившимися глазами, им хочется ультранатурализма, миазмов со «дна»!10 И они поговорят, даже иной раз поплачут. О, бедные братья наши ткачи! Уроним «на дно» слезу и гривенник милостыни. Это милости призывают! Дама приятная во всех отношениях говорит: «Поэт доказал нам, что в рубище почтенна добродетель».11 А дама просто приятная отвечает: «В сущности мы все — братья». Я вот репетировал идиотика у одной дамы, впрочем, во всех отношениях неприятной, так она приходит ко мне отдать десять рублей за пятнадцать часов каторги с ее болванчиком и говорит: «Ах, молодой человек… читаю Горького… Ах, эти босяки! Это — новый мир… Что значит искусство: ведь вот не заговорила же бы я с босяком, потому что страшно, и, благодаря Горькому, для меня открыта эта глубоко интересная душа. Он меня поразил… Мне даже снилось, будто я Мальва и будто бы все вокруг босяки, босяки, влюбленные, свирепые, цельные натуры, богатые такие»… Я, ей–ей, не преувеличиваю. Тогда разозлился я, а теперь смешно. Потом вот еще бичуют они современное общество. Он–то, Золя–то какой–нибудь, может быть, и от души хлещет, но как же он не поймет, что, значит, эта порка богатым приятна! — иначе как бы это он за нее, за многотомную и многообразную порку буржуазии, миллионы гонорара получил? Не углекопы же ведь, в самом деле, на сотни тысяч желтеньких книжечек по три с полтиной франка раскупают? И как я вспомню этих художественных бичевальщиков мамоны, так вспомню и того генерала, который крестьянским девкам по империалу платил за то, чтобы они его выдрали. — Акинф победоносно сделал паузу и продолжал: — Вся граждански–художественная канитель — вздор, читают ее те, кого она все равно ни на что не подвигнет, а те, кто может горю помочь, сами от него страждущие и не читают, да и не нуждается Ванька–пустоед, чтобы барин–писатель ему объяснил, что он дюже голоден. А отчего голоден? Это объяснять надо простецки. И как оглянешься вокруг, то и видишь, что не время бряцать, а надо в набат бить, а чтобы бить в набат, не надо быть художником! Пожалуй, что я и кончил.
Начавшийся было шум был сразу же прекращен энергичными мерами Елены Дмитриевны.
— Нет, нет, господа, не надо возобновлять хаос. Сделайте милость, имейте терпение. Я думаю, Борис Борисович имеет многое возразить нашему вандалу.
— Председатель недостаточно беспристрастен, — оказала с улыбкой высокая пожилая женщина со стрижеными волосами и худым лицом немного восточного типа.
Между тем Борис Борисович, медленно и задумчиво потирая руки, подошел к освещенному лампой столу. Это был человек очень небольшого роста, с красивым, но несколько мелким лицом, обрамленным прекрасными, черными кудрями и бородкой, как у Спасителя на иконах. Впрочем, очки и острые, быстрые глаза лишали его всякого сходства со Спасителем. Говорил он несколько торопливо и чуть–чуть заикаясь, но эти недостатки были заметны лишь вначале, по мере того, как быстрая речь его разгорячалась, он овладевал общим вниманием и начал волновать как настоящий опытный оратор.
— Акинф был односторонен. Нам как–то раньше не приходилось с тобою, Акинф, об этом говорить, — начал Борис Борисович, глядя на нахохлившегося юношу. — Мы с Акинфом почти во всем сходимся, но по этому вопросу, кажется, мы почти антиподы. Боюсь отнять у вас, господа, слишком много времени, иначе я…
— Времени у нас много, потому что еще только половина десятого, — перебила его Елена, — говорите со всяческой подробностью, все будут только рады.
— Я думаю, что искусство и в происхождении своем и в развитии двояко, хотя два искусства, о которых я говорю, переплетались… Первый корень искусства — игра. Если бы даже игра, развлечение, потеха, как говорил Акинф, была только препровождением времени и лекарством от скуки, то и тогда это была бы почтенная вещь. Лекарство — вещь почтенная, хотя болезнь — вещь неприятная. Раз есть недуг, — необходимо и врачевание. Скука — тоже недуг, и на врачей от скуки так же малозаконно распространять неприятный оттенок, свойственный ей, как и на врачей в собственном смысле слова. Акинф хочет сказать мне, что «болезнь — вещь фатальная, а скука — болезнь праздных»… — Акинф утвердительно качнул головой. — Но, это, очевидно, неверно: песню и пляску, расписанную посуду и вышитую или ярко окрашенную одежду найдешь и среди самого трудового люда. Да и сам Акинф, помнится, сказал, что развлечение нужно также и от тяжкого труда. Так что, если бы искусство имело целью лишь развлекать от скуки или тягости труда, то и тогда оно было бы вещью почтенной. Но искусство–игра имеет не одно это значение. Щепок играет в охоту не потому, что скучает или много трудился: оп растит свои члены, он расходует их энергию, чтобы упражнением их, свободным упражнением, способствовать их росту и гибкости. И что делает щенок, то делало юное человечество. И теперь делает: упражняет тело и душу. Искусство и всякая благородная игра, все это — спорт, гимнастика, в высшем смысле слова. Жизнь, действительность, с ее разделением труда и разными необходимостями, сделала бы человека весьма односторонним, и в нем замерло бы многое, что в том или другом случае ему очень может понадобиться. Дикие племена буквально играют в войну в мирное время и таким образом упражняются. Искусство заставляет в нас жить и функционировать т:. — кие колесики психики и тела, которые заржавели бы от безделья иначе, так как действительность будней к ним не прикасается, до них не доходит. Пожалуй, что нынешнее искусство, неясно понимая эту задачу, не вполне ее выполняет. Но идея искусства–игры, как мне кажется, именно такова, и идея эта важная и высокая. Девочка баюкает куклу, завернутую в тряпку, растит нежность своего сердечка, это — воображаемое дитя ее. Юноша прослезился над судьбою никогда не существовавшей, вероятно, Сони Мармеладовой, — он навыкнет страдать за униженных и заступаться за них, когда придет его час. Но тут я уже вторгся в другую область… Мне лучше было выбрать иной пример, так как искусство Достоевского уже не есть искусство–игра, а искусство–дело, и очень серьезное. Искусство–игра происходит из игры ребенка и дикаря, всегда полуребенка, из полноты сил, просящихся наружу: творец тут дает волю тем элементам своего тела и мозга, работа которых не вызывается внешнею необходимостью, но внутреннею потребностью с упражнении, вследствие накопившейся, ищущей исхода энергии. Воспринимающий радуется рефлективно, потому что и у него начинают играть, я бы сказал, онемевшие было струнки. Искусство–дело имеет своим началом, как мне кажется, стремление убедить богов или людей. Речь человеческая, чтобы быть убедительной, должна быть образной и страстной, или, по крайней мере, желание убедить невольно порождает у художника слова, у какого–нибудь, допустим, умного старца на совете племени — повышение голоса, ритмичность речи и движений; в поисках за аргументами он приводит примеры, рассказывает мифы или прошлое, стараясь изображать их так, как если бы сейчас воочию видел их. И проповедь может производиться не словом только, устно и письменно, но скульптурой и живописью и музыкой, когда она сопровождает слово. Религия, мораль, политика пользовались искусством, находили в искусстве свое выражение. И это просто потому, что сильное чувство захватывает весь организм, все приводит в движение, через все пути бурно ищет выхода и равным образом через все пути ищет войти в душу убеждаемого. Великий проповедник — всегда художник, и истинно великий художник — всегда проповедник. В этом прав Лев Николаевич Толстой, хоть он, со свойственной ему аскетической узостью, вовсе осудил искусство–игру,12 и напрасно. Я, однако, согласен, что искусство–проповедь гораздо выше искусства–игры. Что проповедует человек? Самое важное, дорогое, до чего он додумался. И то, что проповедь поднялась до художественной, то есть оделась чувством и образами, свидетельствует об особой важности и святости проповедуемого в глазах проповедника. Искусство–игра есть очень приятная и полезная гимнастика, искусство–проповедь — проявление жизни в ее наивысшей напряженности. И в этом смысле христианин на арене цирка, эстетическим жестом дающий понять толпе, что он верен своему богу и не колеблясь приемлет смерть и страдание ради него, — в моих глазах великий актер. И если он хочет повлиять на толпу, он невольно в жесте своем примет во внимание условие расстояния и сделает его… сценичным. И я скажу, что истинно велик тот артист, который художественным приемом проповедует своего бога и умеет, соответственно своему художеству, и в действительности бороться и страдать за него с художественной цельностью, с красотою силы сосредоточенной и сознательной. — Борис Борисович выпил стоявший на столе стакан пива и продолжал среди общего внимания:
— Таким образом, высший род искусства есть искусство–проповедь. Но тут существуют градации. Я уже не говорю о проповеди неискренней, тем паче продажной. Будем говорить лишь о художественной исповеди заветной веры творца. Проповедовать можно разные вещи, — скажем, воздержание от курения, послушание родителям и всякий мелкий вздор… Можно проповедовать великое… Но где критерий для установления градации? Для меня он очевиден: нет идеи выше идеи единства рода человеческого, нет проповеди выше проповеди объединения человечества на началах братского сотрудничества для счастья и развития всего целого и каждого индивидуума. Таким образом, я обеими руками подписался бы под мнением Льва Николаевича, что хорошо искусство, которое объединяет людей, а дурно то, которое разъединяет;13 если же я не подписываюсь под этим мнением, если я, наоборот, горячо против него протестую, то это в силу следующего соображения. Искусство, разъединяющее людей, дурно; учреждения, их разъединяющие, еще хуже. Но учреждения поддерживаются людьми. Есть люди, группы и классы людей–разъединителей, лица и союзы, заинтересованные в разъединении людей. Кто хочет людей объединить — столкнется с ними, должен будет бороться с ними. Художник тоже. Как же бороться? На манер карася–идеалиста, произнося необыкновенно благородные слова: «Знаешь ли ты, мол, щука, что такое любовь? Справедливость?»14 Наивность подобного метода — вещь настолько очевидная, что смешно серьезно оспаривать его. И сам Лев Николаевич в искусстве такому методу отнюдь не следует. Неужели он думает служить чувству братского единения моего с тем спиритом–жандармом, который радуется, что заключенные становятся постепенно тихими, видит в этом доказательство того, что им хорошо?15 И вся вельможная клика в «Воскресении»? Разве после прочтения этих прекрасных страниц у вас готовы раскрыться объятия для этих расшитых золотом «братьев»? Великая любовь неотделима от великой ненависти. Это — старая аксиома. Перестанет она быть аксиомой лишь с исчезновением последнего эксплуататора на земле. Кто хочет служить любви на деле, а не на словах, тот придет к ненависти. Христос, символ любви, громил фарисеев словами гнева и гнал торгашей бичом. Поэтому высшее искусство имеет две формы: раскрытие единства в людях, искание человека во всех разновидностях людских, проповедь братства, сотрудничества, сострадания… И, с другой стороны, — проповедь гнева, для чего художник должен разоблачать и клеймить. Я всё старые вещи говорю. Но если старая мысль — верная мысль, и если в то же время об ее предмете все еще спорят, — что же вам остается, как не повторить старую мысль? И глубоко неправ ты и поверхностен, Акинф, когда смеешься над художником, призывающим милость и бичующим. Ты видишь одну только публику — буржуазию. Ты забыл интеллигенцию, Акинф; особенно же интеллигентную молодежь. Воспитывать ее: вышла ли она из недр народа, как я, например, Пономарев сын, или из барства, как ты, «сын генерала»… Нас надо было воспитать, и это делали не публицисты только, не историки и экономисты, но и великие писатели, беллетристы–проповедники. Подумав и вспомнив, ты не станешь этого отрицать…
— Стану, — угрюмо промолвил Акинф, — меня жизнь учила, денщик Гришка учил, отцова нагайка и ругань, истерики матери, раскровавленные рожи солдат.
— Перестань, ты это говоришь из упрямства. Разве не осветили тебе все это Щедрин, Успенский?
— Но не Гёте, и не Шекспир, и не Гомер… А Щедрин и Успенский — публицисты. И если бы прямо говорили, — лучше бы было.
— Голубчик Акинф, это — упрямство… О Гомере я тебе и не говорю. У нас теперь другие идеалы, другое время, и теперь и Гомер, и Шекспир, и Гёте скорее всего должны быть отнесены к почтенному, но низшему роду искусства–игры. Но утверждать, что проповедь Щедрина, Успенского, Достоевского…
— Терпеть не могу этого истеро–эпилептического ханжу. Весь он неискренний…
Елена вмешалась:
— Господа, это уже разговор, этого нельзя допустить. Продолжайте, Борис Борисович.
— Я, собственно, кончил. По старой легенде, афиняне послали поэта в помощь спартанским войскам,16 и я скажу — это славный был союзник. Армии любви и святого гнева нужны трубачи и барабанщики, которые вдохнули бы отвагу в душу бойцов, укрепили бы в них их любовь и гнев их, которые призывали бы и вербовали молодежь. Я согласен с Акинфом, что по нынешнему времени надо в набат бить… Но Акинф говорит, что для этого не надо быть художником, а я говорю — непременно надо. Всякий агитатор должен быть художником, как и всякий художник в сущности должен бы быть агитатором. Ведь мы бьем в набат не в колокол — в сердце человеческое, а это — тонкий музыкальный инструмент.
Борис Борисович кончил при аплодисментах части слушателей.
— Ну, теперь я буду говорить… Нет, Лена, дай мне говорить… Должна же ты оказать протекцию мужу… У меня язык чешется! — Так говорил хозяин комнаты, Лев Петрович Скобелев, живописец. Это был красивый малый, с веселым лицом, освещенным парой чудесных синих глаз. Одет он был не по–русски: в плисовый толстый полосатый костюм, какой носят иные молодые художники в Париже. Ворот его рубахи был расстегнут, и видна была его красивая сильная грудь. Он сел на край стола и, не дожидаясь разрешения жены, стал говорить:
— Спасибо вам, Борис Борисович, за место трубача в вашей армии… Позволю себе дерзость, однако, отказаться. Скажу вам, любезный друг, что вы о душе художника понятия не имеете. Греха не утаишь, есть среди нас такие, которые заставляют искусство служить идее, а не наоборот. Но это испорченные гражданским призывом художники. Если они создают что–либо красивое, так вопреки идее; Гейне говорил о Рубенсе, что он поднялся в небо, несмотря на то что к ногам его привешено сто кило голландского сыра.17 Так и иные передвижники поднялись высоко, хотя они и взяли на себя грех вашего мира… Но грех этот, излюбленная Борисом Борисовичем «проповедь», как ядро каторжника тянет их ногу, и как бы вздохнул всякий, если бы больная гражданскою болезнью совесть позволила ему отшвырнуть кандалы. Крамской, бедняга, мечтал об этом. Полотно должно быть красиво, — говорит он в письме к приятелю, — идеи, треволнения минуют, красота останется. Правнук пройдет равнодушно мимо исторических документов и восхищенный остановится перед красивым полотном.18 Впрочем, к черту правнука!
— Стойте! — возопил вдруг молодой человек в изящном черном костюме и пенсне в широкой черной раме на широкой черной ленточке. — Я не могу больше… пиво, дым… эти идеи… Бога ради, отворите окно… — И он схватился за лоб.
— Окно выходит в сад… Ужасно глупо, что раньше не догадались, — промолвила Елена Дмитриевна, открывая окно. — Продолжай, Лева.
— Я говорю: к черту правнука! Искусство и перед правнуками головы не клонит. Вы, может быть, воображаете, что я вам какую–нибудь метафизическую чертовщину разовью… Не бойтесь!..
— Нет, развейте им метафизическую чертовщину! — с волнением вскочил траурный молодой человек. — Вы, автор «душистой ветки сирени», это можете… дайте этим людям мгновения — метафизическую чертовщину… Луна освещает сад, в нем сирень… Дым уплыл в окно… Уже чувствуется аромат… Дайте, дайте им метафизическую чертовщину… Вы — художник!
Наступила минута неловкого молчания.
— Это я уже предоставляю вам… — сказал Скобелев.
— Хорошо! — сорвался с места траурный. — Господа… Я здесь в значительной степени не свой…
— Нет, нет, погодите! — с неудовольствием прервала Елена траурного. — Дойдет черед и до вас… Лева еще не кончил.
— Всепокорнейше прошу извинения, — сказал тот, потом, схватившись за лоб, постоял с полминуты и медленно опустился на стул, а Лев Петрович продолжал так:
— Я совсем не метафизик. Говорят, теория искусства для искусства. Я — не сторонник этой теории, потому что вообще не интересуюсь никакими теориями. Но… вот, — слышите?.. — птица поет!.. Вот вам художник. Сердцу любится, грудь дышит высоко… Идешь, смеющимися глазами глядишь вокруг себя… Смотришь — сирень раскинулась в одном месте, да как же пышно! Листьев почти нет, а облака этакие, тучи яркоцветные… Ух, как музыка какая, вся гамма этих пятен в глаза ударила, в сердце откликнулась, запела… А солнце золотит, золотит, золотит! В обалдении сладком и зеваешь на красавицу свою сирень, на милую… А потом думаешь, молишься, могу сказать: «Дайся, расчудесная, дайся мне, бедняге». И начнутся муки, начнешь рожать эскизы… Но вот не то все, а вот что–то уж есть! Мучишься и торжествуешь… Кончил этюд, и горько тебе, и хорошо…
— А за забором сада раздается звон пощечины: то городовой лупит пьяного мастерового, — выпалил Акинф…
— Ежели увижу, что лупит, самого палкой съезжу… Бывало подобное… Но ежемгновенно помнить, что где–нибудь кто–нибудь кого–нибудь лупит, и не могу и не хочу. Жить хочу, писать хочу. Жизнь хороша, должна быть хороша. Верьте богу, да и товарищи знают, кликните — прибегу… Пойду на улицу, когда нужно будет, и не последним… не трус! Но пока живу: ох, солнышко милое, вода–матушка многоцветная… Ведь сам художник всегда свободен… Посадите соловья в клетку — сам он телом пленен, допустим, а песнь его свободная — летит!
— Конечно, чижики и канарейки и в клетке свободны, а каково–то в ней орлу, — сказал Акинф, осклабившись.
— Никакими уязвлениями меня не уязвите, и мне не раз докажете, что худо любить свет и краски и писать их… Так я создан… Ни умирать не хочу, ни меняться, а хочу жить художником. И знаю, — не только свет, краски, но и душа человеческая — объект художника. Иной раз и мне удается. Вот девочка с собакой громадной играла… Присядет, личенко свое сморщит хитро–прехитро и между ножонками мяч прячет… А пес головой к земле приникнет и глядит, и его песьи глаза и те смеются… Вдруг крикнет девчурка торжественно и подбросит мяч, и хохочет, и хохочет, а пес гавкнет и пустится за мячом… И в тот момент, как бросить ей мяч, чего нет у нее на личике! — и страх какой–то, и ожидание, и решимость, и радость… Я этюдов наделал с этой игры.
— А потом девочка–то эта мячом в окно попала к полковнице Глебовой, и мамаша девочки ей уши оборвала… Ты почему этюдов не сделал? — прервал Акинф. — Чего–чего не было на лице старой полковницы, когда она орала в окно, на лице матери, злой, болезненной и низкопоклонной, когда она, в самозабвении злобы желчной бабы, рвала уши девочке.
— Я не видал…
— А был, брат, сюжет.
— Ты все каркаешь мне под руку. Но светит солнце, и живет искусство. И трубим мы, как соловей поет, а что из этого выходит — не наше дело. Могу быть гражданином и должен им быть, но то — другое отделение и с отдельным входом.
— Большую квартиру занимаешь. А у нашего брата в сердце — одна комнатенка: тут спим, тут едим, тут работаем.
— Вы можете осуждать меня, — ответил Скобелев, — но я вам скажу: невзгоды пройдут, и в вашем искусстве, в воинственном или жалостливом, не будет уже надобности, и в людях, полных сострадания и с головою ушедших в борьбу, тоже не будет надобности. Но жизнь будет роскошная, и «красивое полотно» станет важным и великим делом… И прекрасные картины понесут в триумфе, как в старой Флоренции… Событием дня будет то, что великий художник такой–то нарисовал вечную зарю на вечном море и вечного юношу, вечно любующегося ими.
— Вы кончили хорошо! — воскликнул юноша в черном костюме.
— Прежде чем продолжать наш диспут, надо знать, сколько еще осталось мнений и ораторов, — заявил бас, — и потом не давать Акинфу ежесекундно показывать зубы.
— А вы заранее хотите оградить себя от него! — засмеялся Скобелев. — Ах, господа, как они в первый раз вцепились друг в друга, когда встретились.
— Еще бы! — буркнул Акинф. — Бориса называют доктринером, но Наум Викторович, это — ходячая доктрина. Я не знаю более холодных фанатиков, чем марксисты.
— Ну, знаете, если уж этот господин, — воскликнул в искреннем порыве траурный, — называет кого–нибудь фанатиком, то что же это должно быть! Вы сам фанатик ужасный! Торжество таких людей, как вы, повело бы за собою крушение культуры.
— И к черту, ваша культура — другое название для паразитизма и тунеядства. Когда арестант моет мылом голову, — вши вопиют, что он разрушает культуру.
— Фи! фи! — воскликнула Елена.
— Вот вам и фи! Человеческую вошь надо называть по имени… и она гораздо хуже, чем насекомая вошь…
— Что наша культура — отрицательная величина, — торопясь и нервничая, возразил траурный, — это так, но совсем не с той стороны — во–первых, а во–вторых, есть и положительное в ней, ибо зародыш–то истинный в ней есть, и в общем культурный человек скорее может постичь и успокоиться на лоне всепечальности, нежели некультурный. Культура в общем и целом все–таки подтачивает жизнь, что бы вы ни утверждали.
Акинф не понимал.
— Так вы за что культуру хвалите? За то, что она жизнь подтачивает, так, что ли?
— Именно… Я прошу позволения объясниться.
— Пожалуйста, — сказала Елена.
— Я не о культуре хочу… я об искусстве… — заторопился новый оратор, — но и обо всем… И ведь все — одно, в этом я с вами согласен… Вы, наверное, монист?.. Я также монист… То есть я — дуалист, но вместе с тем монист… как Фихте, но с другой стороны… Вот я сейчас объясню… Я все вам, господа, объясню… Но без того, что вы называете «чертовщиной», я не могу… И вы не можете… «Чертовщина» глядит в окно, или, если вы выглянете в любое окно жизни, из нее наружу, увидите всякую «чертовщину»… Но, допустим, вы не выглядываете, а прикурнули дома, в обстановке знакомых и взвешенных вещей, где разлит свет позитивистской лампы… Вы сидите, и вот под столом тень; это — «чертовщина». И всюду, всюду… Одна сторона освещена лампой и понятна, но другая остается в тени «чертовщины»… Она всюду, стоокая, глядит… Я говорю о метафизическом.
— Надо две лампы, с обеих сторон! — возгласил неугомонный Акинф.
— Именно… Вы говорите — две. Я скажу, первоначально «-пусть две, лампа познания научного и лампа касания духовного. Но уже если горит вторая лампа, то расступились стены моей берложки, и уже бесконечная «чертовщина» разлилась вокруг, и я уже лечу в океан «чертовщины» с аладиновой лампой 19 в руках, и ту другую, — керосиновую, кухонную, позитивную, — можно хоть и погасить.
— Здорово, — сказал Акинф. — Это я понимаю… Мракобесие, значит.
— Нет… я не мракобес! — взволновался юноша. — Я, господа, здесь не свой… Это правда. Я — художник и гадатель; говорю гадатель, а не мыслитель, сознательно… Я сочувствую попыткам Николая Бердяева и Сергея Булгакова 20 слить вечное с земным через прогрессивный конец земного… Но и слияние с вечностью через задний конец, через Китай, через Византию мне не противно. Но я более прогрессист, чем вы все, ибо вы все хотите двигаться в пределах жизни, а я зову вон из нее. А какою дверью — это мне безразлично. И китайское Дао,21 и некоторые монахи Афона, и гиперкультурные Гюисмансы подходят к дверям… Дверей, я думаю, много… А подойдя к дверям, уже слышишь, как молчит настоящее! Потому что настоящее, господа, молчит.
— Это бред какой–то! — воскликнул пылкий юноша.
— Я постараюсь быть систематичнее, — произнес траурный юноша и некоторое время стоял молча, держась за лоб. — Да! — воскликнул он наконец. — Я начну хотя бы с Фихте… Начать можно с чего угодно. Я, кажется, уже сказал, что я монодуалист на манер Фихте, но как раз, однако, наоборот… Господа… вы смеетесь: это не смешно… Фихте в сущности — монист, ибо ничего, кроме духа, кроме трансцендентного «я», он не признает. В сущности, один дух есть бытие, дух же есть, по Фихте, начало действенное, насквозь активное… Однако Фихте неожиданно ограничивает его небытием, признавая, таким образом, бытие небытия, и абсолютно пассивное небытие он делает активным постольку, поскольку у него стукается о него, о «не–я», единосущее «я». Я тоже признаю, что сущее едино и неизменно, и тоже признаю, что оно ограничено отрицанием себя, абсолютным «нет». Но тут я приближаюсь к Пармениду.22 Сущее неизменно, оно молчит. Это молчание — нечто, всегда себе равное. Великое молчание. Шопенгауэр признавал его, вслед за Буддой, целью, идеалом. Я вместе с Парменидом признаю молчание сутью вещей, единственным, что действительно существует. Что же его ограничивает? — Движение, господа, суета! Суета, движение не есть бытие или воля, как думал Шопенгауэр. Они — ничто! не улыбайтесь, господа! Движение, перемена не есть бытие, ибо быть значит пребывать, а это — становление, ein Werden, но то, что становится, was wird, никогда не равно себе самому, ни в одно мгновение не пребывает, то есть ничто в нем не пребывает, значит, ничего в нем нет, все в нем течет, стало быть, все вечно умирает… Но и умирать может лишь то, что существовало раньше, а в движении, в суете, в мире князя мира сего — все умирает, не успев родиться. Гераклит прав: бытие — вещь кажущаяся. Мы — пламя, ежемгновенно мы — другое, прежние мы уже отлетели в ничто, мы все время уходим в ничто, только иллюзия формы обманывает нас, и мы думаем, что все существует. На деле ничто не существует, кроме молчания. Но я взял слово, молчание лишь временно. Я долго ломал голову, чтобы назвать вечное. Присмотревшись, я назвал его в один тихий вечер, я ему сказал: ты — печальность. Да, это — печальность. В мире идет борьба между резиньяцией, контемпляцией * и наслаждением. Наслаждение есть иллюзия воли, плоды и вода Тантала, мы бежим за ними и сами толкаем их вперед, как человек, несущий фонарь на палке перед собою, бежит и потому не существует. Если же единство формы существует, то это потому, что печальность, созерцание, самоотрицание уже охладило тоненькую корочку лавы. Вы меня понимаете? Существует вполне только то, что вполне погружено в печальность. Существует временно то, что формально и по возможности только формально, то есть неподвижно и хотя с виду равно себе. Движущееся же, горячее, страстное, жаждущее, царство сего мира — вовсе не бытие, а пламя и тени Сансары.23 Вы меня понимаете? Если искусство служит голоду, какому бы то ни было, удовлетворяет (мнимо удовлетворяет) или разжигает желание, — оно дурно. Согласны в этом и Кант и Шопенгауэр и… многие другие. Высшее искусство — оледеневающее, в белый неподвижный мрамор обращающее. Искусство прикоснулось, — движение замерло. И, долго глядя на Юпитера, можно уже ощутить немного печальности… Но наивысшее искусство — искусство печальности, искусство, которое разными средствами приводит нас к забвению себя, усыпляет…
* созерцание(лат.). — Ред.
— То есть как же это? Скучное, что ли? — спросил Акинф.
— Нет же, нет… Скучное искусство раздражает… И если усыпляет, то чисто физиологически. Физиологический сон, это — момент в Сансаре: это храп, пот, раскрытый рот — гадость. Я же говорю о метафизическом усыплении, когда чувства времени нет. Неужели не испытали, господа? О, как бы это было жалко! — с искренним порывом сказал декадент. — Это чудно… Это не небытие… напротив, вершина его, чистое бытие, вневременное… Художник должен давать нам такие моменты. Художник, который в нас, в каждом из нас, тоже помогает нам. Море плещется и шумит, это движение молекул вод, которые сами суть, так сказать, мерцательное движение, скопища электронов, словом, то нечто, которое называют материей… Хотели поймать атом, но он расплылся… Материалист, который сидел на атоме, как на «rocher de bronze»,* полетел в бесконечность. Но я сейчас не о том… Я говорю: море ли, заря ли, — все это части лжебытия. Но сидите вы перед ними, как вот красиво сказал господин Скобелев… Я уже не помню… И море ушло, и заря ушла… Художник в вашем сердце претворил их в печальность. Она одна встала перед вами с большими византийскими глазами, глянула и ушла…
* на бронзовой скале(франц.). — Ред.
Беретесь за часы: батюшки, вы семь часов просидели на месте… Монах Олаф из монастыря возле Карлскроны 24 не верил, что в раю вечно наслаждаются без утомления. И в одно утро, когда он гулял по роще, слетела к нему птичка из рая и стала петь… И слушал монах… А седая борода росла, волосы падали, морщины бороздили лицо, тело высыхало… Птичка вспорхнула и улетела. Задумчиво добрел он до монастыря, но никто не знал его там, — много лет пронеслось над землею. Этому–то и должен служить художник. Я — пианист, господа, но когда музыка пляшет и машет — она дурна; когда она сверкает холодной чистой формой — хороша; когда берет вас на опаловые крылья и несет прочь от земли и от звезд… — божественна. Не прав Шопенгауэр, говоря, что тут чистая воля нашла выражение. Воля есть все же зло. Нет! Тут нашла выражение первопечальность мира. Конечно, музыка как будто модулирует, играет, меняется, но уже это дополняет художник в нашем сердце: он химически претворяет звуки, и в сердце уже не звуки вьются и напевают, а одну вечную ноту тянет торжественная печальность. Не печаль. Печаль — это человеческое чувство. Печальность. Я хочу этим сказать, что это нечто объективное. Вы станете спорить. Но как можно, как же можно спорить?.. Вон луна посеребрила листья, ветерок вздыхает… И она растет уже во мне, и я мог бы пойти туда, к окну, и сесть, опустив голову на локоть… Выросли бы аккорды, стали бы баюкать, волна взяла бы меня вдруг, взяла бы, и не стало бы больше того меня, который не есть, а все становится и умирает, а на место мое воцарилась бы самосозерцающая печаль. И она победит, она победит и культурно–исторически, ибо, утончая нервы человека, прогресс толкает его тихонько к дверям. Она победит и всемирно–исторически путем равномерного распределения теплоты. Тогда будет молчание. Лучшая из песен, высшая из гармоний. А жадное, грязное, полнокровное, подвижное, все это, что кричит, хочет — согласитесь же — ведь это гадость! Все это сплошь гримасы, гримасы… конвульсии. Есть музыка, под которую хочется танцевать, — это скрипка дьявола. Когда же ангелы касаются своей лютни, — все замирает. Камни построились в здания под песнь Орфея. Думаю, будет иначе. По мере того как поет Орфей, здания тихо распадаются на камни, камни на молекулы, все расплывается, солнце, луна, земля и небо — все распадается, тает в единое вечное. Даже и ледяные художественные мраморы, в которых дух спасался от движения, растают, но не для того, чтобы течь, а для того, чтобы замлеть в незримых парах, в музыке беззвучия… — Декадент говорил тихо и торжественно, как чающий и верующий, и странно раздался среди наступившей на мгновение тишины резкий голос Акинфа:
— Если что гримаса… конвульсия, — так это взятая вами на себя роль… Можно ли внушить себе такой вздор!
Декадент вздрогнул и живо возразил:
— Не роль… не поза. Декадентство — модное, все еще модное словечко… Многие татуируются под декадента, я же говорю, что чувствую.
— Конечно, как не быть и нутряным… — пробасил рыжий господин в сюртуке.
— Господа! не сделать ли маленький перерыв? — спросила Елена. — Кто еще будет говорить об искусстве?
Рыжий, Наум Викторович Португэз, подошел к пожилой женщине с короткими волосами, и они пошептались о чем–то.
— Я еще и вот Полина Александровна…
— О, ужас! — воскликнул Акинф. — Два марксиста! Не знаю Полину Александровну, но если она похожа на Наума Викторовича, то мы увянем, как розы под градом статистики…
— Какой статистики? — спросил Португэз.
— Разве может марксист без статистики?
— Вздор! — спокойным басом сказал Португэз.
— Нет, мы сегодня без статистики, — подтвердила Полина.
— Стало быть, два оратора, — сказала Елена Дмитриевна, — да, наверное, будут общие дебаты. Предлагаю перерыв. И, может быть, Эрлих нам что–нибудь сыграет.
Все охотно согласились. После пары отказов и ссылок на головную боль, Эрлих, декадент, который только что воспевал печальность, — сел за рояль.
Он играл очень хорошо. Это была странная фантазия. Буря торопливых звуков неслась по комнате. Звуки обгоняли один другого, ноты вскрикивали, падали, поднимались, торжествующе хохотали, грозно гремели и дико стенали…
— Музыка облагораживает море житейское… Но приблизительно, — тихо сказал Эрлих сидевшей возле него Елене. — А вот тихий романс, — прибавил он.
И грохот и кипение борьбы сменились простым–простым романсом. Но такой он был мягкий, задумчивый…
— Сижу я у себя в комнате и наигрываю, — шептал Эрлих, — и вдруг раскрывается стена, и кто–то белый, огромный идет по земле… огромный… и поднимает белую руку, закутанную… и гасит, гасит звезды. Люди снят и не видят, думаю я… Но нет… Где протянулся белый шлейф, там все умерло… За фигурой уже ничего нет… все там молчит… И мне страшно!.. Мрачный, грозящий раздавить, растущий марш прерывается короткими вскриками ужаса… Исполинская фигура все ближе… Погасила звездочку моей жизни над кровлей моего дома… Наступила. Все покрылось мглой, молочной, туманной. И вдруг… так хорошо, хорошо… Я замираю… замираю сладко, в неге, в тепле… Как хорошо.
— Лампа гаснет, — сказал Акинф.
В лампу налили керосина, она снова ярко загорелась, и слово получил Наум Викторович Португэз.
Большой, с добрым лицом, обросшим рыжей бородой, в очках, он стал посреди комнаты и начал говорить своим спокойным басом. Бросался в глаза контраст между ним, уверенным и здоровым, и остальной нервной, надорванной публикой.
— Предмет, господа мои, обширнейший. Эскизов я не люблю. Но вынужден дать эскиз. Взгляд и нечто. Впрочем, все предшественники давали взгляд и нечто. Я потому и беру слово, что предшествующие ораторы дают довольно любопытный материал. Искусство, господа мои, как это очевидно, есть продуцирование благ определенного рода, вид промышленности вообще или, вернее, еще часть общего человеческого хозяйства… Не имею времени остановиться на сходствах и различиях художественных произведений с ремесленными. Но кто же станет спорить, будто искусство не развивалось в самой тесной связи с ремеслом! Для развития музыки, живописи, скульптуры и архитектуры необходимо развитие техники, так как по форме своей все это роды техники: тут изобретаются и развиваются орудия, соответственно общим законам. Более или менее высокое развитие ремесленной техники совершенно необходимо для процветания искусства. Выделение художника–специалиста предполагает вообще высокую степень разделения труда. Первоначально существовали лишь художники–дилетанты: человек мастерил копья или горшок и украшал их, не отдавая себе точного отчета в том, что тут необходимость и что фантазия; ибо и то и другое в творчестве индивидуума, весьма слабо выделяющегося на теле общины, может лишь чуть–чуть варьировать традиционную форму. Пение и танец первоначально — целиком дело общинного творчества. Эти искусства весьма почитались и являлись первыми праздниками и обрядами рядом с жертвоприношениями, воспитывая и укрепляя то единство общинной психологии, которое ей было так необходимо в постоянной борьбе за жизнь. Но довольно рано стала выделяться и индивидуальная песня. Рассказ о старине или выражение чувства по поводу какого–либо торжества в личной жизни, особенно свадьбы или похорон. И тут специалист мог выделиться лишь тогда, когда хозяйство стало давать избытки. Но что то были за специалисты? И Гомер, и кобзарь Малороссии, и певцы всех народов в седую старину были старцы, слепцы, народ нерабочий. Они–то и специализировались на выдумывании и запоминании песен, которые передавали ученикам, таким же бессчастным калекам. Печально было начало индивидуальной поэзии. Насколько поздно специализировались изобразительные искусства, видно из того, что лишь в конце тринадцатого века во Флоренции, например, цех скульпторов отделился от строительных рабочих–каменщиков, а живописцы раскланялись с малярами и красильщиками. Но и вообще никакой пропасти между ремесленником и художником не существовало во все время Ренессанса. Очень трудно сказать: ремесленник или художник — золотых дел мастер, ковровщик, оружейник? Мыслим ли во всем Возрождении оружейник не–художник? А все художники знали по нескольку ремесел. Я склонен думать на основании многих данных, что такое явление имело место в цветущую эпоху греческого искусства. О римском периоде и Средних веках нечего и говорить. Художник тогда был просто мастеровым человеком, более или менее квалифицированным хозяином ремесленного заведения, в римскую эпоху — сплошь и рядом рабом. Уже из всего вышесказанного следует, что искусство растет и падает, естественно, с ростом и падением ремесла вообще. Всякое великое искусство — дитя не менее великого ремесла. Эллинский классицизм, готика, Ренесванс были эпохами великого ремесла. Их надо полюбить не только в Фидиях, но и в вазах, какие употребляли за столом в средней руки семействе афинском; не только в Кельнском соборе, но и в переплете монастырского манускрипта; не только в Рафаэле Преображения, но и в Рафаэле, расписавшем гротесками и арабесками лоджии Ватикана.25 Для существования великого искусства технически необходим, таким образом, широко развитой ручной труд. Понятно, что для Моррисов и Рескиных вопрос о возрождении вкуса и искусства тесно связан с вопросом о вытеснении фабрик, машины ремесленниками. Но здравомыслящий экономист не может допустить возможности такого явления. Более чем возможно то, что фабрично–заводский труд мало–помалу, в особенности в рамках грядущего коллективизма, совсем потеряет характер физического труда и превратится в операцию чисто умственную, ограничится лишь внимательным наблюдением за функциями механизмов. В этом случае гармоничное развитие человека предъявит требования, которые, вероятно, будут удовлетворяться разного рода изящным и укрепляющим спортом, а также практикой художественного ремесла. В круг образовательных предметов войдет то или другое художество, смотря по наклонностям ребенка. Тогда мы можем ждать опять великого, и еще неслыханно великого, искусства, которое вновь со всех сторон обнимет человека: на площади и дома… Фабрика в массах и дешево доставит полуфабрикаты, и все население, вольные ремесленники, будет отделывать их свободно, капризно–прихотливо… Я склонен буду с изысканным вкусом…
— Гм! что? — громко сказал Акинф.
— С изысканным вкусом, — продолжал, улыбаясь, Португэз, — переплетать книги и доставлять эти художественные вещи в муниципальный музей, откуда их сможет брать любой товарищ, которому они понравятся, а сам я из того же музея возьму художественные вещи, мне по вкусу, для моего обихода.
— Какая утопия! — грустно качнув головою, промолвил Эрлих.
— Гобсон приблизительно так примиряет коллективизм и художественное ремесло.26 К нему присоединяется бельгийский социалист Дестре,27 и я, вообще, не вижу причин, почему бы этому не осуществиться… Но оставим то, что вы называете утопиями. Скажу лишь, что современный художник оторвался от ремесла; мы живем все — богатые еще больше, чем бедные — в грубой и отвратительной обстановке; поэтому–то наша художественная культура не цельная, не стильная, а пестрая и, в конце концов, варварская… Так, по крайней мере, утверждают единогласно все крупнейшие эстетические дарования наших дней: Рескин, Уайльд, Мопассан, Ницше, Моррис и целый ряд меньших величия. Современная художественная техника крикливая, неуравновешенная, ищущая… и, что бы там ни говорили, ищущая не столько красоты, сколько новизны и эффекта… И все это не потому только, что под изобразительным искусством нет прочной опоры в виде проникшего во все поры жизни художественного ремесла, но и потому, что художник производит теперь не только не по заказу живой и энергичной, по духу своему родной ему общины, но даже не по заказу мецената, а просто на безыменный базар. И базарное искусство задает тон.
— Это, конечно… отчасти так… — согласился Скобелев.
— Вообще, художник работает всею душою, когда чувствует связь между собою и своим творчеством и такой великой, глубоко им любимой и почитаемой единицей, как, например, родной его город. И я скажу вам: потому до сих пор великое искусство было всегда… так сказать, муниципальным, общегородским. Великий город, крупная, полная сил и, непременно, более или менее демократическая городская община — вот кто был великим художником. Города Ионии, Афины, германские свободные общины, Милан, Флоренция, Сиена, Пиза… И все, заметьте, в эпоху относительной свободы, вернее, борьбы. Пока аристократия, тираны и демос бьются между собою, уравновешивая друг друга, и каждый элемент все еще, однако, ставит выше всего благо родного города, — до тех пор живет великое вдохновенное искусство. Потом следует время меценатов, отдельных богачей–заказчиков. Художники–эпигоны берут прекрасные формы, живо выражавшие идеалы свободной общины, и, путем эклектизма или экстравагантностей и преувеличений придавая им пикантность, ведут их к неизбежному декадансу. Только в атмосфере свободы и борьбы, с одной стороны, более или менее демократического единства — с другой, может народ выдвигать из среды своей столько славных, уверенно выражающих суть данной культуры, ее устои и цель, создающих таким образом стиль. Сейчас мы не имеем ничего подобного. Храм и базилика, собор и ратуша — вот живые средоточия живого искусства старины. А теперь? Музей — славное кладбище прошлого и… выставки… пестрый, оскорбительнейший базар, от которого голова кругом идет. Только тогда, когда свободный народ начнет воздвигать вновь колоссальные общественные здания: ратуши, кооперативы, клубы, театры, которые бы вмещали десятки тысяч голов и являлись бы культурными центрами, — только тогда возродится величественное искусство и выработается стиль. Искусство демократично, господа мои. Конечно, аристократия, меньшинство, строила или приказала строить Santa Maria del Fiore 28 и Парфенон, но это меньшинство строило их, чтобы угодить массам, чтобы доказать им силу и славу города и оправдать свое господство. Когда же аристократия перестает выражать тенденции прогресса, а уже противится им, когда, вообще, началось разложение, она начинает украшать свое жилье сладострастными или экстравагантными образами, окружает свою персону варварской пышностью, а ежели и захочет построить что–нибудь колоссальное, то это выходит у нее чудовищно и безумно. Это несколько штрихов относительно техники общего, высшего размаха художественности. Теперь, также эскизно, относительно внутренней стороны, относительно идей и чувств, выражаемых искусством. Искусство отражает всегда идеи и чувства той или иной общественной группы, выражает миросозерцание того или иного класса. Я совсем опускаю изобразительное искусство восточных монархий. Там оно служило лишь для ослепляющего или ужасающего украшения дворцов и храмов, долженствовавших громадой своей раздавить свободную мысль и погрузить народы в трепет и благоговение. Жизнь сковывалась традицией, искусство — тоже. Узость идей и чувств поразительная: величие царя, его строгий суд, его богатство и победы, и все в этом же роде, и все в виде преувеличенного дифирамба. Боги — такие же пугающие повелители. Собирая в одни руки чудовищные богатства, монархии древности могли, конечно, громоздить огромное и придать своей пышности умопомрачительный характер, но свободного творчества и глубины чувства и мысли, изящества формы нечего искать среди варварского великолепия. Господствующий класс, когда он здоров и молод, исторически законно ведет свой народ по пути прогресса; он уверен в себе и в своем правлении и, преследуя прежде всего свои интересы, именно в этих интересах до известной степени блюдет и интересы народа. Демократия, конечно, борется или ропщет, но ее идеалы в такие эпохи не имеют ярко выраженного своего собственного характера; наоборот, она принимает идеалы аристократии. При таком положении дел трудно сказать, что искусство выражает идеалы аристократии; выражая их, оно, в общем, отражает и общенародный идеал. И тогда это — идеал гармоничного развития. Мне незачем распространяться о греческом идеале. Пришлось бы повторять общеизвестное. Но по мере того как аристократия выполняет свою историческую миссию, по мере того как старые политические формы становятся вразрез с экономической необходимостью и с тенденциями, выдвинутыми изменением экономического содержания общественной жизни, наступает кризис.
Аристократия теряет всю симпатию в народе, а также перестает видеть цель перед собою, теряет уверенность в себе, план жизни, понимание ее… Индивидуализм сменяет собою возвышенный корпоративный или патриотический дух. Не видя дополнения и продолжения личной жизни в жизни великой общины, аристократ либо ищет такого дополнения в мистических верованиях, либо стремится поярче прожечь свою жизнь. При этом аристократия стремится укрепить пошатнувшееся здание старыми подпорками, хлопочет о воскресении древнего благочестия, — хватается за архаические формы. А рядом другие — развратничают напропалую. И искусство приобретает новый характер: это либо архаизация, либо чувственные преувеличения, либо изображения страдания, или распухшие до колоссальных размеров бездушные мраморы и полотна. Все рассчитано или на щекотание индивидуальной души вельможи, или на то, чтобы ошеломить чуждую и враждебную толпу. Если общее хозяйственное развитие подготовило новые формы жизни, выдвинуло революционный класс, способный низвергнуть дряхлых господ, — тогда рождается новое искусство, выражающее новые концепции идеала, большею частью притом же контрастирующее с искусством ненавистных бывших господ. Если же новые силы не могут вдохнуть в данное общество новой жизни, — начинается болезненное умирание, пока внешний враг не нанесет обществу coup de grâce.* Демократия, эксплуатируемые всегда, конечно, жаждут революции, полной перемены существующих порядков, гибели господ и мести им. Когда демократия слишком слаба и не может в победоносной борьбе опрокинуть эксплуататоров, искусство ее приобретает мистический характер, отражая мистические чаяния на революцию сверху — очень сверху, с неба. Напротив, демократия, растущая и сознающая свою силу, выступает под знаменем титанического, бурноромантического искусства. Бывает и так, что натиск оказывается разбит, и титаны последышей–художников ломают руки и проклинают; имеются великие образчики романтизма отчаяния без оттенка мистических упований. Повторяю: это бывает в эпохи контрреволюций. Все это очень эскизно. Я вынужден опустить пропасть подробностей, не говоря уже о примерах и доказательствах. Чтобы изложить эти идеи планомерно и документально обосновать и оправдать их, потребовались бы десятки лекций. Но вот в самых общих чертах мои воззрения на искусство. Искусство вовсе не призывает прямо на ту или иную борьбу, как говорит Борис Борисович, но, украшая жизнь определенным образом и рисуя определенные идеалы, оно всегда является орудием какого–либо класса, сильным или слабым, победоносным или жалким. Оно, действительно, всегда помогает жить и бороться. Если бы не помогало, то и не существовало бы. Оно отражает жизнь, организуя это отражение, идеализируя ее в ее действительности и в ее упованиях, или непосредственно украшает и таким образом организует повседневный быт. И вот мне и хочется, и для этого я взял слово, с этой точки зрения бросить тоненький луч света на мнения об искусстве предшествовавших ораторов. В них, в этих мнениях, отразились чаяния различных общественных групп современного общества.
* последний, смертельный удар (Франц.), — Ред.
— Вот, вот… Теперь начнется классификация на буржуазию разного калибра… Все мы ведь буржуа разного калибра! — воскликнул Акинф.
— Акинф, например, выражает точку зрения примитивно–народническую. Самый примитивный бунтарский инстинкт научает заброшенного и бедного плебея занести прежде всего руку на преступную роскошь чужой ему, но его потом купленной, раззолоченной культуры. Плебейский вандализм и утилитаризм, повторяю, — примитивная точка зрения совершенно бессознательного, стихийного протеста. Такой протест свойствен элементам несчастным, но к организации, а следовательно, и к сознательности малоспособным. Это — босяцкая точка зрения на искусство. Думается, что Акинф ее искусственно в себе развил за время своих странных скитаний. Он выражает эту точку зрения тем злее, что он не «прост», а «опрощен». Он — перебежчик в мир более или менее трущобный, а потому с особенным смаком напирает на парадоксы. Я слышал, что даже Горький, оскорбленный, вероятно, подвигами черносотенного «народа», высказывал опасения, что народу в настоящее время вообще свойствен вандализм и культуроотрицание.29 Это, конечно, пустяки. Никто так быстро не постигает величия истинной науки и истинного искусства, как полуголодная молодежь деревень и городов. И если до тех пор, пока организованные и сознательные элементы получат в народных массах преобладание, культурные господа потрепещут за то искусство, которое они частью не хотели, а частью не умели сделать народным, — то это только хороший урок. Борис Борисович выражает точку зрения народнической интеллигенции. Интеллигенция эта бессильна без народа, должна вербовать деятельно сторонников всюду, где может, чтобы хотя отчасти осуществить желанный для нее порядок. Ее народолюбие — не только плод ее происхождения, но и дитя ее бессилия. Критически развитая личность, по преимуществу пропагандист–пробудитель, все пускает в ход для этой цели. Годится для этого ей и искусство. Кроме того, интеллигентная личность полна впечатлений, страданий, которые просятся наружу. Отсюда рождаются призывы в бодрые времена, нытье — в безвременье. То и другое — с благородной окраской народничества, любви к ближнему и ненависти к насилию. Все это понятно. Но в России давно уже зародилась и другая, чисто буржуазная интеллигенция, дети и слуги буржуазии. Представителями этой группы явились здесь Скобелев и Эрлих. Буржуа–индивидуалист хочет хорошо делать свое дело, а до остального ему и дела нет. Буржуазный банкир с наслаждением ведет операции, быть может, поэтически описывает игру на бирже и говорит: «Оставьте меня в покое заниматься этим чудесным спортом». Буржуазный художник так же относится к искусству. Это его специальность, он в ней находит себя, и это прежде всего. У него это не сливается с его человеческой личностью, и он требует свободы для своего промысла как такового. Скобелев говорит, что если надо будет — он пойдет на улицу. Да, потому что у буржуазии есть враг. Но когда она будет господином, можно будет уже совершенно успокоиться. Другие художники, у которых человек сильнее, мучатся невозможностью выразить свой идеал, ищут его… Скобелев — ничего подобного: он делает свое дело, это его занятие рисовать сирень, — при чем тут идеалы? Но во всяком случае, он выражает желания и взгляды здоровой и деловой буржуазии. Наш молодой гартманист 30 Эрлих выражает ее раннее, весьма, впрочем, отрадное гниение. Они отрицают жизнь, потому что инстинктивно чувствуют, как жизнь их отрицает. Они любят могилы, любят убирать кладбище цветами, потому что история тихонько толкает их в их классовую могилу, потому что кладбище уже ждет их. Эрлихи стараются умирать красиво. На мой взгляд, сомнительна эта кладбищенская красота. На настоящую красоту — одновременно свободную и боевую, одновременно идейную и насквозь художественную — способны лишь художники, которые станут на сторону трудящихся масс, выразят самый высший момент нашей общественной жизни — борьбу по всему фронту за коллективизм. Но я говорил слишком даже долго. Если кому кажется, что я был резок… прошу не гневаться. А теперь я уступаю слово моему товарищу — Полине Александровне.
Полина Александровна, высокая и худая женщина, с короткими волосами и большими, красивыми, черными глазами, заговорила так тихо, что раздалось несколько голосов: «Громче, громче!»
— Господа! — повторила Полина Александровна громче. — Соглашаясь вполне с Наумом Викторовичем, я хочу подойти к нашему вопросу с несколько другой стороны, и тут у нас найдутся даже кой–какие точки соприкосновения с предшествовавшими ораторами. Так, Акинф Фомич, например, правильно указал на ложь, царящую в современном искусстве. Люди, которые станут критиковать уродливые стороны современных искусства, науки, техники, по–своему всегда будут правы… Но все же они смотрят узко… Вернее, они вовсе не смотрят вперед. Им в высокой мере чужда точка зрения развития.
— Диалектика! — не без иронии заметил Акинф.
— Именно, — серьезно сказала Полина Александровна. — Искусство должно рассматривать исторически и в связи с развитием человечества, в котором благо часто становится злом, разумное — бессмыслицей, и наоборот. Товарищ Португэз наметил такую историческую точку зрения. Она возвышается не только над прямым и простецким отрицанием, но и над узким утилитаризмом Бориса Борисовича. Борис Борисович говорит: художник должен быть полезен. Нет, он не может не быть полезен при условии, если он — дитя идущего вперед класса, а вне этого условия нам, представителям такого класса, не приходится ставить ему никаких серьезных требований. И потом, каковы условия полезности искусства? Бичевание пороков, говорит Борис Борисович, призыв к состраданию и борьбе. На мой взгляд, это страшно узко. Благодаря этой узости, Шекспир и Гомер попали во второй ранг поэтов; по сравнению с кем? Например, несомненно с Некрасовым, не правда ли? И даже по сравнению с последователями Некрасова!31 И, однако, я вовсе не так далека от Бориса Борисовича. Я думаю тоже, что градация произведений искусства, по их социальной полезности, в высшем смысле существует, и что критерий для их оценки имеется, но для меня это — критерий не абсолютный, а классовый, и лежит он не там, где видит его Борис Борисович.
— Где же, где? — спросил Акинф.
— Не будьте нетерпеливы, — сказала Полина Александровна. — Я нахожу, что Скобелев был прав, когда сказал, что Борис Борисович совершенно не понимает психики художника. Действительно, у него свободное творчество форм оказалось очень слабо связано с жаждой проповеди, и последнюю он считает главным двигателем художника, по крайней мере, художника идеального в глазах Бориса Борисовича. Я же думаю, что художник в художнике должен быть прежде и сильнее проповедника. По Борису Борисовичу, он художник, потому что проповедник; именно стремление поучать и толкает его к творчеству. По–моему же, художник становится проповедником именно в силу своего художественного стремления отразить жизнь в ее сущности и притом сконцентрированно, потому же он ищет, жаждет красивых форм; поэтому моя демаркационная линия между высшим и низшим в искусстве лежит совсем, совсем в другом месте. Скобелев совершенно прав, выдвигая на первый план чисто художественные импульсы: горячее, страстное восприятие действительности в ее красотах, во всем характерном, и стремление выразить это характерное в чистейшей форме. Но Скобелев защищал эту правильную точку зрения на источник высшего художественного творчества примерами мелкими, словно художник может и должен удовлетворяться отражением красивых кусочков жизни, а не может обнять ее. Точка зрения Эрлиха — формально выше, потому что он хочет связать художника с человечеством и с великими, общечеловеческими вопросами: он правильно указывает на то, что великий художник — философ, который в своем творчестве становится в определенное отношение к величайшим проблемам жизни и смерти. Действительно, от ветки сирени истинно великий художник поднимается и нас поднимает к небу, откуда видно прошлое, настоящее и будущее человечества и глубинные корни жизни. Чем выше поднимается художник в своем самом чисто художественном стремлении отразить характерное в жизни, тем ближе он к философу, от которого отличается лишь силой интуиции и преобладанием эмоциональной окраски над познавательной. Но если я согласна с Эрлихом в его сближении искусства с философией, в его стремлении отвести искусству роль в самых общих и важных судьбах человечества, то в определении этих судеб и в оценке художественно–философских тенденций мы — антиподы. Для Эрлиха и ему подобных, по причинам, правильно отмеченным товарищем Португэзом, усталость, печаль, смерть, тишина, недвижимость — сущность мира, а движение и жизнь — что–то постороннее и сомнительное. Мы же, сторонники класса, наиболее полного жизни, класса, которому принадлежит будущее, несмотря на тягость жизненных условий этого класса, которую большинство из нас материально и морально разделяет, — мы любим жизнь, зовем и приветствуем ее, ждем блага от развития всех ее ресурсов, от всей ее борьбы, знаем, что зло развития превратится в благо. Мы призываем жизнь, мы всеми силами помогаем проявиться и развиваться всем внутренним противоречиям общества, не мечтая о гармонии путем уступок и притупления требований. Жизнь — борьба, поле битвы: мы этого не скрываем, — радуемся этому, потому что сквозь тяжесть трудов и, быть может, реки крови — видим победу более грандиозных, прекрасных и человечных форм жизни. Побольше света, борьбы, энергии, жизни, правды с собою и другими; прочь все больное, жаждущее покоя, мира во что бы то ни стало, все кислое и дряблое! Мы не боимся суровой истины, холодного горного ветра, и даже ужасающего «нестрашного»,32 чудовищных буден не боимся, потому что наша жажда борьбы скоро осветит их заревом пожара. Мы за жизнь, потому что жизнь за нас. Чего же хотим мы от художника? — Чтобы он учил любить жизнь, но не сахарное только в жизни, не изюмины из нее, а всю ее, с ее противоречиями и ужасами. Мы — не оптимисты. Мы не говорим: стоит открыть глаза на жизнь, какова она есть, — и полюбишь ее; о нет, напротив, — если нам могуче и правдиво, ухватив самое глубокое и характерное, нарисуют ее портрет, мы знаем, — скорее ужас в сердце человека вызовет ее трагический облик. Но художник должен суметь внушить нам любовь к жизни, включая сюда борьбу ее и труд ее, и вопреки ее ужасам. Он должен учить нас мужественной любви к жизни, которая способна пронести знамя вперед среди стонов и скрежета, способна обнять прошлое, восторженно предвосхитить будущее, найти свое место в борьбе человеческого разума со слепыми силами общества и природы и благословить это свое место, радостно принять свой меч и свой крест. Самое великое искусство — искусство жить, художник должен быть, — а талант не может не быть, прямо или косвенно, — учителем этого высшего из искусств. И с этой точки зрения Гомер и Шекспир — вечные и великие учители. Не только трагедия, но всякое искусство должно освобождать нас от страха и от излишка сострадания и по мере сил и способностей наших превращать нас в маленьких или больших героев. И ветка сирени, талантливо написанная, вызовет тут свою ноту, свой прилив весенней бодрости, прилив предчувствия того, что даст столь ласковая иногда природа человеку, когда городовой уже не будет лущить по зубам мастерового за забором сиреневого сада, а когда оба человека, — такие же, как этот городовой и этот мастеровой, но спасенные от подобной доли гармонизацией общества, — будут об руку гулять в сиреневом саду и говорить о вещах благородных и высоких. Нет в истинном искусстве ничего, что не звало бы жить, не учило бы ничего не страшиться, храбро идти своей дорогой, с улыбкой срывать хотя бы и редкие еще цветы, с энтузиазмом наносить удары, с терпением переносить плен, когда его нельзя избежать. Всякое живое, истинно прекрасное искусство по существу своему — боевое. Если же оно не боевое, а унылое, безотрадное, декадентское, словом, угодное Эрлиху, — мы отвергаем его, как болезнь, как отражение момента разложения и умирания в жизни того или другого класса.
— Искусство тем выше, — продолжала Полина Александровна, немного передохнув, — чем полнее и ярче в нем выражена жизнь, но оно тем и полезнее. Сущность человеческой жизни — борьба. Боевая психология, мужество — это то, что нужно человеку. Гениальный художник гениально отражает какую–либо форму борьбы и гениально, могуче освежает и укрепляет сердца. Но чтобы понимать всякое искусство, искусство всех времен, народов и классов, надо обладать историческим чутьем, надо уметь взять его в связи с его культурной обстановкой, и тогда то, что на первый взгляд показалось холодным, чуждым или варварским, окажется живым, родным и человечным. Ничто человеческое не чуждо человеку исторически развитому. Но, будучи согражданами людей всех веков и народов, мы должны быть прежде всего современниками. С гордостью и счастьем видим мы, что являемся участниками самого великого культурного движения, какое видывали под луною, что призваны играть хотя бы и скромную роль в величайшей драме, которая близится к грандиозной и радостной развязке. И, оглядываясь на современных художников, мы констатируем, что в общем и целом они обслуживают только класс умирающий, живут паразитарными интересами, жалкими чувствами и идеями элементов отмирающих или хищнических, не умеют, не смеют, не могут отразить движения и надежды носителей светлого будущего. Из этого печального правила мы увидим, увы, слишком мало исключений! В искусствах прошлого: Греции, Ренессанса, Sturm und Drang'a,* революционной романтики, — словом, в искусстве боевых эпох прошлого мы находим больше соответственного нашим понятиям об искусстве, больше истинно нового, чем в современности. Только литература до некоторой степени является исключением, да и то лишь до некоторой степени. Но может ли это продлиться?
Пролетариат растет и поднимается и начинает уже сознавать ценность искусства; художник, в массе деклассированный и придавленный, мечется в отчаянии и ищет исхода. Не ясно ли, что дело марксиста–эстетика, марксиста — художественного критика стараться познакомить рабочую публику со всем лучшим, что есть в искусстве, объясняя, толкуя, подчеркивая, пока не приобретены еще этой публикой навыки к наслаждению, плодотворному, растящему душу, наслаждению великим в искусстве. С другой стороны, не ясна ли задача раскрыть глаза наиболее отзывчивым и молодым художникам, чтобы они видели, уши — чтобы слышали, чтобы наполнил их «шум и звон» величайшей мировой борьбы и чтобы они претворили нам их в песни радости, гордости, смелого вызова, жажды и предчувствия победы, в песни согласия, дружбы, песни угрозы! Пусть поют нам они эти песни в звуках и в красках, всеми художественными способами. Они могут быть широки и свободны, все будет хорошо, если настоящий дух современности осенит их, все под их пером и кистью станет полно значения.
* бури и натиска (нем.). — Ред.
Не нужно проповеди и тенденции: пой, пой, как птица, художник, но если глаза твои видели, если уши твои слышали, ты споешь песню железную и золотую, ты ударишь в неслыханный еще набат. Один мой товарищ говаривал мне: «Время великих критиков миновало: Белинский, Добролюбов, Писарев, Чернышевский воспитали вкус и понимание, — русскому читателю не нужно больше учителя эстетики». Но вот родился и вырос новый читатель. Время явиться новым Белинским приспело, приспело и время для новой плеяды великих художников.
— Эрлих! — воскликнула Полина Александровна, возбужденная и ставшая красивой, — вы любите музыку, под которую задумываются. Вы не любите той, под которую пляшут. Я люблю ту и другую, но больше всего ту, под которую совершают подвиги и борются за торжество человечности. Господа, у меня слабый голос, я — не оратор… Мне хочется передать вам, однако, тот энтузиазм, которым должны быть полны и художники, и читатели, и критики…
И, подойдя к роялю, с силой, неожиданной для этой слабой женщины, она заиграла царицу маршей, божественную «Марсельезу». И холод пробежал по спинам, кровь загоралась; казалось, что волосы шевелятся.
И в эту минуту в дверь вошел взволнованный студент и крикнул:
— Еще новость: игра с Шидловским окончательно сорвана пролетариатом!33
Начались возгласы, расспросы. Закипел страстный политический разговор, которого я передавать не буду.
Луначарский в 1903–1904 годах находился в ссылке в Тотьме, уездном городе Вологодской губернии. Он был переведен сюда из Вологды по распоряжению губернатора Ладыженского, с которым у Луначарского произошел конфликт. О своем пребывании в Тотьме Луначарский рассказывает в очерке «Из вологодских воспоминаний»:
↩«Тотьма — очаровательный, узорный городок, с церквами в стиле рококо, на берегу громадной реки, за которой тянутся темные леса… Я очень дорожил тем, что в Тотьме буду иметь очень много времени для чтения, литературных занятий, и действительно, я развернул сразу большую работу, пиша в «Образовании» и «Правде», двух наиболее передовых тогдашних журналах, имевших довольно заметный марксистский уклон. Там же я написал и первые мои книги…»
(журнал «Север», Вологда, 1923, № 2, стр. 4).
- Первое отдельное издание «Диалога об искусстве» вышло в 1918 году (М., Всеросс. ЦИК Советов рабочих, солдатских, крестьянских и казачьих депутатов). Второе издание с печатаемым в наст, томе предисловием — в 1919 году (М., изд. «Пролетарская культура»). ↩
- «Vorwärts» — ежедневная газета, центральный орган германской социал–демократической партии, издававшаяся в Берлине с 1891 по 1933 год. ↩
- Далее Луначарский цитирует, очевидно в своем переводе, статью Каутского «Die Fortsetzung einer unmöglichen Diskussion» («Продолжение одной невозможной дискуссии»), раздел 4–й — «Gefühlsozialismus und wissenschaftlicher Sozialismus», («Социализм чувства и научный социализм»), напечатанную в журнале «Die Neue Zeit», 1905, № 49, 29 августа. ↩
- Книга К. Каутского «Этика и материалистическое понимание истории» была выпущена в переводе на русский язык в 1906 году несколькими издательствами, в том числе и издательством «Знание» под редакцией Луначарского. ↩
- Этот тезис Луначарский выдвинул в своей работе «Основы позитивной эстетики». См. также статью «К вопросу об оценке» в книге: А. Луначарский, Этюды критические и полемические, М. 1905. ↩
- Помимо работы «Основы позитивной эстетики», здесь имеются в виду такие статьи, как «Морис Метерлинк. Опыт литературной характеристики» (1902) и «О художнике вообще и некоторых художниках в частности» (см. наст. том). ↩
- Перефразировка слов Гамлета («Гамлет», акт II, сцена 2). ↩
- Слова из стихотворения А. С. Пушкина «Я памятник себе воздвиг нерукотворный…» (1836). ↩
- Имеются в виду пьесы «Ткачи» Г. Гауптмана и «На дне» М. Горького. ↩
- Фразу «И в рубище почтенна добродетель» произносит Телятев в пьесе Островского «Бешеные деньги». (Ср. у Державина в оде «Вельможа»: «Почтен и в рубище герой».) ↩
- Ср. Л. Н. Толстой, Полн. собр. соч., т. 30, М. 1951, стр. 66. ↩
Этот тезис развивается в XVI–XX главах трактата «Что такое искусство?». Толстой пишет, что
↩«должно быть изгоняемо, отрицаемо в презираемо… искусство, не соединяющее, а разъединяющее людей… Назначение искусства в наше время — в том, чтобы перевести из области рассудка в область чувства истину о том, что благо людей в их единении между собою»
(там же, стр. 164, 195).
- Ср. Н. Щедрин (М. Е. Салтыков), Полн. собр. соч., т. XVI, ГИХЛ, М. 1937, стр. 114–115. ↩
- Имеется в виду изображенный в гл. XIX второй части романа «Воскресение» «старый генерал», обязанность которого, по определению Толстого, «состояла в том, чтобы содержать в казематах, в одиночных заключениях политических преступников и преступниц и содержать этих людей так, что половина их в продолжение 10 лет гибла, частью сойдя с ума, частью умирая от чахотки и частью убивая себя: кто голодом, кто стеклом разрезая жилы, кто вешая себя, кто сжигаясь». ↩
- Имеется в виду легенда о древнегреческом поэте Тиртее (VII в. до н. э.). ↩
- См. Генрих Гейне, Собр. соч. в десяти томах, т. 4, Гослитиздат, М. 1957, стр. 230. ↩
Вероятно, имеется в виду следующая мысль из письма И. Н. Крамского к В. В. Стасову от 16 июля 1886 года:
↩«Я думаю, что для человечества дороги не столько идеи художника, сколько холсты, в самом прозаическом смысле слова. Хорош холст — человечество его сохранит и будет помнить имя автора; не хорош сам по себе — кончено, им дорожить не будут. А там хоть бог знает пусть будут какие новые идеи — всем одна цена»
(«Иван Николаевич Крамской. Его жизнь, переписка и художественно–критические статьи», СПб. 1888, стр. 565).
- В арабской сказке об Аладдине (из книги «Тысяча и одна ночь») рассказывается о волшебной лампе, которая давала ее обладателю возможность осуществлять все свои желания. ↩
- Сергей Булгаков и Николай Бердяев к началу XX века эволюционировали от ревизионистски истолковываемого марксизма к реакционным философско–идеалистическим позициям. Не отвергая значения позитивной науки и современного социалистического движения, они пытались доказать, что центральное место в духовной жизни человека должны занимать религия и идеалистическая метафизика, ввиду якобы невозможности методами научного познания осветить самые важные вопросы человеческого бытия. Этот тезис отстаивался ими, в частности, в статьях, напечатанных в известном сборнике «Проблемы идеализма», М. 1902 («Основные проблемы теории прогресса» С. Булгакова и «Этическая проблема в свете философского идеализма» Н. Бердяева). Луначарский посвятил критике взглядов Бердяева и Булгакова ряд своих ранних статей: «Русский Фауст» (1902), «Трагизм жизни и белая магия» (1902), «Идеалист и позитивист как психологические типы» (1904), «Метаморфоза одного мыслителя» (1904). ↩
- Наименование всеобщего закона движения и изменения мира, применявшееся в даосизме, философски–религиозном мистическом учении, возникшем в Китае в VI–V веках до н. э. ↩
- Изображаемый Луначарским юноша–декадент, стремясь подкрепить свои эстетические позиции ссылками на воззрения разных философов идеалистического лагеря, упоминает и о древнегреческом философе Пармениде, представителе так называемой «элейской школы», который считал бытие, отождествляемое им с мыслью, неподвижным и неизменным. ↩
- Сансара — распространенное у индусов учение о вечном существовании души, переходящей из одной земной тленной формы в другую (переселение душ). ↩
- Сюжет легенды о птичке из рая и монахе принадлежит к числу наиболее распространенных сюжетов мировой литературы. Существуют варианты французские, английские, немецкие, нидерландские, скандинавские и др. Название монастыря и имя монаха часто менялось в зависимости от страны и эпохи. ↩
- «Преображение» — одна из последних картин Рафаэля, хранящаяся в Ватиканской пинакотеке (картинной галерее). Лоджии (галереи) Ватиканского дворца украшены по рисункам Рафаэля и его учеников лепным и живописным орнаментом, включающим сложные узоры (так называемые арабески), а также причудливые фигуры зверей, различные маски и т. п. (так называемые гротески). ↩
- См. Дж. Гобсон, Эволюция современного капитализма, изд. О. Н. Поповой, СПб. 1898 (гл. XIV — «Цивилизация и промышленное развитие»). ↩
- Имеется в виду брошюра Жюля Дестре «Искусство и социализм» (изд. на франц. яз. в 1897 году; на русском под названием «Социализм и искусство» петербургским книгоиздательством «Молот» в 1906 году); см. главы «Искусство в коммунистическом обществе» и «Искусство в современной жизни», Луначарский подробно разбирает эту книгу в статье «Заметки философа (Неприемлющие мира)». («Образование», 1906, кн. 8). ↩
- Санта–Мария дель Фьоре — знаменитый собор во Флоренции (XIII–XV. вв.). ↩
Вероятно, имеется в виду интервью, данное Горьким корреспонденту газеты «Русь». Упомянув о том, что интеллигенция у нас «лишь самым тонким слоем, самой ненадежной коркой прикрывает сырую, неостывшую, клокочущую массу — народ», Горький сказал далее:
↩«И вот если кипящая, бурлящая лава народа прорвется сквозь эту тонкую кору, она может залить, поглотить без следа и самую интеллигенцию и все то, что Она произвела на свет. И эти музеи, и эту красоту, и эту культуру. И это будет ужасно»
(«Русь», 1905, № 187, 13 августа).
- Португэз называет Эрлиха последователем немецкого философа Эдуарда Гартмана, которого В. И. Ленин в своей работе «Материализм и эмпириокритицизм» определил как «последовательного идеалиста и последовательного реакционера в философии» (В. И. Ленин, Полное собрание сочинений, т. 18, стр. 61). Для Гартмана характерна «универсальная подстановка психического под всю физическую природу» (там же, стр. 304). В основу своей философской системы он положил понятие «бессознательного», рассматривая материю и дух как низшую и высшую формы проявления единой сущности бессознательного. Выступал против теории научного социализма, утверждая, что идеал, к которому стремится революционный пролетариат, недостижим. ↩
- В первопечатном журнальном тексте последние две фразы имели другой вариант: «Например, с Минским далекого периода, не правда ли? И уж, конечно, по сравнению с Некрасовым». Здесь шла речь о ранних гражданских стихах Минского либерально–народнического характера. ↩
Луначарский использует название этюда Короленко «Не страшное» (1903), тему которого сам автор определил в одном из писем:
↩«Не страшное» — это то обыкновенное, повседневное, к чему мы все присмотрелись и притерпелись и в чем разве какая–нибудь кричащая случайность вскрывает для нас трагическую и действительно «страшную» сущность»
(В. Г. Короленко, Собр. соч. в десяти томах, т. 3, Гослитиздат, М. 1954, стр. 464).
- Комиссия сенатора Шидловского — правительственная комиссия «для безотлагательного выяснения причин недовольства рабочих в гор. С. — Петербурге и его пригородах и изыскания мер к устранению таковых в будущем» — была учреждена по царскому указу 29 января 1905 года в результате стачечного движения, охватившего Петербург и всю страну после Кровавого воскресенья 9 января. Когда рабочие–выборщики на избирательных собраниях предъявили правительству требования политических свобод и отказались от выборов депутатов, комиссия, не начав работы, была ликвидирована. ↩