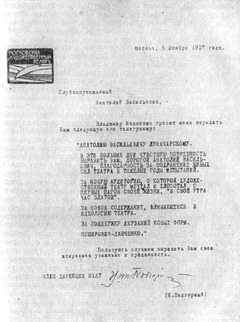Чем определилось появление этого совершенно исключительного по своей значительности не только для России, но и для Европы театра? Конечно, этому были и специфические художественно–театральные причины, но в первую голову и Причины социального характера. В последнее время отдельные критики, более или менее старающиеся придерживаться марксистского взгляда на вещи, стали охотно определять Художественный театр как чисто буржуазный в отличие от как бы добуржуазной формации Малого театра. Такое определение можно, разумеется, принять только с величайшей оговоркой. Во–первых, те же критики связывают Художественный театр с такими явлениями, как более или менее демократический либерализм, эстетство, идейная увлекательность, серьезные требования от публики и т. д.
Верно ли, что все это может в какой–нибудь мере считаться подлинно буржуазной, то есть буржуазно–капиталистической, тенденцией в России?
Конечно, нет. Ссылки на то, что сам Станиславский–Алексеев — купец по происхождению, на то, что купцов–меценатов, всяких Мамонтовых и Зиминых, или жертвователей на клиники и т. п. культурников в отношении к своим рабочим, как Коновалов, было много, эти ссылки отнюдь не достаточны для того, чтобы защищать то положение, будто какое–нибудь широкое культурно–просветительное и художественное течение в России может быть определено влиянием и воздействием капиталистов.
Произошло нечто совсем другое, гораздо более тонкое по существу. Художественный театр был театром русской интеллигенции, ее новой формации. Формация же эта, сложившаяся ко времени возникновения Художественного театра, действительно произошла в результате роста капитализма в России.
Малый театр, или, вернее, театр Гоголя и театр Островского, со всем, что с ними связано, в большей или меньшей мере совпадал с главным кряжем или с подходом и отрогами интеллигентского народничества. Не стоит распространяться о том, что такое интеллигентское народничество. Это явление широко известное, да и сам я неоднократно об этом писал. Народническая интеллигенция была не только в более или менее яркой оппозиции к старой помещичьей России, но и относилась с острой критикой и явной враждебностью к господам Колупаевым и Разуваевым.1
Между тем капитализм развернулся широким цветом в России. Часть интеллигенции пошла на его службу, одни прямо, как наемные люди развернувшегося капитала, другие косвенно, как поставщики предметов роскоши и искусства, на этот углубившийся рынок, который шел параллельно с ростом городов и обогащением недворянских верхов русского общества. Все это вызвало к жизни новую, очень сильную волну роста интеллигенции. По составу своему она была уже не прежней. Это были не разночинцы, в интеллигенцию влилась густая волна детей зажиточных отцов.
Тем не менее традиции не были абсолютно порваны. Интеллигенция, хотя и прекратила почти окончательно острые революционные формы борьбы с самодержавием, осталась не только в своих поредевших эсеровских элементах враждебной самодержавному государству; она исповедовала почти вся в социальном отношении какой–то весьма терпеливый и чисто платонический социализм, смешанный с довольно определенным либерализмом. В культурном отношении эта интеллигенция высоко ценила образованность, внешнее и внутреннее сходство с передовыми европейскими веяниями. Она не прочь была продолжать и своеобразное славянофильство, противопоставляя себя западной интеллигенции как социальную среду более глубокую, более искреннюю, более чистую и т. д.
Всякий, кто вращался в кругу интеллигенции 90–х и 900–х годов, знает, что это было именно так. Прибавим к этому, что среди молодежи было и сильное чисто социалистическое движение социально–революционного и социал–демократического порядка. В сущности говоря, интеллигенция стала более широко образованной, приобрела более культурные навыки, стала гораздо зажиточнее. В главной своей части она настроилась, так сказать, реформистски–эволюционно и стремилась устроить как свой внешний быт, так и свою душу по культурному и тонкому образцу. Лучшие из капиталистов, да не только лучшие, но и те джентльмены, портрет которых так выразительно дал Сумбатов–Южин, отчасти Боборыкин, вовлеклись в это интеллигентское русло.2
Купец–заводчик диктовал свою волю инженеру и врачу, педагогу и т. д., поскольку дело касалось его политики и его торговых сфер, но он чрезвычайно охотно принимал у себя знаменитого композитора или писателя — даже, так сказать, лебезил вокруг него и всячески старался показать, что он тоже культурен, и не останавливался для этого даже перед значительными затратами.
Организовывалось, так сказать, общество в кавычках. «Общество» это было в общем либерально и культурно и имело все градации как в имущественном, так и в политическом отношении. В имущественном — от дарящего мецената, черпающего эти дары свои от рабочего пота и крови, до какого–нибудь бедного студента, на последние деньги покупающего книжку Бальмонта, а политически — от мнимо либерального октябриста до мнимо социалистического эсера. Можно ли попросту окрестить всю эту среду буржуазной? Поскольку дело идет о политической ее физиономии, она характеризует собою именно период наибольшего расцвета и влияния (отнюдь не абсолютно одной) буржуазии в русской государственной жизни. Поскольку же дело идет о культуре, можно сказать, что буржуазия здесь заимствовала довольно покорно все, что прямо не противоречило ее интересам; ее ценность определялась почти исключительно этим. Именно тот факт, что буржуазия не была классом сильной культуры в России, и сказался в том, что мы никаких открытых буржуазных тенденций, конечно, не найдем во всей тогдашней литературе, тогдашнем театре, искусстве и т. д. Наоборот, мы всюду замечаем уклон к несколько абстрактному эстетству, к символизму, к изумительно тонкому импрессионизму — и все это именно потому, что сама интеллигенция не может иметь никаких определенных общественных идеалов, что ей чужда классовая мужественность и определенность, а между тем эпоха предоставляет ей в искусстве руководящую роль. Меценат передоверял интеллигенции стиль своего дома и своих развлечений. Отсюда некоторые положительные черты эпохи, но, конечно, и много отрицательных.
К отрицательным относится отсутствие конкретных мужественных идеалов, о чем и плакал Чехов, говоря, что у писателя этой эпохи нет бога, которого бы он чтил и которому бы он молился. Положительные же стороны — большое, искреннее и умелое отношение к внешней культуре, к искусству. Как ни странно, искусство этой эпохи действительно является внешним, хотя оно очень «углублено». Это кажется парадоксом, но это так.
С одной стороны — разве символизм не заявляет, что за его изящными формами скрывается глубочайший смысл?
Заявляет, но на самом деле этот глубочайший смысл есть какой–то туалет, талантливый, модный, по большей части пессимистический или чисто эстетствующий. Не только форма этого искусства, но внутренняя сущность его оказываются поверхностными. Возьмите любого самого глубокого символиста того времени и поставьте его рядом с Успенским, и вы увидите тогда, что значит искусство, пропитанное кровью и желчью, и что значит искусство, кокетничающее «бледной глубиной», в сущности же говоря, холодное.
Подходя ближе к Художественному театру, трудно представить себе более углубленное и более благородное искусство, чем то, которое создала эта группа интеллигенции с соизволения и при поддержке капитала, желавшего блеснуть своей утонченной культурой. В самом деле, в чем заключался главный смысл той, можно сказать, религии Станиславского, случайно совпавшей с главным руслом тенденции Немировича–Данченко, которая охарактеризовала собою все искания Художественного театра до последнего года? Это — огромная художественная добросовестность. Не на словах только, а всеми своими нервами Станиславский хотел художественной высоты во всем. Неправильно говорить, что Станиславский преследовал натуралистические цели. Нет, театр ставил чисто фантастические вещи, где о натурализме не могло быть и речи. Но Станиславский хотел приблизить каждую театральную картину, сцену к тому идеалу, который ставила перед ним задача глубочайшей, детальнейшей, законченнейшей обработки задуманного. Отсюда — если ставилась бытовая сцена, то быт должен был быть внимательнейшим образом изучен. Ни одна книжка об этом быте не должна была остаться непрочитанной. Надо было искать вещей, а часто и людей, которые с этим бытом связаны. Надо было в каждом уголке позаботиться о торжестве этого быта в его величайшей типичности. Если дело шло о фантастических сценах, например «Потонувшем колоколе»,3 то Станиславский и его помощники старались до последних деталей обдумать ту грезу, которая перед ними проносилась, и создать вплоть до конкретнейших мелочей воплощение этой грезы. Если эта добросовестность превращалась в ценнейшее искусство, то потому, что никогда не ограничивалась педантической копией, а стремилась во всем достигнуть предельной типичности. Если она была такой даже в области внешней постановки, то еще более, так сказать, трогательной, психологичной становилась она в области переживаний, типов и эмоций. Здесь Станиславский требовал, чтобы артист вживался в свой тип, чтобы он, так сказать, переживал в себе всю его жизнь, чтобы он в него постепенно перевоплотился; и опять–таки перевоплощение это не должно было ограничиваться главными пятнами, основными штрихами, но должно было сказываться в походке, в деталях, в костюме, словом, во всем до мелочей облике фигуры. Эти тенденции были доведены до святости, до подвижничества и вместе с тем увенчались замечательным успехом. Широкая публика и лучшие эстеты общества были покорены богатством впечатлений и глубочайшей серьезностью, веявшей на них со сцены.
Но если мы за всем тем спросим себя, был ли этот театр, — столь эстетически добросовестный в художественном отношении, столь проникновенный психологически, — был ли он театром внутренней культуры народа, то мы можем прямо сказать: он таким театром не был.
Был у нас театр Гоголя; он ознаменовал собою огромной важности ступень в развитии народного сознания, — конечно, захватив собою сознательные части народа, интеллигенцию в первую очередь. Был у нас театр Островского. Он имеет такое же значение, ибо в обе эти полосы русской истории интеллигенция играла небывало самостоятельную роль, которая в театре отразилась, хотя, к сожалению, и ослабленно, ибо в театр влияние интеллигенции только отчасти проникало. Но чей театр — Художественный театр? Какую новую идею, какое новое отношение к общественности он с собою принес? Нам говорят — Художественный театр есть театр Чехова. Но ведь именно Чехов–то глубже всех других сознавал и оплакивал отсутствие в творчестве своем и своих сверстников каких бы то ни было захватывающих идей. Ведь чеховщина («Дядя Ваня», «Чайка», «Три сестры») — это же постоянный плач об отсутствии идей, о буднях, не освещенных никакой великой эмоцией. И Художественный театр с особенным удовольствием превращал в шедевры этот в конце концов даже и неглубокий, самоосуждающий пессимизм интеллигенции. Интеллигент смотрел «Трех сестер», немножко плакал вместе с ними и находил, что эта тоска жизни, которой насыщен был спектакль, в сущности, красива. Красота исполнения примиряла его с той бессодержательной скукой, которая — даже по мысли автора и режиссеров — составляла душу пьесы. Но, равным образом, и пьесы Гауптмана и всякие другие русские и заграничные пьесы, которые ставил Художественный театр, всегда представляли собою великолепную оболочку вокруг пустого места, вокруг все того же пессимизма, безыдейности или увлечения чистой красотой. Теперь читателю, быть может, станет ясно, почему Художественному театру приходится отвести совершенно своеобразное место в истории русской культуры.
В сущности говоря, верно, что Художественный театр был первым в России художественным театром: до него были в театре отдельные элементы художественности, но не было, так сказать, религии художества, не было целостного, законченного художественного духа. Зато отдельные элементы высокой художественности, которые были в русском театре поры Щепкина и поры Островского, были густо замешаны общественной проповедью — проповедью вполголоса, но достаточно слышной для чуткого уха тогдашней активной интеллигенции.
Можно ли теперь пройти мимо Художественного театра? Можно ли сказать, что он ознаменовал собою только определенную эпоху и ушел в прошлое? Даже если мы будем говорить о той части Художественного театра, которая сейчас экспортирована в Америку, то и это будет неверно.4
Художественный театр оставил глубочайший след. Он в значительной мере перевоспитал актеров, и мы должны изо всех сил желать, чтобы дух художественного подвижничества, провозглашенный Станиславским, остался возможно энергичнее жить в нашем театре.
Правда, могут сказать, что даже в сценической технике жизнь ушла от Художественного театра, ибо Художественный театр требовал от тогдашнего зрителя — внимательного, эстетического, имевшего массу свободного времени, — колоссального, напряженного и многогранного внимания к тысяче деталей своих обдуманных постановок, нынешний же театр имеет перед собою зрителя торопливого, жадного к впечатлениям, оглушенного громадными событиями, пропускающего мимо своего внимания все тихое и детальное, — и вольно или невольно должен стремиться к монументальности и резко выраженному экспрессионизму.
Никаких подробностей бытового порядка, никаких знаменитых «сверчков»,5 никаких деталей или живописных украшений при фантастической постановке! Плакатность, несколько доминирующих штрихов, несколько основных красочных пятен, громадная выразительность жеста, глубокий рельеф слова! Все приподнято, все на котурнах, все в рупор. Таков грядущий театр, по крайней мере ближайшего времени.
Но и это возражение вовсе не означает, что колоссальная добросовестность, впервые превращенная в систему Художественного театра, может считаться нами устарелой. Внутренняя сущность ее, ее формальнейшая сущность остается прежней.
Вот что сказал бы, вероятно, Станиславский режиссеру нового театра: «Ставь перед собою такую новую задачу, но продумай ее самозабвенно, продумай ее всем твоим мозгом и стремись осуществить идеал, тебе представившийся. В коллективном творчестве, — может быть, ежемгновенно меняя в деталях твою мечту, — стремись воплотить образ, тобой рожденный, в такую действительность, которая подлинно тебя удовлетворила бы. Не смей работать приблизительно, не смей работать наспех. Всякое махание рукой — «сойдет–де и так, все равно скушают, лишь бы горячим подать», — да будет для тебя величайшим преступлением». Эти заветы, которые я беру здесь слишком суммарно, которые на деле превращаются в сотни поучительнейших указаний, являются огромной важности наследием старого Художественного театра.
Старый Художественней театр пустил целый ряд отпрысков свободных студий. Одни из них вышли совсем близко к корню, но менялись под влиянием изменившейся атмосферы. Такова Первая студия. Другие (Вахтанговская) сразу стали совсем на другую почву, чем старая почва Художественного театра; но и те и другие были проникнуты той же жаждой художественного оправдания всего, что творилось на сцене, и те и другие были до глубочайшей степени серьезны. Они могли иметь предметом своих исканий смех. Они могли искать балагана, по и этот балаган в их руках был художественным подвигом, серьезным идеалом, сценическим завоеванием, а никогда не просто балаганом, готовым фактически (хотя не в теории) провозгласить сценическую неряшливость и незаконченность за руководящую нить. Нет никакого сомнения, — и такой спектакль, как «Лисистрата», показывает это, — что вслед Художественному театру старому идет Художественный театр новый, который сформирует свой батальон из вольницы студий.6 Нет сомнения, что этот театр, за это ручается чуткость Немировича–Данченко, учтет требования нового зрителя. «Лисистрата» великолепно показывает нам, насколько театр сумел шагнуть в сторону плакатности и монументальности, в сторону жирных красок, смелого, подчас головокружительного движения на сцене и т. п.
Но вместе с тем, взойдя на новый путь, театр не забывает своей огромной культурности. Кто–нибудь, может быть, скажет, что культурная преемственность будет золотой цепью на ногах обновленного Художественного театра? Да, культура тяжелит, но вместе с тем она обеспечивает прочность завоеваний. Художественный театр заимствовал кое–что в последний год у так называемого левого фронта, но он провел это сквозь призму вкуса, он усвоил только некоторые элементы, претворив их согласно своей культурной интуиции.
Что является страшной угрозой нашей социалистической культуре в ее младенчестве, это именно наше бескультурье. Символом такого явления можно считать небольшую книжку биологической философии, которая вызвала неистовое увлечение нашей превосходной, но малограмотной молодежи и которая представляет собою напыщенный вздор.7 Сейчас прекрасное время для шарлатанов. Стоит только к любой аляповатой вещи приклеить ярлык «пролетарский, октябрьский» и т. д., чтобы нашлась толпа, которая побежит за кривлякой. В этом ужас положения. Следует ли из этого, чтобы мы из боязни таких некультурных подделок пресекли все новое, отвергающее старые корни? Конечно, нет, ибо рядом с плевелами могут вырасти и действительно новые цветы.
Но если мы никогда не поддавались увещаниям отбросить старый культурный театр, даже в том случае, когда он никак не приспособлялся к новому времени, просто в ожидании того, что он так или иначе может быть использован, кольми паче должны мы ценить театр с огромной художественной культурой, который готов теперь наполниться новым содержанием.
Футуристы в течение долгого времени считали себя чистыми формалистами. В последнее время они заявили, что в свою новую форму они хотят вложить острое коммунистическое содержание. Что же, очень хорошо. Но когда мы имеем обусловленное особенностями эпохи высокохудожественное формальное явление, которое с переходом к новой эпохе, не теряя десятками лет выработанной кристальной традиции, тоже готово включить новое содержание, мы можем себя только с этим поздравить.
Старая интеллигенция почти полностью ушла от нас. Поскольку она остается на службе революции, она представляет собою какие–то разбитые элементы, она ни за, ни против, она так себе. Значительная часть лучших ее представителей схлынула за границу и увяла там. Но, может быть, отчасти благодаря умелой политике Советского правительства, в некоторых областях эта лучшая интеллигенция вчерашнего дня осталась с нами. Оставшись с нами, она не могла остаться прежней. Надо было только несколько терпения, и она вынуждена была дать нам ростки, уже приспособленные к новой атмосфере и в то же время благородные потому, что питающиеся соками огромной культурной работы и не открывающие вновь то Америку, то сахарную воду.
Резюмирую. На мой взгляд, Художественный театр есть порождение численно и культурно очень сильной русской интеллигенции конца прошлого и начала нынешнего века, которой дал полную свободу в художественном отношении оплачивающий ее капитал и которая вместе со своим хозяином даже щеголяла этой своей чисто эстетической, чисто философской, словом, чисто культурной лучезарностью. За этот период эстетически развитая интеллигенция как таковая развернула несколько замечательных художественных достижений. Но из них Художественный театр был самым замечательным.
Проблема Художественного театра стояла так: связан ли Художественный театр со старым, буржуазным режимом настолько, что вместе с ним должен погибнуть? Было, однако, ясно, что духовно он с этим режимом не связан, — у него не было никакой новой проводимой буржуазией идеологии, отчасти за бессилием буржуазии создать сколько–нибудь убедительную идеологию.
В гораздо большей мере он был связан со старой буржуазией материально. Но и эта проблема, как все теперь видят, сравнительно удовлетворительно разрешилась революцией. Театр смог выжить труднейшие годы, и будущее его обеспечено.
Тогда подымается новая проблема. Может ли этот театр вольной эстетической интеллигенции наполниться новым содержанием? Возражение: не может, потому что старые формы, каковы они есть, слишком определенно чисто эстетны, а новый плакатно проповедующий театр, к которому мы идем, со всей этой филигранностью несовместим.
Ответ на возражение: тенденция студий и такой спектакль, как «Лисистрата», уже дают нам уверенность, что театр сам осознал это и перестраивается на формально новый лад, как раз такой, который способен воспринять новое содержание.
Вот почему мы можем считать своим праздником двадцатипятилетие Художественного театра не только потому, что это знаменательная дата в истории русского искусства, но и потому, что это день, обещающий нам серьезные плоды в будущем.
- Колу пае вы и Разуваевы — ставшие нарицательными фамилии купцов из произведений М. Е. Салтыкова–Щедрина «Убежище Монрепо» (1878–1879), «За рубежом» (1880–1881) и др. ↩
- Имеются в виду персонажи пьесы А. И. Южина–Сумбатова «Джентльмен» (1897) и романов П. Д. Боборыкина «Дельцы» (1872), «Китай–город» (1882), «Перевал» (1894). ↩
- Премьера пьесы Г. Гауптмана «Потонувший колокол» состоялась в МХТ 19 октября 1898 года. Постановка К. С. Станиславского к А. А. Санина. Художник — В. А. Симов. ↩
С 1922 по 1924 год труппа МХАТ во главе с К. С. Станиславским гастролировала по городам Европы (Берлин, Прага, Загреб, Париж) и Америки (Нью–Йорк, Чикаго, Филадельфия, Бостон).
В репертуаре труппы были «На дне» М. Горького, «Вишневый сад», «Три сестры» А. П. Чехова, «Царь Федор Иоаннович» А. К. Толстого и другие пьесы.
↩- Намек на постановку в Первой студии МХТ святочного рассказа Ч. Диккенса «Сверчок на печи». (Автор инсценировки и постановщик Б. М. Сушкевич. Премьера состоялась 24 ноября 1914 года. Художники — М. В. Либаков и П. Г. Узунов.) В 1922 г. спектакль смотрел В. И. Ленин и отнесся к нему отрицательно. ↩
- Речь идет об основанной в 1919 году в Москве В. И. Немировичем–Данченко Музыкальной студии МХТ. В 1926 году стала называться Музыкальным театром имени В. И. Немировича–Данченко. Музыкальная студия МХТ открылась 16 мая 1920 года комической оперой Ш. Лекока «Дочь Анго». Премьера комедии Аристофана «Лисистрата» (русский текст Д. Смолина) состоялась 16 июня 1923 года. Руководитель постановки — В. И. Немирович–Данченко. Режиссер — Л. В. Баратов. Художник — И. Рабинович. Музыка — Р. Глиэра. ↩
- Вероятно, Луначарский говорит о книге Зммануила Енчмена «Восемнадцать тезисов о «теории новой биологии» (Проект организации Революционно–научного Совета Республики и введения системы физиологических паспортов)», Пятигорск, 1920, ↩