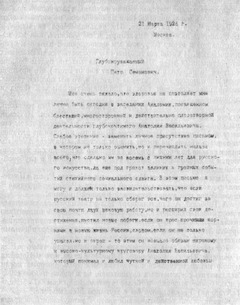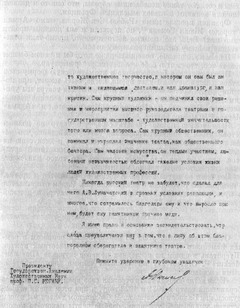I
Чуть ли не на другой день после моего приезда из–за границы 1 редакция «Новой жизни»2 обратилась ко мне с просьбой наметить пьесы, которые я считаю подходящими для обновленного революционного репертуара. Очевидно, уже тогда вопрос, который так определенно стал перед нами в этом сезоне, тревожил умы. Я и считаю поэтому чрезвычайно важным продолжать мою помощь театрам в этом отношении и рекомендовать те или другие, подходящие для разного рода театров пьесы как лично, так и при помощи репертуарной секции ТЕО.3
Недавно в «Известиях» я дал отзывы о нескольких новых для русской публики переводных пьесах революционного репертуара.4 Я указал там на «Свободу» Потшера, на «Пугачева» Гуцкова (изданную ТЕО), на пьесу Стюпюи «У Дидро», которая пойдет первым спектаклем в Показательном государственном театре и в скором времени будет переиздана нашим издательством.5
Большинство пьес, которые я мог бы рекомендовать русскому обновленному театру и о которых театры, пожалуй, ничего не знают, — не переведены, и мы примем все зависящие от нас меры, чтобы поскорей получить оригиналы и поскорей приступить к их переводам. Но среди пьес, которые я назвал. как желанные, еще тогда редакции «Новой жизни» я указал на пьесу Анценгрубера «Нашла коса на камень».
Крестьянский театр Анценгрубера вообще заслуживает большого внимания и может быть хорош именно для крестьянского русского театра.
Есть много хороших пьес из крестьянской жизни у итальянцев в репертуаре знаменитого трагического артиста–сицильянца Грассо. Есть кое–что хорошее в нашем украинском крестьянском репертуаре. Отдельные великолепные пьесы имеются, конечно, во всех литературах, но, мне думается, несмотря на это, Анценгрубер может считаться величайшим бытописателем крестьянства в драматической форме. Благодаря известной неподвижности крестьянской жизни, пьесы Анценгрубера, написанные в середине прошлого столетия, довольно точно отражают и нынешнюю жизнь крестьян в Тироле. А некоторое однообразие основных начал крестьянской жизни делает эту тирольскую крестьянскую жизнь похожей на всякую другую. Анценгрубер умеет придать своим простым по темам, чрезвычайно волнующим, как я сам в том убедился, немецкую мужицкую душу, бытовым драмам оттенок великого трагизма.
Когда я читал «Мужиков» Реймонта, эту поистине великую эпопею земли и тружеников ее, мне все время представлялось, что Реймонт, много позаимствовавший и у Поленца, и у Золя, и у Бальзака, все же ближе всего, пожалуй, в самом прекрасном, самом великом и общечеловеческом именно к прототипам крестьянской трагедии Анценгрубера. В Австрии Анценгрубера чтут высоко, пьесы его не сходят с репертуара. В России его знают очень мало, и, может быть, многие не согласятся с моей высокой оценкой этого поэта–драматурга. Однако, пожалуй, лучшая его пьеса «Нашла коса на камень» вышла уже вторым изданием в издательстве Антика.6 Это показывает, что публике она понравилась даже в том виде, в каком она представлена читателю. Увы! — этот вид нужно признать совершенно неудовлетворительным. Переводчики Тепловы очень недурно справились с переводом песен, которые, на мой взгляд, должны быть включены и в новый перевод, но что за язык в диалоге!.. Я понимаю, что довольно сочный крестьянский язык Анценгрубера по–русски надо передать не русским крестьянским переводом — говором какой–нибудь определенной деревни, а возможно более простым литературным языком, но надо, чтобы этот литературный язык был полон жизни. Тепловы же дали перевод необыкновенно книжный, с какими–то грузными периодами, с какими–то оборотами, недопустимыми даже в публицистической статье. Я совершенно не представляю себе, как может актер вложить жизнь в этот газетный какой–то стиль. С этой стороны, с пьесой Анценгрубера в переводе Тепловых люди нашего театра могут познакомиться разве для того, чтобы видеть, как великолепна поистине эта драма, как в ней почти по–античному нарастает трагизм, как чудесно оттенено милое южнонемецкое добродушие и грация, как выпуклы все фигуры и как тепла и гуманна идея, не лишенная в то же время чего–то терпкого, чего–то поистине предвещающего революционную грозу.
Но крестьянскую трагедию Анценгрубера надо непременна перевести вновь, перевести живым мягким языком, чтобы пьеса эта перестала быть пьесой для чтения, а заняла законное место в репертуаре больших театров, и в особенности в репертуаре театра крестьянского.
II
Мне приходилось уже писать о репертуаре, но теперь, когда я лично стою непосредственно во главе Театрального отдела и когда мы находимся в самом начале сезона, в момент определения театрами своего репертуара, вопрос о нем становится особенно острым.
Беспрестанно раздаются запросы: освежите ли вы репертуар театров, сделаете ли вы его более политическим, более отвечающим переживаемым событиям, более близким социалистическим запросам масс? и т. п.
Это гораздо легче сказать, чем сделать. Я говорю здесь не об естественном сопротивлении театров, приобретших определенные навыки и определенный метод оценки пьесы, так как такое сопротивление — наименьшее из препятствий. Нет, я говорю о почти полном отсутствии репертуара, какой обыкновенно имеют в виду товарищи, призывающие нас «революционизировать» театры.
Революционный театр?
Правда, я несколько раз указывал на то, что разделять театр на буржуазный и пролетарский и к буржуазному театру относить все, созданное в этой области человеческим гением за много тысяч лет, а к пролетарскому… я не знаю, собственно, что, — крайне неверно.7 Нам незачем так легко уступать корифеев всечеловеческого театра буржуазии. В огромном большинстве случаев великие драматурги, как и другие великие художники, принадлежали к межклассовой, ближе всего к мелкой буржуазии относящейся, группе интеллигенции.
Группа эта бывала иногда под давлением той или другой аристократии, в иное время и под давлением крупной буржуазии, но очень часто стремилась проложить свои собственные пути, идеалистические, мистические, оторванные от жизни, а порою вступала с буржуазией в борьбу, выступала с пророческими разоблачениями, бичевала ее. Бывало, наконец, и так, что интеллигенция заключала союз с бунтующими низшими классами, и тогда делались попытки создать революционный театр.
Но попытки последнего типа особенно редки. Из этих редких попыток приходится вычесть еще все то, что имеет, я бы сказал, правоэсеровский или меньшевистский характер. В самом деле, мало ли всякого гуманистического нытья по поводу жестокости революции. Разве «Дантон» Бюхнера, который считался невозможным по политическим соображениям в период царей и казался слишком революционным в конституционной Германии, не оказался теперь контрреволюционным, когда был поставлен в театре Корша?8 Разве можно сейчас с легким сердцем рекомендовать пьесы Ромена Роллана?9 Это благородные вещи, полные психологической правды, литературные, изящные, но они до такой степени заражены духом, совершенно противоположным суровому мужеству революции, что многое в них в настоящее время прямо шокировало бы тех, кто хотел бы смотреть на театр как на источник коммунистической пропаганды.
Лучше совсем не трогать политики, чем заставлять с подмостков произносить речи против террора, или, как в «Ткачах»,10 изображать в мрачных красках голод в нашей голодной стране и т. п.
Если в театральной литературе и мало революционных пьес, то еще меньше пьес, родственных коммунизму, его крайне острой революционности, выражающейся в действиях, свойственных диктатуре.
Новые пьесы. Мы, конечно, приветствовали бы появление всякой новой революционной пьесы, но я решительно сомневаюсь в самой возможности появления непосредственно теперь пьес, о которых мечтают товарищи, требующие «политического» репертуара.
Я перечитал несколько десятков пьес, описывающих наш современный быт и написанных коммунистами. Порою это довольно ярко, но это утомительно, прямо–таки невозможно на сцене. Описание зверств белогвардейцев, воспоминание о недавних жандармских зверствах, всякого рода попытки инсценировать массовое движение, — но ведь все это мы имеем в жизни и все это в жизни гораздо ярче! Театр, пускаясь на этот путь, представляется какой–то обезьяной, стремящейся гримасами скопировать потрясающие события, развертывающиеся перед ним.
Театру не угоняться за революцией. Наш театр теперь — театр военных действий, наш театр — это мировая арена, и газета каждый день, улица каждый час дает больше впечатлений, чем может дать их сцена.
Надо отметить, что и в эпоху Великой французской революции тогдашний революционный театр менее всего изображал непосредственно самую революцию.
Попытки этого рода почти никогда не увенчивались успехом. Эпоха искала подобных себе явлений в прошлом, отдаляя их от себя, и творила историческую драму, пропитанную, однако, насквозь революционным духом.
Точно так же можно представить себе фантастические символические пьесы, окрыленные философией нашей революции.
Подобные пьесы возможны. Подобные пьесы придут. Подобные пьесы, быть может, уже есть.
Насколько они будут хороши, насколько театр сможет усвоить их, это покажет будущее *.
Ну, а в остальном, что же, театры должны остаться при том репертуаре, которым они перебивались до сих пор?
Ни в каком случае. Во–первых, репертуар должен измениться в смысле его очищения, во–вторых, он должен измениться в смысле обогащения.
В чем должно заключаться очищение репертуара? Во–первых, само собой разумеется, с подмостков должно сойти все то пошлое, гривуазное, чем заманивал свою публику разухабистый буржуазный театр — «развлекатель»; во–вторых, надобно выбросить совершенно все эти так называемые «сценические» пьесы французских мастаков сцены с их вечными перепевами адюльтерного мотива, весь французский бульвар, почти до дна загубивший театр.
Я думаю, что должны постепенно сойти со сцены все те чисто бытовые пьесы, которые характеризовали собой недавнее безвременье и которые детальными чертами, скучной прозой старались, как в зеркале, отразить серые будни, в которых тонула тогда человеческая душа.
Все это сейчас никому не нужно, это могут смотреть какие–нибудь последыши, мы же должны рассчитывать на новую публику.
Кто эта новая публика? В настоящей статье я оставлю в стороне крестьян — о крестьянском театре приходится говорить особо. Но это прежде всего пролетариат, особенно в его культурнейшем слое, а затем и интеллигенция. Лучшая часть интеллигенции — молодежь — переживает мучительные процессы: она может быть далека от коммунизма или близка к нему, но она мечется сейчас, и если только мы говорим людям со сколько–нибудь открытым мозгом и сердцем, то здесь не может быть недостатка в задумчивости над самыми высокими проблемами и в душевной потрясенности **.
* Мы имеем в этом отношении кое–какое продвижение. Репертуар, отражающий художественно так называемый вчерашний день революции, появляется. Однако ни одного более или менее образцового в этом отношении произведения мы не имеем. (Примечание — октябрь 1924 г.)
** Огромный рост комсомола и широкое развитие пролетстуденчества за это время остро ставят вопрос (и экономически и идеологически) о театре и молодежи. Комсомол, наверное, скоро крикнет: «Даешь театр!» (Примечание — октябрь 1924 г.)
Для всей этой публики должен быть создан великий театр, театр захватывающих широких идейных проблем и глубоких, глубинных чувств.
Такой театр есть. Я не могу сказать, что русский театр недавнего прошлого совсем проходил мимо подобных пьес, но такое утверждение было бы все–таки почти верно. Пройдем слегка пока поверхностно, пока предварительно по репертуару человеческого театра *, и мы увидим, что целый ряд великолепных пьес, то по какому–то недоразумению, то по нелепому и сейчас совершенно отжившему требованию «сценичности», в котором сказывается сплошь режиссерско–актерская рутина, оставался позади.
* В первой публикации статьи было — всечеловеческого. — Ред.
Начнем с греков. Даже в рутинном Париже я присутствовал при том, как публика была захвачена «Персами»11 Эсхила, у нас же не ставят никогда: ни «Прометея»,12 ни «Орестеи».
Почему? Разве это не вечные, человечеству всякому близкие образы? И разве трудно пролетариат и школьников, которые культурно менее подготовлены к пониманию античного способа выражения, подготовить к этому соответственными статьями и лекциями? Считается, что «Эдип–царь»13 сценическая вещь, и она не дается никогда. С «Антигоной» уже хуже, но если заговорить об «Эдипе в Колоне» или о «Филоктете», то, пожалуй, сейчас же услышишь: это ведь не сценично. А я определенно утверждаю противное. Я утверждаю, что можно дать второго «Эдипа» или «Филоктета» так, что изложенные в них вечные проблемы и вложенная в них высокая красота захватят зрительный зал, конечно полный серьезной публикой.
Почему у нас совсем не дают Еврипида, такую изящную и победную мелодраму, как «Алцеста», к которой к тому же есть музыка Глюка (без необходимости давать при этом оперу того же имени).14
Почему в Германии слегка переделанные для сцены «Троянцы» могут иметь успех, а у нас никто не делает подобной попытки?15 Еврипид может один дать несколько интереснейших задач художественному коллективу.
Я считал бы в высшей степени отвечающим моменту попробовать также возобновить на сцене в приспособленной для наших театров форме сверкающий и умный смех Аристофана., особенно «Облака».
Перейдем к другому кульминационному пункту театра. Действительно ли мы использовали испанцев? Между тем можно подумать, что в сверкающем всеми красками, поистине гениальном и несравненном испанском театре только и есть, что «Собака садовника» да «Овечий источник».16
А Шекспир и шекспиристы?
Конечно, Шекспир является одним из поставщиков и старой сцены, и, по правде сказать, уже поистине порядком понадоели нам Гамлеты, Лиры и Макбеты, хотя они, конечно, будут очень новы, очень поучительны для публики, стоявшей в стороне от театра (пусть не заподозрят меня исключительно в погоне за новинками), но все–таки разве не странно, что такие вещи, как «Мера за меру», с ее титаническим размахом, с ее великой, глубинной идеей, с ее неподражаемой сценичностью, — ее изумительными мерцаниями от глубины трагической до безудержного юмора, никогда, если не ошибаюсь, не видели сцены в России,17 да и на Западе. Не только «Мера за меру», — вооружитесь–ка томами Шекспира, и вы увидите, как мы неблагодарны к этому богу, как мы односторонни в нашем суждении о нем. И когда мы поймем всю прелесть так называемых второстепенных пьес Шекспира, когда мы не будем больше бояться (а народная публика отучит нас от этого) его крупной соли и его порою «вульгарной» патетики, то мы поймем также, какой клад оставили нам и шекспиристы: Марло, Форд и другие.
А немецкий театр? Тут приходится прямо руками развести, отчего немецкому театру так не повезло в России. Неужели мы столь малоинтеллигентный народ, что не перевариваем его именно за умность? Ведь, кроме Шиллера, ни один из титанов немецкого театра не имеет к нам доступа. «Фауста» Гёте мы знаем только по опере Гуно,18 «Торквато Тассо» до сих пор считается не сценическим, между тем это нежнейший и глубочайший шедевр.
Мы совсем не знаем Клейста — ни «Кетхен»,19 ни «Пентесилеи», только царица немецкой комедии «Разбитая кружка»20 стала более или менее известной русской публике.
А Геббель? А Грильпарцер? Мы ухватились за тяжеловатого в своем мещанстве Зудермана.21 Мы довольно интенсивно откликнулись на творчество Гауптмана, но и тут ухитрились пройти мимо самого гениального из его произведений, мимо мистерии «А Пиппа танцует».22
Казалось бы, мы использовали французский театр вдоль и поперек. Ничего подобного. Я лично думаю, что у Корнеля можно найти несколько настоящих мелодрам, которые могли бы захватить современных слушателей, но я редко помню спектакль более высокий и более трагический, чем «Гофолия» («Аталия») Расина, хотя бы с музыкой Мендельсона.
Французский романтический театр, французская мелодрама нам неизвестны или известны совершенно отрывочно.
Из современных французов мы взяли самых худших. В последнее время один из французских драматургов как будто начинает привлекать к себе внимание русских театров — это Клодель, но, конечно, берутся за малого Клоделя, за уже поставленные в одном французском театре пьесы, вроде «Залога», «Благовещения»23 и т. п. Говорят также о постановке изящной и, в сущности, не клоделевской пьесы «Протей».
Но ведь Клодель автор мистерий, которые, независимо от кое–какого католического душка (от него Клодель нигде не может отделаться), ставят тем не менее такие громадные проблемы и создают такие незабвенные образы, что они–то и делают Клоделя великим в глазах мыслящей Франции.
Франция прошла мимо «Рабов» Сен–Жоржа, мимо «Армии в городе» Жюля Ромена,24 но неужели и мы должны пройти мимо них? Ведь это, помимо всего прочего, прямо–таки отвечающие нашему антиимпериализму пьесы.
Я не могу, конечно, исчерпать даже хоть бы в таком беглом полете все, что таит в себе человеческий * репертуар.
Поэты облекали беспрестанно в драматическую форму свои затаеннейшие мечты. Будет время, когда, быть может, при помощи других поэтов в некоторой переделке для театра мы увидим и «Освобожденного Прометея» Шелли,25 и великие драмы–мистерии Байрона, и «Иридиона» Красинского, и «Адама» Мадача,26 и многое другое.
Надо только прямо сказать себе, что театр не должен устремляться к кинематографскому завету действия, что новая публика сможет, затаив дыхание, слушать и дискуссию на сцене и монолог, следить за выразительной пластикой артистов, лишь бы все, что будет говорить его голос или жест, было сосредоточенно, важно, жизненно.
Вот один из путей театра. А рядом открываются и другие, о которых мы поговорим в следующий раз. Рядом открывается и путь реалистической сатиры, и игривый театр, и детский театр, и т. д. и т. п. **.
* В первой публикации статьи было — всечеловеческий. — Ред.
** В общем, все, что остается верным и для наших дней. [Примечание 1924 г. ]
III
Очень интересный этюд по репертуарным вопросам в рамках немецкого театра, конечно, посвящает известный критик Штернталь в одном из последних номеров журнала «Der neue Merkur».27 Статью эту он начинает такими многозначительными словами:
«Если когда–нибудь театр отражал свое время, то это именно берлинский театр в 1921 и 1922 году, и при этом время отшатнулось, как Калибан от зеркала. В берлинском театре мы имеем остатки умирающей традиции, слабые черты какого–то нового изображения всяких схем, считающих себя, однако, за подлинную плоть и кровь. Словом, хаос. Настоящими корнями этого хаоса является развал немецкого хозяйства и развал старого миросозерцания».
И далее: «Старое миросозерцание умерло, новое только рождается, и поэтому отсутствует духовный импульс, который подвинул бы актера к величайшему развитию сил, режиссера — к централизации своего руководства, а не простому экспериментированию. Что может сейчас держать актера на сцене? Разве только тщеславие. Материально же его совершенно перехватывает кино».
Берлинский репертуар, по мнению Штернталя, ужасен. Главное, в чем он упрекает его, — это в отсутствии какой бы то ни было продуманной линии. Упрек этот, по его мнению, верен и по отношению к государственным театрам. Как известно, во главе главного берлинского драматического государственного театра стоит Леопольд Иесснер, известный режиссер. Он склоняется к героической драме Шекспира, а также к драме Шиллера и Граббе, которые Штернталь называет драмами, желающими быть героическими. Из комедий сыграны: «Буря» Шекспира, «Леоне и Лена» Бюхнера и комедии Гольдони. Ближайшим помощником Иесснера является Юрген Иеринг, недавно перешедший на государственную службу. В театре «Фольксбюне»,28 где он был руководителем по репертуару, ставили много пьес из области большой комедии: «Обращение капитана Брассбаунда» Шоу, «Комедия ошибок» Шекспира и т. д.
Иесснер и Иеринг, по мнению Штернталя, полагают, что большая комедия представляет собою наиболее подходящее для нашего времени зрелище, ибо, по мнению Штернталя, драма, и в особенности идеалистическая драма шиллеровского типа, перестала действовать на современников, настроенных иронически, не знающих, во что верить, и, во всяком случае, потерявших веру в прежние идеалистические иллюзии.
Из всего этого, правда, довольно трудно заключить, почему Штернталь так нападает на берлинский репертуар, ибо вышеуказанные пьесы, несомненно, прекрасные пьесы, и приведенный здесь репертуар государственного драматического театра должен быть признан удовлетворительным. Но Штернталь идет по правильной линии. Ему хочется выдержанности репертуара, и он не ограничивается одними упреками, а хватает быка за рога и дает абрис такого репертуара.
«Мы переживаем конец буржуазного мира, — говорит он (знаменательное признание в устах критика, который к социализму официально никогда не принадлежал). — Символы этого времени для нас умерли, а где символы потеряли значение, там, очевидно, должно быть место для веселой или горькой критики. Комический роман, пасквиль, комедия — вот чего просит время. Комедия в конце культурной эпохи должна быть разгероизирующей. В этом направлении работают два замечательнейших беллетристических ума Европы — Анатоль Франс и Бернард Шоу».
И в старом классическом репертуаре надо искать отзвуков по этой линии, как думает Штернталь. Ему кажется, что надо возобновить Аристофана (кстати, к этой же мысли пришел В. И. Немирович–Данченко),29 Менандра, Бомарше, Мольера и Гольдони. Из нынешних писателей центральным кажется ему Шоу. Он считает стыдом для Берлина, что «Человек и сверхчеловек» шел только частично, а «Дом разбитого сердца»30 и «Назад к Мафусаилу» еще совсем неизвестны Берлину.
По этому поводу я должен сказать, что и нам, пожалуй, в достаточной мере стыдно констатировать почти полное отсутствие Шоу на наших сценах. Как нарочно, взяли такую нарочито слабую вещь его, как «Екатерина»!.31
Я не согласен со Штернталем в утверждении его, что комедия есть главная ось новейшего театра. Я думаю, что наше время не только, как думает чистый интеллигент Штернталь, время смерти старого героизма. Оно также время нового героизма, а поэтому, конечно, и новых символов, и нового пафоса, и новой трагедии. Комедия, конечно, должна занимать у нас огромное место. Шоу — замечательный иронист и разрушитель, и мне неоднократно приходилось указывать на богатейшую сокровищницу его комедий.
Очень странно только, что Штернталь несколько пренебрежительно относится к высокоталантливому драматургу Кайзеру и, заявив, что он в экспрессионизме занимает то же место, какое Зудерман занимал в натурализме, совсем ничего несказал о таком замечательном комедиографе, как Штернгейм. Я хорошо знаю драматургию Штернгейма и должен сказать, что комедия его ни в коем случае не ниже комедии Бернарда Шоу, что и Кайзер отнюдь не заслуживает того поверхностного отзыва, который дает Штернталь. Очевидно, нет пророка в своем отечестве.
Всячески настаивая на центральном месте комедии в репертуаре, Штернталь говорит, что только после серии комедий можно приступить к постановке таких драм, в которых раскрыты сверхчеловеческие огромные перспективы и которые поэтому созвучны нашему времени. Такими он. считает «Эдуард II Английский» Марло, «Антоний и Клеопатра», «Троил и Крессида», «Зимняя сказка», «Венецианский купец», «Король Ричард II», «Король Генрих IV», «Отелло» и «Буря» Шекспира. Далее он выделяет «Федру» и «Британника» Расина. Считает возможным включить в репертуар кое–что из пьес Ленца и Клингера — второстепенных драматургов времени «Бури и натиска»32 Гёте, Клейста, Бюхнера, Байрона. Из других пьес полагает, что можно почерпнуть кое–что у Гоголя, Чехова, Гауптмана, Ведекинда. Ибсена и Стриндберга он предлагает играть как можно меньше, хотя и не забрасывает окончательно.
Во всем этом довольно интересном рецепте замечается некоторая чисто немецкая черта. Например, Ибсен и Стриндберг заиграны в Германии до невозможности. Вряд ли русский театр в этом отношении может говорить о них, так сказать, по–немецки. Мы пьес Стриндберга почти совершенно не знаем. Не знаем ни его исторических пьес, за исключением «Эрика XIV», ни его последних символических пьес. Я отнюдь не поклонник стриндбергского экспрессионизма, но, разумеется, серьезный русский театр должен был бы нам дать в своем роде все–таки изумительную «Сонату привидений». Думается, что и Ибсен не пережил себя.
В остальном отмечу некоторые совпадения. Например, и у нас много играли и очень часто и сейчас играют Шекспира. Некоторые указания в этом отношении у Штернталя верны» «Троил и Крессида» содержит в себе всего последнего Шоу в смысле манеры и относится, конечно, к области большой комедии. Эта пьеса в высокой мере заслуживает постановки. Очень правильно также указание на «Антония и Клеопатру». Чехов попал, конечно, потому, что его в Германии совсем не знают. Я думаю, что Чехов в нашем русском репертуаре сейчас вряд ли нужен.
Большое место, которое желал бы видеть, отведенным Мольеру Штернталь, тоже законно и для русского театра.
«Буржуазный героизм Шиллера, Граббе, Грильпарцера, Отто Людвига для нас совершенно невыносим. Умер для нас также и Метерлинк». И здесь прямое перенесение этого суждения в Россию, думается мне, было бы неправильным. Мы очень мало знаем Грильпарцера, в то время как немцам он, пожалуй, приелся. Я думаю, что некоторые вещи Грильпарцера могли бы пойти сейчас с большим успехом. Не в том дело, чтобы они были созвучны нашей эпохе, а в том, что они прекрасны и неизвестны нам. Надо познакомить с ними как с известным этапом благородного театра. В этом отношений с маленькой переделкой очаровательная комедия «Никогда не лги» могла бы даже показаться и идейно для нас глубоко приемлемой, в особенности как спектакль для детей старшего возраста. «Братская ссора в доме Габсбургов»33 хотя и пропитана чуть–чуть в других драмах чрезвычайно сильным грильпарцеровским патриотизмом, но является, по моему мнению, одной из лучших исторических драм, какие существуют в мировом репертуаре, и дает богатейший материал для актера. Великолепная вещь также и «Еврейка из Толедо». Вот эти пьесы должны были бы непременно взойти на нашу сцену.
Я готов согласиться с тем, что говорит Штернталь об остальных драматургах, даже о Шиллере. Шиллер у нас занимает довольно большое место. За последнее время были поставлены его «Коварство и любовь»,34 готовится к постановке «Заговор Фиеско».35 Это ни хорошо, ни плохо. Можно пройти относительно равнодушно мимо этого. Конечно, новая публика, не знающая Шиллера, должна непременно узнать его по лучшим образцам.
Представителем нового героизма считает Штернталь молодого немецкого писателя Унру, и при этом он особенно подчеркивает значение его последних произведений. Надо сказать, что эти последние произведения произвели на меня чрезвычайно сумбурное впечатление. Унру, конечно, талантлив, но до крайности хаотичен и поэтому мало сценичен. В первых своих произведениях «Принц Фридрих Прусский»36 и «Офицеры» Унру стоит выше, но и там он не особенно оригинален. Штернталь совершенно презрительно отзывается об остальных новейших произведениях Корнфельда, Газенклевера и Вида и более известном теперь в России товарище нашем, коммунисте–драматурге Толлере. Ему кажется, что все они взвинчены и несколько лицемерны. Думаю, что отзыв о Толлере неверен.
В настоящей заметке я отнюдь не думаю давать какие–нибудь систематические указания относительно репертуара, а только сообщаю с комментариями мнение одного из культурнейших критиков Германии.
IV
На один из наших конкурсов, кажется более года назад, в ТЕО поступила пьеса под названием «Власть» с девизом «С востока свет».
Пьеса эта была забракована, но тов. Балтрушайтису пришла в голову счастливая мысль пересмотреть еще раз самому забракованные пьесы. Прочитавши «Власть», он сразу понял, что по отношению к ней была совершена несправедливость. Он извлек ее из забракованного материала и направил ко мне.
Автор ее, несомненно, коммунист, ибо пьеса написана в более или менее выдержанных коммунистических идейных тонах. Мы знаем теперь, что это — тов. Тверской, ближе мне неизвестный, но возбудивший во мне самые лучшие надежды.
Пьеса странная, в ней слышатся разные отголоски. Автор, очевидно, много читал и подпадает под многоразличные влияния. Тут есть и эхо «Царя Голода» и вообще андреевская манера, тут есть что–то от д'Аннунцио («Слава»), в основном положении сказывается влияние «Заговора Фиеско» Шиллера.
Пьеса не сложна, единства действия в ней нет, нет и единства стиля, драматическое содержание в ней довольно бедно, обрисовка характеров бледная, суммарная, но в целом это привлекательное произведение, свидетельствующее о весьма недюжинном даровании автора. В некоторых местах вспыхивает положительно яркий символический талант. Отдельные драматические положения эффектны, отдельные речи, отдельные лирические моменты в них горячи и оригинальны.
Повторяю, как драма эта пьеса отличается многими слабостями, но даже в таком своем виде она вполне заслуживает постановки. Что в особенности привлекает к ней — это местами удавшаяся попытка пользоваться самыми новыми приемами письма. Острая символика, интересная смелая стилизация и рядом с этим искренне целостное революционное чувство.
Третьей порадовавшей меня пьесой является либретто тов. Шнейдера для балета под названием «Золотой король».
Это либретто переслано мною дирекции Большого театра, от которой я и жду ответа. Я не знаю, правильно ли рассчитывает тов. Шнейдер, что либретто его полностью подходит под «Поэму экстаза» Скрябина, но само по себе оно превосходно. Тема его как нельзя более проста: это борьба трудящихся масс с золотым кумиром и победа над ним. Оно разработано ярко, живописно, в лучшем смысле этого слова, балетно и феерически. Когда я представлял себе эти сменяющиеся сцены подавленного труда, циклопического создания, которые могли бы дать повод для таких великолепных комбинаций напряженных человеческих тел и громадных глыб, постепенно складывающихся в монументальную постройку, эти картины леса проклинающих рук, поднимающихся к золотому кумиру и в бессилии падающих, как плети, эти расстилающиеся и падающие тела, с другой стороны, вакханалию пиршества и разврата вокруг золотого идола, всю эту пляску тщеславия, чувственности, порока и самодовольства, а потом сцену крушения чудовищной золотой культуры в разъяренных волнах моря человеческих тел, уже выпрямившихся, ринувшихся на борьбу за свою свободу, и, наконец, светлый праздник труда с сияющим танцем девушек, юношей и детей на заре новой эпохи, — я полностью чувствовал, что такое зрелище, поставленное с настоящим режиссерским искусством, превратило бы этот балет в один из любимейших спектаклей нашего пролетариата, который как в Москве, так и в Петрограде чувствует сильно прелесть балета с его бросающимся в глаза мастерством, с его подкупающей грацией, с его ласкающей красотой.
Балет как спектакль для народа колоссально силен, но пока эта сила его влита в глупые мелодрамы и монотонные красивые па. Балет сам не сознает своей силы, не хочет ее сознать, он сам еще влачит на себе цепи недавнего рабства публике похотливой, извращенной. Хотелось бы думать, что удавшаяся попытка Шнейдера окрылит и музыкантов, и режиссеров, и декораторов, и самих балетных артистов и даст возможность Большому театру в ярком новом достижении дать нечто действительно соответствующее запросам героической эпохи, в которой старые театры — отрицать этого нельзя — частью выделяются довольно–таки серым пятном.
V
В моей прошлой статье я указал на то, что революционные пьесы есть, но их крайне мало. Умножить их количество — это, конечно, важная задача Театрального отдела. Мы прибегаем и впредь будем прибегать к конкурсу, по правде сказать, до сих пор (вне области детского театра) не давшему ощутительных результатов. Мы перечитываем значительное количество рукописей новых авторов или небольших пьес, изданных в провинции, — пока я не могу остановиться ни на одной из них, ни одну не могу серьезно рекомендовать для постановок. В смысле новых пьес революционного содержания приходится ждать и надеяться.
Заграничная литература тоже не так богата приемлемыми для нас революционными пьесами; никоим образом нельзя сказать, чтобы те революционные пьесы, которые уже переведены на русский язык, можно было признать вполне удовлетворительными. Конечно, «Зори» Верхарна — вещь превосходная, но мало сценичная, требующая значительной переделки; удачных переделок я еще пока не видел, но считаю ее вполне возможной и нужной. О «Ткачах», о пьесах Ромена Роллана (за исключением, пожалуй, «Бастилии»), о «Дантоне» Бюхнера я уже писал. С новой пьесой, взятой из жизни Дантона и шедшей в Петрограде, я незнаком.37 Кажется, петроградские товарищи отзываются и о ней не совсем одобрительно.
Говорят о значительном успехе не виданной еще мною пьесы «Легенда о коммунаре», которую дает петроградский Рабочий Героический театр.38 Такие пьесы из рабочей жизни, как «Ткачи» Гауптмана, «Углекопы» Делле–Грацие, «Борьба» Голсуорси, пожалуй, «Дурные пастыри» Мирбо,39 могут, конечно, рекомендоваться более или менее смело для постановок в театрах, рассчитывающих в особенности на рабочую и красноармейскую публику.
Но, по существу, все эти пьесы, изображающие стачечную борьбу с капиталом, рисуют уже прошлое и вряд ли будут приниматься новой публикой с особенно острым интересом.
Существует еще некоторое количество революционных пьес в западной литературе, не переведенных пока и подлежащих переводу. Сюда репертуарная секция направила особое внимание. Лично я рекомендовал бы как можно скорей получить из–за границы и перевести на русский язык следующие глубоко революционные пьесы: «Космополис» Барнаволя, «Армия в городе» Жюля Ромена, «Рабы» Сен–Жоржа де Буэлье, некоторые пьесы драматурга–анархиста Отто Борнгребера, «Горгона» Сема Бенелли, «Утро» Ганса Ганца.
К сожалению, эти пьесы, которые послужили бы серьезным фондом как для театров характера агитационно–популяризирующего, так и для Показательного Государственного театра, пока не только еще не переведены, но даже при всех моих стараниях не получены из–за границы.
Среди пьес народных в настоящее время репертуарной секцией (до моего вступления заведованием отделом) намечалось несколько революционных пьес, на которых я сейчас остановлюсь особенно. Это прежде всего пьеса Гуцкова «Пугачев».40 Автор — большой мастер сцены. В своем «Пугачеве» он создал мастерскую мелодраму, достаточно сценичную, чтобы при хорошем исполнении захватить здоровую народную аудиторию. Пьеса имеет очень крупные недостатки, она написана из русской истории и русского быта человеком, мало с ними знакомым, и поэтому производит странное впечатление на русского читателя. Ни исторической, ни бытовой правды в ней нет. Пугачев и окружающие его казаки производят несколько оперное впечатление, нет исторической правды ни в «трагическом» Орлове, ни в «благородной» Екатерине.
Я думаю, что следует предупреждать публику перед началом спектакля о том, что пьеса эта, написанная немцем, не претендует на полный реализм. Но зато она действительно полна благородным революционным настроением, над ней веет дыхание свободы. При хорошем исполнении Пугачев должен стать для публики глубоко симпатичным носителем чисто народной идеи о справедливости. Искусная, хотя и искусственная связь событий держит зрителя все время в напряжении. Я не удивляюсь поэтому, что пьеса уже ставилась в Петрограде и что, насколько я знаю, к постановке ее готовятся многие театры в провинции; надо надеяться, что она будет поставлена и в Москве. При всех своих недостатках, только что отмеченных, пьеса безусловно может рекомендоваться к постановкам для новой, самой дорогой нам публики.
Еще лучше пьеса Потшера «Свобода».41 Эту пьесу Театральный отдел рекомендовал для постановки в «день советской пропаганды». Государственное издательство издало ее по нашей просьбе с особенной поспешностью, но все–таки брошюра не увидела свет вовремя. Это ничего, она пригодится нам — для других наших революционных празднеств и вообще достойна стать обиходной пьесой, в особенности при районных спектаклях, спектаклях на фронте и т. п. Пьеса Потшера написана в старореволюционном духе, в ней есть некоторый французский патриотизм, но так как патриотизм этот взят в огне великой революции, то его охотно прощаешь. Простой, но величественный пролог, интересный подход к революции, доказанной, так сказать, словно в отражении солнца в малой капле воды — в отдельном отзвуке на Вогезах, живое простое действие, безусловное красноречие, с которым провозглашаются основные идеи революции, — все это делает пьесу чрезвычайно желательной как пьесу пропаганды. Некоторая искусственность в ее построении объясняется, по–видимому, тем, что Потшеру хотелось создать пьесу, которую можно было бы играть без занавесей и рампы, под открытым небом. Повторяю, я рекомендую пьесу Потшера вниманию театров, желающих идти навстречу новой публике. Пьеса проста, непритязательна, не претендует на какую–нибудь особенно высокую художественность, но она задушевна, горяча, весьма литературна, сценична и должна быть отнесена к числу лучших революционных пьес, какими мы сейчас располагаем.
Я должен признаться с некоторым конфузом, что перевод, данный в издании отдела, которым я непосредственно руковожу, плох. Я принял меры к тому, чтобы впредь к переводам относились более бережно. Гр. Поляков хороший переводчик, но, очевидно, отнесся к своей задаче с слишком большой спешкой, на каждом шагу попадаются ужасающие галлицизмы, на которых может сломать себе язык всякий актер. Приходится надеяться, что актеры сами переделают попадающиеся нелепые чисто французские построения простыми русскими.
Гораздо менее удачна тоже только что изданная пьеса Сема Бенелли «Лассаль».42 Сем Бенелли — блестящий западноевропейский, итальянский драматург. Рядом с Бракко (в его последних пьесах) он является лучшим драматургом Италии и одним из крупнейших драматических поэтов современной Европы. Но «Лассаль» — пьеса юношеская и технически крайне слаба. Исторически она довольно верна, но психология в ней примитивная, борьба партий представлена в виде довольно скучных речей, образы тусклы, и действие развертывается слабо. Намечая эту пьесу, руководились, конечно, бросающимся в глаза соображением: пьеса чрезвычайно крупного автора о великом революционере, притом написанная с горячей симпатией к Лассалю. С точки зрения политической она более или менее безукоризненна и в известной мере знакомит с образом Лассаля, поэтому нельзя ничего возразить против попыток поставить эту пьесу. Но сдается мне, что по своей литературной, сценической слабости пьеса не сможет удержаться в репертуаре театров, желающих стать подлинно народными.
Соединяя в этом пункте обещания, мною данные, разъяснить соображения, руководившие Государственным Показательным театром при выборе репертуара, с сегодняшней моей задачей указать некоторые пьесы революционного репертуара, скажу еще об открытой мною пьесе Стюпюи «У Дидро», которой откроется наш Показательный театр.
Пьесу эту я отыскал случайно на базаре в г. Ярославле. Этот перевод вообще неизвестного мне автора (Стюпюи) сделан очень известным переводчиком Вейнбергом, и сделан с блестящим мастерством (в стихах). Напечатана пьеса была в 1875 году. За отделяющие нас от ее напечатания сорок лет с лишним никто о ней не говорил и, по–видимому, ее не знал.
До крайней мере я никогда о ней ничего не слышал. Между тем это превосходная пьеса. В ней даны чрезвычайно яркие характеристики самого Дидро, его брата аббата — обывателя, знаменитого щелкопера и лизоблюда Рамо, который изображен красками, заимствованными из великого портрета его, набросанного самим Дидро. Несколько бледны, но все же чрезвычайно удачны фигуры Вольтера, Руссо и других. Пьеса написана с свойственным французам изящным мастерством, в блестящем стихотворном диалоге, дающем возможность на пикантном случае из жизни Дидро развернуть перед нами всю глубину его души, все трудности его призвания и зародить в душе читателя, а еще более зрителя утренние чувства, ибо именно чувство надежды, надежды на весну, которая придет, может быть, после смерти первых ласточек, ее возвестивших, проникает собой эту милую, остроумную пьесу. Хотя революция взята в пьесе только с точки зрения борьбы с невежеством и предрассудками религии, хотя в ней наша северная Семирамида 43 является сравнительно в благоприятном положении (исторически точно), все же пьеса безусловно может: быть причислена к революционному репертуару.
- Луначарский имеет в виду свое возвращение в Россию в мае 1917 года из длительной эмиграции. ↩
- «Новая жизнь» — газета меньшевистского направления, издававшаяся с апреля 1917 по июль 1918 года в Петрограде. ↩
- ТЕО — Театральный отдел, организованный при Наркомпросе в январе 1918 года. В ТЕО входил ряд секций, в том числе историко–театральная, репертуарная и др. Репертуарная секция составила списки пьес, рекомендуемых к постановке, осуществила издание целой серии классической русской и иностранной драматургии. ↩
- См. статью пятую настоящего цикла. ↩
- Русский перевод пьесы И. Стюпюи «У Дидро» впервые был опубликован в журнале «Отечественные записки» (1875, № 12) и выпущен также отдельным оттиском; после Октябрьской революции не переиздавалась. Пьеса была поставлена в Государственном Показательном театре (Москва) в начале декабря 1919 г. Постановка А. П. Зонова. Художник — И. П. Ульянов. Государственный Показательный театр (главный режиссер В. Г. Сахновский) ставил в основном пьесы классического репертуара. Закрылся в 1920 году. ↩
Перевод пьесы Л. Анценгрубера «Нашла коса на камень» был издан в Москве издательством «Польза» В. Антик и Ко в 1908 и 1911 годах.
В 1919 году пьесу издало Московское издательство ВЦИК рабочих, солдатских, крестьянских и казачьих депутатов.
↩- См. в наст, томе статью «Из московских впечатлений». ↩
- Премьера исторической драмы Г. Бюхнера «Смерть Дантона» в обработке А. Н. Толстого состоялась в московском Театре б. Корша 9 октября 1918 года. Постановщик — А. П. Петровский. Художник — Е. Соколов. ↩
- Об отношении Луначарского в этот период к Р. Роллану см. в т. 4 наст. изд. статью «Новая пьеса Ромена Роллана» и примеч. к ней. ↩
- Пьеса Г. Гауптмана «Ткачи» в 1918 году была поставлена в Театре Дома рабочих Петроградской коммуны. ↩
- Луначарский имеет в виду постановку трагедии Эсхила «Персы» в театре «Odeon» в октябре 1912 года. ↩
- Имеется в виду трагедия Эсхила «Прикованный Прометей». ↩
- Трагедия Софокла «Царь Эдип» была поставлена в Театре трагедии Ю. М. Юрьева весной 1918 г. в помещении цирка в Петрограде. Далее Луначарский называет трагедии Софокла «Антигона», «Филоктет» и «Эдип в Колоне». ↩
- Трагедия Еврипида «Алкестида». ↩
- Вероятно, имеется в виду пьеса Еврипида «Троянки». ↩
- Луначарский говорит о пьесах Лопе де Вега «Собака на сене» и «Овечий источник», которые были поставлены во многих театрах после революции: «Собака садовника» — в 1918 г. в Замоскворецком театре Москвы, в 1919 г. — в Малом театре; «Фуенте Овехуна» — в 1919 г. в Киеве К. А. Марджановым и многие другие постановки. ↩
- Пьеса В. Шекспира «Мера за меру» была поставлена в России дважды Малым театром: в 1868 году, а также в 1880 году в бенефис М. Н. Ермоловой. О постановке пьесы в Государственном Показательном театре см. статью «Хороший спектакль». ↩
- Трагедия Гёте «Фауст» ставилась в сезон 1877/1878 года в Малом театре, в сезон 1901/1902 года — в Александрийском, в сезон 1912/1913 годам — в Театре Незлобина. ↩
- Драма Г. Клейста «Кетхен из Гейльбронна» (1810). ↩
- Комедию «Разбитый кувшин» Г. Клейста поставил Государственный Показательный театр в декабре 1919 года. ↩
- В 1909 году Театр В. Ф. Комиссаржевской поставил пьесу Ф. Геббеля «Юдифь» и пьесу Ф. Грильпарцера «Праматерь». В 1892 году на сцене Малого театра шла «Сафо» Грильпарцера. Пьесы Г. Зудермана пользовались широкой популярностью в конце XIX — начале XX века? в России и многократно ставились на провинциальной и столичной сценах («Бой бабочек», «Счастье в уголке» и др.). ↩
- Пьеса Г. Гауптмана «А Пиппа танцует» ставилась в Петербурге в 1906 году Новым театром, в том же году ее поставил Театр Корша. ↩
- Пьеса П. Клоделя «Благовещение» была поставлена в сезон 1913/1914 года в парижском театре «L'oeuvre». В 1920 году ее поставил московский Камерный театр. «Залог» П. Клоделя был поставлен в июне 1914 года в театре «L'oeuvre». ↩
- «Армия в городе» Жюля Ромена была поставлена в театре «Odeon» в Париже в 1911 году. В России ее ставил в 1923 году Одесский драматический театр. ↩
- «Освобожденный Прометей» П. — Б. Шелли был поставлен в воронежском Студийном театре в 1920 году. ↩
- Имеется в виду драматическая поэма Имре Мадача «Трагедия человека» (1862). ↩
- Ежемесячный журнал, издававшийся в Штутгарте, а затем в Мюнхене и Берлине с 1915 по 1924 год. ↩
- В 1913 году общество «Свободная народная сцена» и «Новая свободная народная сцена», основанные литератором Б. Вилле, объединились и в 1914 году построили на средства пайщиков в рабочем квартале Берлина театр, получивший название «Народная сцена» («Volks–buhne»). ↩
- Имеется в виду постановка В. И. Немировичем–Данченко комедии Аристофана «Лисистрата» в Музыкальной студии Московского Художественного театра. См. об этом в статье «Московский Художественный театр» и примеч. к ней. ↩
- Пьеса Б. Шоу «Дом, где разбиваются сердца» (1919). ↩
- Комедия Б. Шоу «Екатерина Великая» шла в сезон 1921/1922 года в Московском драматическом театре в постановке В. Г. Сахновского. ↩
- «Буря и натиск» — литературно–общественное движение в Германии в 70–80 годы XVIII века. ↩
- Пьесы Ф. Грильпарцера «Горе тому, кто лжет» (1837) и «Вражда братьев в Габсбургском доме» (1850). ↩
- Пьеса Ф. Шиллера «Коварство и любовь» была поставлена в сезон 1918/1919 года в Театре б. Корша, в сезон 1920/1921 года — в Государственном академическом театре драмы (б. Александрийском), а также ставилась в целом ряде районных и провинциальных театров. ↩
- По–видимому, Луначарский имеет в виду постановку Малого театра в сезон 1924/1925 года. ↩
- Имеется в виду пьеса Ф. Унру «Луи–Фердинанд, принц прусский». ↩
- 22 июня 1919 года в петроградском Большом драматическом театре состоялась премьера пьесы М. Левберг «Дантон» в постановке К. К. Тверского. Художник спектакля — М. В. Добужинский. ↩
- «Легенда о Коммунаре» П. А. Козлова была поставлена петроградской Театральной ареной Пролеткульта к 1 мая 1919 г. Режиссеры — А. А. Мгебров и В. В. Чекан. Художники — А. А. Андреев и Глазман. В июле 1919 г. А. А. Мгебров с частью труппы этого театра организует Первый Рабочий Революционно–героический театр, сохранив постановку в репертуаре нового театра. ↩
- «Дурные пастыри» О. Мирбо шли в Большом Воронежском театре (1918) и в Сретенском районном театре Москвы (1918). В 1922 году постановку осуществил Екатеринбургский театр. ↩
- Пьеса «Пугачев» К. Гуцкова была поставлена Петроградским драматическим театром в сезон 1919/1920 года. ↩
- «Свобода» М. Потшера была поставлена в сезон 1919/1920 года в «Вольном театре» (Москва), а также в сезон 1920/1921 года в Драматическом театре Художественного Подотдела Московского отдела народного образования (Москва). ↩
- См. Сем Бенелли, Лассаль, изд. Театрального отдела Народного комиссариата по просвещению, М.–П. 1919. ↩
- Имеется в виду Екатерина II. ↩