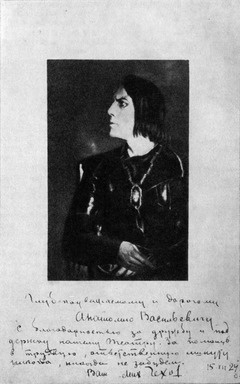О театральных неудачах или мнимых неудачах многие театральные критики пишут с таким злорадством, что невольно кажется, будто эти критики являются прямыми врагами развития театра. На самом деле это, конечно, не так, это просто довольно отвратительный профессиональный тик. Но мне кажется, что даже самые злые театральные критики всегда с известной внутренней радостью пишут об успехе. Для этого, конечно, среднему профессиональному рецензенту надо преодолеть боязнь того, что о нем скажут, будто он недостаточно критически остер, недостаточно требователен.
Не будучи профессиональным театральным критиком, но с величайшим волнением и любовью присматриваясь к развитию театра, я всегда испытываю, как нечто глубоко болезненное и грустное, всякую неудачу, посетившую то или другое искреннее, серьезно продуманное и исполненное дело в области театра, и, конечно, с гордой радостью за наш революционный театр приветствую каждый успех — от небольшого до самого крупного.
Камерный театр — в некоторой степени больное место для меня. С одной стороны, я проникнут глубочайшим уважением к великолепной энергии его руководителя. Я знаю, что при всей спорности принципов, которые положены в основу работы Камерного театра, его поездки за границу принесли нам только честь и постольку, поскольку нашли восторженных поклонников, и постольку, поскольку вызвали злобный шум, ни в коем случае не имевший бы места, если бы враги и Камерного театра и наши не сознавали исключительной крепости этого явления.
Но вместе с тем я самым резким образом расходился с основами театра и, признавая, что на путях, которые он себе избрал, он достиг значительных результатов, самые пути считал неправильными.
Театр Таирова был, во–первых, глубоко эстетическим театром. Не в том дело, чтобы я отрицал эстетизм, — эта игра в базаровское плебейство должна быть давным–давно отброшена или предоставлена в исключительное пользование тов. Чужаку;1 но театр, по преимуществу эстетический, то есть целиком формальный, конечно, как нельзя меньше подходит к нашему суровому и полному содержанием времени.
В простой и монументальной постановке «Федры», при хорошем брюсовском подходе к Расину, послышались ноты подлинной трагедии, проблеснул луч надежды на какое–то будущее для театра. Никто не отрицает также несомненной удачности и шипучей веселости «Жирофле–Жирофля». Однако в обоих спектаклях было еще слишком много чисто эстетического и казалось, что главное для самого театра — изящество оформления, и только. Театр осознал, однако, что, несмотря на эти отдельные успехи, ему невозможно продолжать развиваться на линии так называемого «неореализма» в нашей среде.
Если бы театр Таирова и Коонен был перенесен в Западную Европу, он бы, вероятно, постепенно нашел известную публику — по крайней мере на некоторое время. Европа держится чрезвычайно долго на мумифицировании старья и любит вместе с тем модничать и менять разные наряды модерн. Новшества в Европе живут недолго и сменяются другими, более крикливыми. Но изобретательность Европы подточена, и, с этой точки зрения, театр Таирова может быть воспринят буржуазной публикой как очень пикантная новинка. Его успех мог бы быть более длительным, чем успех других трюковых театров.
Но наш Камерный театр вовсе не рассматривал свой эстетический неореализм как трюк и моду, это был всегда серьезный театр, в начале своего пути — даже подвижнический. Здесь приносили в жертву свою энергию и свое здоровье идолу чистого актерского искусства.
Пути Европы и Америки с их, может быть, шумным, но эфемерным успехом не привлекали театр, и, несмотря на то, что казалось, будто новая, растущая у нас публика без симпатии относится к театру, унаследованному от эстетических устремлений передовой части буржуазии, руководители театра чувствовали, что в великолепной весне нашей пролетарской культуры они могут сыграть, если угадают правильную линию, роль социально–историческую, бесконечно более ценную, чем роль хотя бы и очень одобряемых развлекателей западной буржуазии.
Мы не будем спорить с Таировым относительно его утверждений, будто путь Камерного театра есть прямая линия и будто бы эстетическая часть истории театра была, так сказать, заранее обдуманной подготовкой к вступлению на путь социальной драмы. Не будем спорить об этом, хотя мы думаем, что здесь действительно произошел перелом и что, не случись революции, театр Таирова вырос бы в чрезвычайно тонкий эстетический театр для немногих утонченных интеллигентов и бар.
Принцип, который Таиров провозгласил как окончательный для своего театра, а именно принцип трагедии, с одной стороны, и фарса — с другой, резко подчеркнутых, чрезвычайно рельефных, при упрощении методов их выражения, был очень обнадеживающим. Может быть, это не единственный путь развития революционного театра, но это один из верных путей. Однако, вступив на эту дорогу, театр дал нам слабую постановку «Грозы». Слабее всего в «Грозе» было то, что она была эмульсией; это не был раствор или химическое соединение, а какая–то взболтанная смесь реализма Малого театра с кусочками модернизма. Дальше последовала «Иоанна».
Несмотря на все возражения и на восторженные суждения некоторых европейских критиков, я должен сказать, что считаю эту пьесу Шоу очень плохой и скучной. В сущности, это длинный парадоксальный памфлет, основная мысль которого довольно слаба и сбивчива, в чем может убедиться всякий, кто вникнет хорошенько в огромное предисловие Шоу к этой драме. К тому же драма была совершенно испорчена в Камерном театре. В то время как Шоу стремился к относительному оправданию осудивших Иоанну церковников и вообще написал некоторый переутонченный трактат по переоценке исторических фактов и сил, Камерный театр, памятуя свое обещание о социальной и революционной драме, огрубил, опростил и даже вывихнул все эти намерения Шоу. Карикатурные священники, к удивлению публики, вдруг говорили глубокомысленные и подчас благородные речи и т. д. Карикатура на каждом шагу была не там, где ее хотел Шоу, и в общем и целом получился спектакль, в котором чувствовалась идейная подкладка, которую надо было понять, но в котором подкладка эта была запутана и продырявлена, и понять ее было невозможно.
Конечно, это не значит, что постановка лишена была достоинств. Наоборот, переход от некоторого неорококо, которым раньше увлекался театр, к чрезвычайной простоте линий, переход, так сказать, к художественной скупости был явно заметен и приятен. Я слышал от людей, не без любви относящихся к театру Таирова, что театр этот оказался не в состоянии пойти по новому пути при всем добром желании, что он в некоторой степени потерпел крах и что жизнь фактически устранит его поэтому как увядающий. Я же лично доказывал, что первые неудачные опыты отнюдь не могут быть признаны решающими и что вина социальной, идейной неудачи «Иоанны» лежит в плохом выборе пьесы и в разных операциях, которым пьеса была подвергнута как со стороны театральной цензуры, так и со стороны режиссуры.
Понятно поэтому, с какой радостью приветствую я новый спектакль — «Косматую обезьяну» О'Нейля.2 Этот спектакль является безусловно чрезвычайно удачным.
Прежде всего, общее впечатление сильное, из театра вы уходите потрясенным. Это первое, что нужно, это первая общезначительная оценка, вне которой об успехе нельзя и говорить. Второе — это то, что художественно найдены новые линии, новые ритмы. Кстати сказать, особенно интересно, что они близки к художественным исканиям крупнейших передовиков живописи в Европе, передовиков довольно изолированных и сравнительно мало признанных там, но могущих стать учителями у нас. Я говорю о Диксе и Мазерееле.3
Наконец, — и это, может быть, самое важное, — несмотря на некоторые недостатки самой пьесы, она социально ценна, и именно театром как таковым приближена к идеалу подлинной, законченной, безукоризненной социальной трагедии.
Я сказал, что в пьесе этой есть недостатки. Главный ее не достаток формальный: она, к сожалению, экспрессионистская пьеса. У нас таких пьес шло не очень много, но надеюсь, что их будет идти еще меньше. Этот тип пьесы не лежит, по–моему, на большой дороге развития нашего театра.
Завязка пьесы, то есть первые три картины, обещают очень много. Кажется, что мы будем иметь дело с настоящей социальной драмой, то есть с некоторым захватывающим сюжетом, который будет тесно сплетен с социальным фоном, поясняя и выражая его. После первых трех картин публика предполагает, что дается реальная драматическая борьба Янека с дочерью капиталиста, что будут прямые перипетии, которые должны привести либо к победе той или другой стороны, либо к гибели той или другой стороны, или, может быть, к гибели обоих. Эксцентрическая барышня взята не только как истерическая мисс, в ней как будто показаны какие–то проблески дерзости, с одной стороны, и тяга к тому классу, из которого вышел ее дед, — с другой. Чрезвычайно сложный клубок чувств показан в груди самой «косматой обезьяны» — Янека. Оскорбление, которое он прочел в глазах гостьи, тысячекратно усугубляется тем, что она произвела на него сильное сексуальное впечатление. Автор отмечает удачно в этом низовом стихийном типе и какой–то порыв к изяществу и красоте, и глубочайшее уязвление собственного достоинства, и гнев за весь свой класс — смесь неосознанной любви и ненависти. Мы думали, что на этой почве произойдут новые конфликты, произойдет — мы не боимся сказать этого — роман.
Чрезвычайно глупо бояться романа и думать, что в нем есть что–то чуть ли не антимарксистское. Роман становится пошлым, когда он берется под соусом психологического кропания или сексуального блудословия. Но в тех случаях, когда роман удается взять как фокус социальных противоречий, он, конечно, является великолепным методом сделать вещь активной, социальное положение — одновременно конкретным и захватывающим широкие массы. Еще много времени пройдет, пока, скажем, чисто социальный фильм сможет так же захватывать широкие массы, как социальный кинороман, сплетающий в один жгут личные переживания и общественные моменты.
Я поэтому нисколько не посчитал бы недостатком, а, напротив, признал бы огромным достоинством «Косматой обезьяны», если бы она пошла дальше по пути трагедии или, скажем, мелодрамы. Но пьеса свернула на экспрессионистскую линию, то есть она превратилась в длинный монолог Янека, которого драматург ведет через всякого рода впечатления.
Мы уже знаем этот метод по многочисленным пьесам немецких экспрессионистов, в особенности Кайзера, вспомним хотя бы «От утра до полуночи».4 Герой на широкой улице, монолог некоторого почти не говорящего антуража; герой в тюрьме — также монолог; герой среди организованных рабочих — то же самое; герой в зоологическом саду — то же самое. В этом сказывается субъективистический уклон современной европейской интеллигенции, даже в лучших ее типах. Им не хватает эпики повествования, лепки положения. Они слишком ушли в себя; поэтому их драмы лиричны. За центральным героем всегда чувствуется автор, который торопится изложить свое переживание и для этого переносит свой рупор, каким является главное действующее лицо, в ту или другую подходящую среду. Серия монологов в разных декорациях и с разными фигурантами — вот что типично для трех четвертей экспрессионистских драм.
Но, конечно, в этом, в сущности, плохом и скучноватом жанре надо различать вещи плохие и скучные и вещи, которые, преодолевая несовершенство и нетеатральность формы, все же представляют собою крупные поэтические произведения.
«Косматая обезьяна» принадлежит именно ко вторым. Хорошо то, что основной ее герой, эволюционирующий по тем же правилам, как, скажем, Кассир у Кайзера,5 сделан из совсем другого теста. Вначале — это радующийся своему труду стихийный силач; затем — это человек, в котором любовь и ненависть мучительно будят первые проблески критической мысли. Всякий дальнейший шаг есть дальнейшее развитие напряжения его гнева. Вы чувствуете, что при известных условиях эти рабы * из пароходной преисподней расширяются и начинают давить на стенки общественного котла силой, угрожающей взрывом.
* Видимо, описка; вероятно, следует читать: пары. — Ред.
Рост взрывчатости силы гнева темных рабочих, внезапно разбуженных, — вот что такое эволюция Янека.
Не такая большая беда, что взрыв не получается, что, наоборот, погибает, не найдя себе никакого выхода, не найдя никакого звука, эта отдельная взбунтовавшаяся единица. Для Америки это реалистично, и в этом реализме есть свой ужас и своя полезность. Для нас эта пьеса говорит, во–первых, о колоссальной потенциальной революционности именно низового пролетариата, а во–вторых, об огромной прочности стенок социального котла Америки. Это последнее обстоятельство не может погрузить нас в пессимизм, но оно лишний раз вызывает в нас самих приступ симпатического негодования, и это очень хорошо.
Тем не менее пьеса, сведенная исключительно, так сказать, к траектории подъема и падения настроения героя, не есть настоящая театральная пьеса.
Тем больше чести театру, который в некоторых отношениях благоприятный, в других же отношениях плохо оформленный материал сумел поднять на огромную высоту драматизма. Конечно, одним из успехов театра явилось то, что в молодом артисте Ценине он нашел совершенно подходящую фигуру. Голос, внешность, внутренняя убежденность — все это, сливаясь вместе, делало фигуру Янека чрезвычайно симпатичной, скульптурной, импонирующей, трудно забываемой. Никакого особенного искусства артист при этом не показал. Я думаю, что здесь кое–что было от прежней таировской школы; но, кроме того, Ценин показал много искренности, что, при условии технически вполне приемлемого исполнения, дало эффект драматически чрезвычайно сильный.
Однако это далеко не все. При помощи художников, братьев Стенбергов, главным фактором большого художественного успеха был все–таки не актер, а режиссер. Самым новым и интересным в этом спектакле были некоторые стороны его сценического оформления. Естественно, что мы в России уже неоднократно видели всякие попытки изобразить не только танцы труда, но и танцы машин. Однако еще никому не удавалось дать такой скульптурный и металлический ритм движений и звуков, какой развернут Таировым в первой, третьей и четвертой картинах. Было бы праздной болтовней утверждать, что это не эстетика, не искусство. Это самое настоящее искусство и самая настоящая эстетика, но они действительно пролетарские. Они пролетарские потому, что все элементы в них пролетарские — и могучие тела, и утомленные тела, и великолепная размеренность коллективной работы, и музыка машин, и все эти беседы, в которых вы все время чувствуете больше коллектив, чем человека. Эти взрывы веселости, гнева, усталости, радости труда — все это чисто пролетарская действительность, действительность завода, то есть главного определителя пролетарского быта. Наверное, в этом отношении театр пойдет еще дальше, но уже теперь он сделал большой шаг вперед. Многие говорят, что без Мейерхольда это было бы невозможно. Такого рода сотрудничество у нас, в идейно растущем, при всей внутренней борьбе, революционном театре, — вещь естественная. И все же Таиров в рабочих сценах «Косматой обезьяны» сделал новый и интересный шаг.
Не менее интересно и изображение буржуазии, которое дает Таиров. Я уверен, что он не смог бы дать его, если бы не ездил несколько раз в Европу. И, может быть, публика, которая не без интереса смотрела эту карикатуру на правящий класс, не вполне поняла ее правдивость. Я сам только два–три дня тому назад вернулся из–за границы,6 и именно правдивость, именно глубочайший реализм изображения меня поразил. Кое–кому может показаться искусственным этот маршеобразный фокстрот, эта прыгающая механическая походка женских и мужских манекенов, эти неподвижные маски, бессмысленно хорошенькие у женщин, кривые, со следами всяких пороков, у расслабленных мужчин. Но на самом деле это действительно так. Конечно, не то чтобы это была копия, но это доминирующие черты, которые вас поражают.
Нигде, конечно, новый, послевоенный буржуазный мир не открывает себя так, как в нынешних dancing room *. Мне приходилось со стороны наблюдать то, что там происходит. Эти мертвые, деревянные ритмы джаз–банда и какое–то тоскливое гудение и крики саксофонов, это дрыганье и дерганье, какая–то непристойная судорога огромной толпы людей, в которой никто не улыбается, прямо ужасны. Женщины густо мажутся, в особенности румянятся, и лица их совершенно маскообразны. Можно подумать, что люди эти наняты по часам, чтобы месить ногами какое–то тесто. Они как будто бы работают, не заметно увлечения друг другом — и ни малейшего следа радости. Костюмы, как мужские, так и женские, сведены почти к единству мундира: все как один. И всем делом дирижирует поистине какой–то обезьяноподобный негр. По его знаку все это танцующее и прыгающее стадо останавливается или вновь, как заведенный механизм, пускается дрыгать ногами и двигаться по паркету. И когда вы, присмотрясь к этому последнему балу капиталистического сатаны, выходите потом на улицу, то повсюду видите куски этой же сущности нынешнего времени. Душа вырвана из этих людей. В них нет уверенности в завтрашнем дне. Колоссально увеличилось количество просто прозябающих, и при этом прозябающих чувственно. Фокстрот сидит у них в нервах и мускулах. Нельзя не вспомнить всю манеру диксовского подхода к бичующему живописному анализу нашего времени, когда смотришь пятую картину «Косматой обезьяны» в таировском исполнении. Это действительность жестокая и правдивая, я бы сказал — до гениальности.
* танцевальных залах (англ.). — Ред.
Вся планировка сцены в трюме и насыщенный тоской и ужасом разговор человеческой «обезьяны» с настоящим гориллой не позволяют пьесе упасть и дальше. И только, может быть, сцена в профсоюзе расхолаживает. Даже политически здесь происходит некоторое биение, ибо сочувствие автора целиком на стороне обреченного на крах инстинктивного рабочего–анархиста; есть желание изобразить чем–то мертвым, пустым передовое рабочее движение Америки. Если бы дело шло о профсоюзе Гомперса 7 и его наследниках, этого неприятного биения не было бы, но W. W. есть организация, подающая надежды.8 Правда, ничего особенно плохого о ней не сказано, но я уверен, что каждый в публике, зная, что наш коммунизм стоит как раз посередине, нося в себе подлинную революционную взрывчатость, но вместе с тем и высокую оценку организации, не может отчетливо ориентироваться в своих мыслях, смотря на эту сцену. С другой стороны, драматически и чисто театрально она не может быть оформлена с такой же остротой, как остальные картины.
Чтобы быть исчерпывающим, скажу еще, что вторая картина поставлена весьма недурно, но в ней есть много от «Бубуса». Вообще, конечно, наши крупные режиссеры помогают друг другу. Говорить здесь о каком–то плагиате было бы просто смешно и дико. «Бубус» музыкальным сопровождением диалога (что, впрочем, не новинка для Камерного театра) и общим своим стремлением к тонко наблюденной социальной карикатуре (в том числе механизации движения) мог дать благоприятный толчок Таирову в других сценах; но здесь этот вообще не очень интересный разговор двух дам решено было сделать как будто интереснее путем большего напряжения тона, замедленности речи и т. д. Эта медленность тона и неудачная мысль о так называемой предыгре 9 была самым слабым местом в «Бубусе», и мне по крайней мере вторая сцена «Косматой обезьяны» весьма напоминала как раз отрицательную сторону, в общем, весьма важной в истории нашего театра постановки Мейерхольда.
Как бы то ни было, мы имеем в Камерном театре настоящий, большой, потрясающий художественный спектакль, с огромным социальным зарядом. Я думаю, что он должен иметь у широкой публики весьма большой успех. Правда, публика Москвы делится приблизительно на две половины: на довольно многочисленную, но, конечно, неплатежеспособную революционную публику и на обывательские элементы. Мы уже видели, как некоторые пьесы оказываются обеспеченными неистовым успехом, будучи пьесами чисто обывательскими. Мы видели, как некоторые пьесы, так сказать, застревают между двумя публиками, являясь для обывательской части «слишком» партийными, как они выражаются, а для партийной — неудовлетворительными по недостаточному совпадению с привычным путем мышления. Мы, к сожалению, реже видели такие пьесы, которые, будучи художественными, представляя собою прямое отрицание обывательского театра, были бы поддержаны и спасены нашей публикой. Она для этого еще, может быть, слаба. Но все же некоторый успех первой пьесы Белоцерковского, «Эхо», в значительной степени был именно таким.10 Спектакль Камерного театра имеет большие шансы привлечь все симпатии левой половины публики и вместе с тем заставить правую половину увлечься новизной формы и общим острым тонусом пьесы.
Во всяком случае, я с радостью констатирую победу Камерного театра. Еще один–два таких спектакля, и никаких споров о месте этого театра в нашей театральной системе мы больше не услышим.
- Иронический намек на нигилистическое отношение критика группы «Леф» Н. Чужака (псевдоним Н. Ф. Насимовича) к художественным ценностям прошлого. ↩
- Пьеса Ю. О'Нейля (О'Нила) «Косматая обезьяна» была поставлена на сцене Камерного театра 14 января 1926 года. Постановка А. Таирова. Режиссеры — А. Таиров и Л. Лукьянов. Художники — В. и Г. Стенберг. ↩
- Отто Дике (Германия) и Франс Мазереель (Бельгия) — художники XX века, близкие экспрессионизму, но отличающиеся друг от друга по своему творческому пути и приемам. Очевидно, острая социально–критическая направленность творчества Дикса послужила основанием для сближения его с Мазереелем, произведения которого тоже стилизованны, но чужды пессимистической безнадежности, свойственной Диксу (см. статью Луначарского «Франс Мазереель» в книге: «Франс Мазереель. Иллюстрированный каталог выставки в Государственном Музее нового западного искусства», изд. ВОКС, М. 1930, стр. 7–8. См. также книгу: А. В. Луначарский, Статьи об искусстве, сост. И. Сац, М.–Л. 1941). ↩
- В русском издании «С утра до полуночи» (1916), в книге: Г. Кайзер, Драмы, Госиздат, М.–П. 1923. ↩
- Центральный персонаж пьесы «С утра до полуночи». ↩
- Луначарский проводил свой отпуск в Германии и Франции с 15 ноября 1925 по 15 января 1926 года. ↩
- Гомперс Самюэль — реакционный деятель американского профсоюзного движения, основатель и бессменный председатель Американской федерации труда (с 1881 по 1924 г.). ↩
- W. W. — Точнее I. W. W. — Industrial Workers of the World (англ.) «Индустриальные рабочие мира» — профсоюзная организация США. ↩
- Предигра — игра актера (его мимика и движения) непосредственно предшествующая реплике. Почти всегда «предигра» была в резком контрасте со значением произносимых вслед за нею слов и призвана была раскрыть отношение актера к образу, помочь зрителю увидеть грань между ролью и исполнителем. «Актер–трибун на глазах у зрителя из–под плаща построенного образа показывает природу этого образа…» (Брошюра–программа «Учитель Бубус», М. 1925, стр. 18). ↩
Пьеса В. П. Билль–Белоцерковского «Эхо» — поставлена на сцене Театра Революции (премьера 8 ноября 1924 г.) А. Л. Грипичем. Материальное оформление В. Шестакова.
В предисловии к сборнику «О театре» Луначарский писал: «Несомненной жаждой отразить в ярких отдельных бликах классовую борьбу в Америке, стало быть, действительную американскую жизнь, проникнута пьеса Билль–Белоцерковского «Эхо». Надо, однако, сознаться, что пьеса не вполне слажена… Тем не менее отдельные моменты пьесы производят глубочайшее впечатление на самую дорогую для нас рабочую, комсомольскую и пролетарско–студенческую публику. В этом отношении «Эхо» нужно отметить, как одно из больших явлений прошлого сезона» (А. Луначарский, О театре, Л. 1926, стр. 7–8).
↩