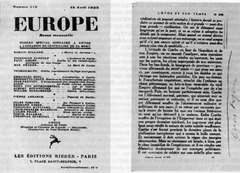I
Первое мое замечание касается следующего. Я только что узнал от Вл. Вл. Буша,1 что предположено пригласить двух лекторов, которые должны будут сделать введение — один по английской, другой по германской литературе.2 Я думаю с ними поговорить в общих чертах, не согласятся ли они взять на себя известное количество лекций.
У меня сначала было стремление дать вводную картину по каждой из этих литератур. Но ввиду того, что у вас будут специалисты этого дела, я сегодняшнюю мою лекцию построил как вступительную лекцию наших с вами общих занятий, а поэтому было бы лучше, если бы оба эти товарища, которые будут приглашены к вам, присутствовали на моей лекции. Но в общем это не так важно.
Мою сегодняшнюю с вами беседу я строю таким образом: некоторые общие выводы методологии истории литературы — с каких точек зрения мы ее изучаем, для каких целей и т. д.; затем в связи с этим некоторые общие абрисы того специального предмета, на котором вы остановились, т. е. английской и германской литератур.
Каждый из вас в совершенстве усвоил, что общий метод при изучении истории литературы сводится к тому, что мы рассматриваем литературу как общественное явление, теснейшим образом связанное с общественным движением данной эпохи вообще, со структурой данного общества, тенденции развития которого отсюда вытекают. Мы признаём за литературой своеобразную специфику, но так же точно, как и за всякой другой идеологической надстройкой, — философией, правом, религией, что бы мы ни взяли. Все они представляют собою надстройки, специфическое отражение основного социологического явления, его иллюстрируют, от него зависят и на него обратно воздействуют. Мы приводим в непосредственную зависимость эти надстройки и в частности литературу, которую мы изучаем, от степени экономического развития общества или каких–либо других признаков и характеристик, свойственных обществу в целом. Связующим звеном между общим состоянием данного социологического целого и литературой мы считаем класс.
Значит, ближайшим нашим методом является сравнительное изучение того, что нами может быть выведено в области литературы, <с одной стороны, и> в области социологии или истории экономики, истории политики, т. е. классовой структуры данного общества, взаимоотношения классовых тенденций, развития классов — с другой стороны. Изучая наш материал, мы должны стремиться сомкнуть возможно более точно, возможно более гибко, возможно более естественно оба эти явления.
Есть ошибки в этом случае марксистского или, вернее, псевдомарксистского порядка. Они заключаются в стремлении видеть в литературе как бы нечто вроде зеркального отражения общественной структуры.
Конечно, классы подавленные, которые не имеют еще никакой культурной самостоятельности, в литературе никак не отражаются или отражаются чрезвычайно слабо, но классы, ведущие между собой культурную борьбу, в известной мере отражаются; господствующие классы отражаются, конечно, сильнее всех. И бывает тенденция — каждого писателя, каждую писательскую группу, каждое писательское направление отнести, можно сказать, безостаточно к той или другой классовой группировке: это представитель дворянства, это представитель буржуазии и т. д. Но ясно, товарищи, что здесь без подразделения на подгруппы ничего не выйдет. Очень часто само дворянство представляет собой весьма многообразные группы. Возьмем, например, реакционное, полуславянофильское, черносотенное дворянство в России середины XIX столетия и западн<ическое> либеральное дворянство; разумеется, это две группы, враждующие между собой.
Тут уже ясно, товарищи, что, стремясь к тому, чтобы установить связь между литературными явлениями и классовыми, нужно не упрощать дело до так называемых основных социологических классов, но нужно взять из рук социологии или истории экономики как можно более детальное деление классов, классовую структуру, видеть ее перед собой во всем ее многообразии.
Еще одно краткое замечание для большего уточнения. Тут есть опасность механистического уклона. Что значит механистический уклон, который мы очень часто у нас наблюдаем в классовой теории? Между прочим, мы это видим в значительной мере у Переверзева.3 Это значит, что каждое отдельное литературное произведение в некоторых случаях (а у Переверзева всегда так бывает) рассматривается как нечто определенно соотносящееся к некоторой совершенно определенной классовой социологической величине, между тем как между литературой и ее классовой предпосылкой не такая, чисто механическая, зеркальная связь. Мы можем представить себе писателя, который начал с представительства дворянства и перешел потом к представительству буржуазии, или начал с представительства буржуазии, а потом перешел к пролетариату; и это происходит не без борьбы. В промежуточных стадиях они могут внутренне бороться сами с собой, не быть приверженными ни к одному, ни к другому классу.
Таким образом, нет теории механистического соответствия, а есть живая связь. Борьба, которая ведется в обществе, ведется иногда и внутри отдельного лица, внутри отдельной школы. И без понимания того, как динамика классов отражается в творчестве, живом, настоящем, подлинном творчестве отдельных писателей, никогда нельзя произвести подлинного анализа того, что они из себя представляют. Часто бывает, что один или другой писатель целиком отражает интересы, воззрения, идеологию известного класса, но часто бывает, что они находятся в промежуточном состоянии, что они страдают, пассивно страдают от разрыва, но не могут себя отнести ни к прошлому классу, ни к будущему.
Таких случаев мы имеем чрезвычайно много. У Энгельса и Маркса мы имеем даже констатацию такого рода.4 Само собой разумеется, что Бальзак, изображая буржуазию, подходит к этой буржуазии с реакционной точки зрения, но у него сами его воззрения были в колеблющемся состоянии, и он был достаточно честен, чтобы не навязывать их жизни, а, диалектически воспринимая эту жизнь, чувствовать себя неопределенно, и эта неопределенность способствовала объективной значимости его произведений.
Или, например, вы можете встретить у Маркса очень резкое суждение о Генрихе Гейне, можно сказать, не только резкое, а почти ругательное. Политически Маркс Генриха Гейне не уважал. Сказать с этой точки зрения, что Генрих Гейне — пролетарский писатель, прямо–таки язык не поворачивается. Он был в конце концов бегуном, дезертиром, человеком, который, скрываясь за сложностью своего ума и своего темперамента, никогда не хотел определиться, несмотря на большие внутренние разрывы и большие внутренние страдания. Но все–таки Генрих Гейне в очень многом был передовым писателем, настолько передовым писателем, что он ближе подходил, чем кто–либо другой, к социалистическим идеям, к самой беспощадной критике буржуазии. Правда, эта его беспощадная борьба, беспощадная критика буржуазии, его атеистическое настроение не помешали ему в конце его жизни начать кокетничать с богом, что и было отмечено Марксом крайне неодобрительно в нескольких строках в письме к Энгельсу.5
Таким образом, если вы захотите характеризовать того или иного писателя с механистической точки зрения, то вы ровным счетом ничего не сделаете; если вы подойдете к этим явлениям с переверзевским методом, то вы ничего не получите. Наоборот, нам необходимо взять всю сложность, всю громадность явления, все колебания человека, рассматривать его как молекулу в общем движении, рассматривать все те зигзаги, которые он описывает, находясь под влиянием всякого рода воздействий.
Вот вам пример из английской литературы. Возьмите вообще такую интересную и симпатичную фигуру, как Бернард Шоу, и вы увидите, что в момент, когда в Англии развертывается критическое положение, всякий раз он выступает с чрезвычайной критикой буржуазии, но как только начинается момент повышения роста сил официальной Англии, так Бернард Шоу сбавляет тон и становится развлекателем, умеренным и невинным зубоскалом по части мелочей жизни. Но опять наступает критический момент, как, например, теперь, и мы видим Бернарда Шоу в числе наших ближайших друзей, того самого Бернарда Шоу, который в момент стабилизации капитала после войны отшучивался насчет бороды Карла Маркса,6 говорил, что он не может при своем большом уме втиснуть себя в такие тесные границы, как ленинизм, и т. д. и т. п. Это является также примером того колебания, которое характерно для людей такого порядка.
Но, товарищи, не нужно думать, как это делают некоторые, что эта происходит вследствие какой–то внешней легковесности. Вообще говоря, интеллигенции присуща всегда известная шаткость. Это отмечали и Маркс и Энгельс.7 Интеллигенция — промежуточный класс, и из него берут своих идеологов разные классы. Это та среда, которая испытывает самые разнообразные привлекающие и отталкивающие влияния со стороны различных окружающих ее классов. Но все эти переходы иногда сопрягаются с чрезвычайно глубокими, искренними страданиями. И когда Генрих Гейне сказал, что мир лопнул, что трещина прошла по всему миру и что эта трещина прошла через его сердце,8 то он дал классическое выражение раздвоенности сознания, которая получается при известном нарушении психологии равновесия классов, когда ненависть к господствующему классу велика, а класс поднимающийся не импонирует и его побаиваются.
Из русской литературы в этом отношении также можно привести характерное явление. Возьмите Герцена, как в нем дворянин, мужиковствующий народник и пролетарствующий писатель часто сменяют друг друга в зависимости от общих исторических явлений, сменяют до полного отрицания. В одном случае мы видим суждение оптимиста, верящего в прогресс, в другом случае — полнейшего пессимиста, отказывающегося от названия западника, переходящего с литературных западнических позиций на славянофильские и народнические. Все эти колебания бросаются в глаза, они показывают, что необходимо всю общественную структуру изучать, а не пытаться при помощи механистического анализа привинчивать каждого писателя к определенному классу, расставлять писателей по отдельным квадратикам, как на шахматной доске.
Мне странно теперь, что это механистическое воззрение могло иметь у нас очень много учеников, приобрести много последователей. К стыду нашей литературоведческой среды, мы не могли дать этим увлечениям достаточного отпора, и понадобилось высокое вмешательство чрезвычайно чутких и зорких центров нашей партии, чтобы они обратили внимание, что это не марксизм, что, если так смотреть фаталистически, не может быть литературной политики, не может быть воспитания писателей, не может быть воздействия одного класса на другой, не может быть борьбы за интеллигенцию и т. д. Я не хочу заниматься полицейским сыском, да это и не есть сыск, это есть психологическая констатация — такие люди, как Переверзев, не принадлежащие к нашей партии, в сущности далеки от нас, их невольно несло к таким положениям: ты таков и будь таковым, я сякой и буду сяким, ни ты на меня не воздействуешь, ни я на тебя не воздействую, я репейник, ты роза, я розой процветать не могу никоим образом.
Это одно очень важное положение, которого мы избегаем, — механистическое толкование марксизма.
II
Теперь я хотел бы два слова сказать относительно идей прогресса и эволюции и нашего отношения к ним.
Представляет ли литературный процесс некоторый прогресс, т. е. переход от низших форм к высшим? Мы о литературе специально поговорим еще потом, по поводу одного из очень важных законов Маркса, который мы теперь знаем, а сейчас займемся вопросом в общем.
Есть ли развитие человечества прогресс? <Существует> либеральная вера в прогресс, будь то полумистическая теория о том, что есть некоторое провидение, которое гарантирует, что все становится лучше и лучше, — как это было у Лессинга, Гердера, Кондорсе 9 и т. д. (хотя они были не мистики, не религиозные люди вроде Августина,10 но считали, что метафизическая идея развития человеческого рода есть какая–то высшая сила, которая гарантирует это развитие); будь то позитивная точка зрения Огюста Конта,11 переход от религиозных воззрений на метафизической стадии развития к другим воззрениям, основывающимся на законах развития самого человеческого разума, — все это абсолютно неверно и всем этим, как и спенсеровской формулировкой эволюции, заключающейся в том, что эволюция представляет собой постепенную интеграцию на почве все большей дифференциации, т. е. некоторое все увеличивающееся развитие,12 — этим, само собою разумеется, марксизм не грешит.
Марксизм считает, что все движется, все развивается, что основой этого развития является борьба классов, что в истории человечества есть и моменты относительного застоя, и моменты регресса, и моменты прогресса — это относится и к отдельным культурам, это относится и к отдельным странам, это относится и к отдельным классам, это относится и к человечеству в целом. Марксизм никогда не ставил широких, полурелигиозного характера прогнозов, он исходил всегда из конкретного анализа действительности и этого конкретного анализа действительности требовал всюду. Если классовая основа, если социальная структура такова, что она обеспечивает собой рост производительных сил и, стало быть, власть человека над природой, то это первый признак прогресса.
Эволюция становится прогрессивной или общественное развитие входит в стадию прогресса в тех случаях, когда ему соответствует рост экономических сил, рост власти человека над природой. Для Маркса и Энгельса это было абсолютным законом. Вы видите это из того, что, например, рабство, которое обыкновенно рассматривается как моральное падение, они рассматривали как прогресс, со всей силой, со всей определенностью указывая на то, что рабство вытекало из роста производительных сил и обусловливало собой дальнейший рост производительных сил. Так же точно, если они отрицают капитализм, то отрицают не как стадию, через которую проходит человеческое общество. Прочтите письмо Маркса об Индии, где страшными красками рисуются муки человечества при рождении капитализма, все те страдания, которые переносит человечество; и все–таки он сказал, что это единственный способ движения вперед.13 А для Маркса важнее всего, чтобы дело двигалось вперед, потому что иначе было бы безнадежно думать о возможности рационализации, глубокой рационализации человеческого труда и человеческой жизни.
Вот, конкретно исходя из нынешней ситуации, получается, что капитализм изжил себя еще ко времени «Манифеста Коммунистической партии», но, изживая себя, он готовит столь высокие условия экономического развития, столь большие силы человека над природой, которые обеспечивают переход к правильной организации жизни, а благодаря тому, что пролетариат берет в свои руки все производство, мы вступаем в неслыханную для человечества стадию развития. О том же, какова эта стадия, марксизм не загадывает. Наш прогноз относится к переходной эпохе — к социалистической и коммунистической эпохе, которая является предельной, которая является концом нашей программы.
Теперь мы ясно видим, что никоим образом нельзя говорить, <будто существует марксистское учение> о прогрессе, что гарантированного закона эволюции нет. Это сложный процесс, представляющий <собой> борьбу, где решают победы и поражения, где победы обусловливаются ростом борьбы, именно ростом человеческих сил в борьбе с природой. И для данного отрезка времени положение вещей таково, что хотя жертвы и велики, усилия колоссальны, но, тем не менее, капитализм подготовил все нужные условия для перехода к социализму. Этим характеризуется марксовское время вплоть до наших дней.
А как с искусством и в частности с литературой? Здесь мы находим чрезвычайно важный закон у Маркса, который необходимо усвоить. Он содержится, правда, в неоконченной главе — «Zur Kritik».14 И некоторые марксисты или воображающие себя марксистами заявляют по повод этой статьи, что Маркс, мол, написал это от молодости: молод был: мол, и глуп Маркс — и написал «Zur Kritik». Между тем это одно из гениальнейших произведений человечества.
Другие говорят, что Маркс находился под влиянием Гегеля. Ну, мы все отлично знаем, что он находился под влиянием Гегеля. Но для Маркса это означало, что Гегель им был усвоен и переработан, а не то, чтобы он был порабощен реакционными штрихами гегелевской философии.
Наконец, некоторые еще говорят, что Маркс не очень много думал об искусстве и поэтому так написал эту статью. Прежде всего надо отметить, что Маркс писал всегда только о том, что он прекрасно знал, и он никогда не писал о вещах, которых не знал. В этом можно удостовериться на основании изучения всех его сочинений, вплоть до писем. Что бы вы ни взяли, хотя бы статью Маркса о конгрессе в Вероне, вы поразитесь, как изумительно он владеет материалом; он знал все подробности истории, все детали.15 Маркс и Энгельс были людьми удивительной образованности и изумительной добросовестности. И хотя эта глава Маркса не окончена, тем не менее она великолепна. И когда я первый высказал ту мысль, что это замечательнейшая находка, что она стоит в полном соответствии со всем тем, что написано Марксом, то, конечно, я был прав. Сейчас даже смешно возвращаться ко всем этим сомнениям относительно того, куда это отнести. Мы прекрасно понимаем внутреннее содержание этой статьи.16
В чем же заключается установка Маркса? Она заключается в общем законе, <утверждающем>, что отдельные стороны человеческой культуры развиваются неравномерно; за пример взято именно искусство и сказано, что искусство <имеет> свои кульминационные пункты, даже наиболее яркие, в такие времена, которые не совпадают с кульминационными пунктами науки, техники и даже, можно сказать, общественности. Как пример взято античное искусство и констатируется, что капитализм с его прежней материалистической наукой, можно сказать, механистической наукой, с его техникой, постепенно вторгающейся во все недра природы, изменяет, отчасти обесчеловечивает самого человека в процессах труда, что он сокрушает тот факт, что ремесленник, мастер своего дела, является законодателем в мире труда, а, напротив, ставит на его место машину и низкоквалифицированный труд и т. д.
В результате всех этих явлений и очень большого роста власти человека над природой, а, стало быть, с этой точки зрения и очень большого шага вперед, оказывается, что люди перестают интересоваться искусством так, как интересовались раньше, перестают уметь производить такие продукты искусства, какие производили раньше, — искусство отходит на задний план. Маркс это констатирует вместе с Гегелем. Гегель не так ярко и определенно указывал именно на капитализм, но у него можно найти прекрасные страницы, которые близки к этому анализу. Он больше с отдаленными величинами оперирует, с христианством как таковым, которое, по его мнению, разрушило искусство.17
Если мы сравним с такими заявлениями Гегеля соответствующие выписки из сочинений Маркса о христианском искусстве, мы найдем там в очень близком соседстве с Гегелем мысли и рассуждения о том, как христианство, внося величественное, неопределенное, неорганическое и т. д., разрушает рамки античного искусства и тем самым, в сущности, эстетически подстреливает человеческий род, основную базу этого великолепно оформленного, законченного, классического искусства вырывает из–под ног человеческого творчества.
В своих знаменитых страницах Маркс прежде всего констатирует тот факт, который для нас очень важен; <он говорит: нельзя утверждать>, что чем выше экономическая база, тем должно быть выше искусство. Вы знаете, что спор шел — я здесь привожу пример из моей практики не потому, чтобы я хотел указать на правильность моей позиции, а просто для примера — спор шел между Михайловым и мной. Я указывал на то, что пролетариату ближе всего классы восходящие в те моменты, когда они были молоды, когда они завоевывали свое место, — они создавали тогда искусство, которое ближе подходит к нам; вследствие этого никак нельзя признать, за исключением мелких вопросов техники, железа, бетона и т. д., чтобы современное буржуазное искусство могло бы быть как–нибудь нам близко. А он доказывает наоборот: поскольку это новейший продукт, поскольку это новая страница в истории экономики человеческой, постольку, конечно, пролетариат непосредственно должен связаться и в художественном творчестве с тем, что достигнуто человечеством. Это, по–моему, глубокая механистическая ошибка.18 Не говоря уже о том, что та база экономическая, на которой капитализм развивается, породила недавно еще капризное декадентское искусство, которое затем заменило скупое и формальное, бессодержательное не только по содержанию Kunst der Sachlichkeit,19 — эта экономическая база вряд ли может считаться передовой, потому что теперь ясно, что буржуазия прямо, резко и сознательно повернула на борьбу с техникой и высказала сама уже свой собственный секрет, что она ни в каком отношении, даже в техническом, не является гребнем человечества, а в полном смысле декадентским и осужденным классом.
Но и независимо от этого та или другая высота экономического развития ни в коем случае не гарантирует того, что политические формы тоже будут более развитые, что этика будет выше, что философия будет точнее, что в области искусства будет больше красоты и полноты — это никоим образом не следует отсюда.
Второй вопрос, который Маркс ставит перед собой, заключается в том, что он спрашивает: если мы придем к тому выводу, что в прошлом, до капитализма или в начале капитализма, были моменты высокого развития искусства, а теперь это прошло, то как мы к этому относимся? Не является ли загадкой, что теперь, когда мы эту стадию прошли, тем не менее возвращаемся к греческому искусству, греческой трагедии, греческому эпосу, греческой скульптуре, архитектуре и т. п. и при этом чувствуем, что не можем уже создать подобной красоты? Между прочим, я должен здесь сказать, что, конечно, когда Маркс высказывался по этому поводу, он не мог же все включить в свое произведение, так как не имел в виду многих людей, которые как раз этого чувства не ощущают.
У нас были споры после революции и незадолго до революции о том, действительно ли в какой–либо мере античное искусство может быть для нас полезно, может быть для нас закономерным помощником? Нам доказывали, что это просто–напросто старье, и тогда приходилось ссылаться на отдельные марксовские фразы, которые были разбросаны кое–где в его сочинениях, или на свидетельство Либкнехта о том, как Маркс высказывался по этому поводу, причем ссылаться на слова, которых непосредственно из уст Маркса мы не слышали. Либкнехт говорит, что Маркс высказывается таким образом: только идиот может не понять, какое огромное значение античное искусство приобретет для пролетариата, когда он начнет строить социалистический быт.20 Ну, понятно, что чрезвычайно обидно было слушать название «идиот» тем людям, которые это название заслужили. В этом приятного, разумеется, мало. Но дело в том, что во время Маркса было непреложной истиной, что античная скульптура или трагедия Софокла или Эсхила — великие произведения. Маркс смотрел на античный мир как на детство человечества, но он, собственно, здесь прибегал к определенному образному сравнению,21 а не подходил с точки зрения Дреппера 22 или еще хуже — Шпенглера.23 Нет, Маркс говорил, что античный мир является детством человечества в том смысле, что взрослые люди всегда вспоминают о своем детстве. Правда, бывает детство больное, тяжелое детство, а бывает счастливое детство. И вот античный мир был таким счастливым человеческим ребенком по своей необычайной свежести, по своей необычайной, гармонии, и хотя искусство сейчас пришло на более высокую стадию, чем античное, но оно негармонично. Античность же привлекает наше внимание, потому что мы чувствуем, что здесь было счастливое развитие человечества, которое потом было утеряно.
Конечно, повторяю, Маркс не принадлежит ни к <таким людям, как> Дреппер, ни тем более к <таким, как> Шпенглер, который утверждает, что все сначала бывают младенцами, кричат «уа», вырастают, у них вырастают бороды, которые седеют; затем они дряхлеют и склоняются ко гробу. Разумеется, никакого закона, взятого из обихода живого существа, Маркс не устанавливал, для него это был образ, в известной степени чрезвычайно важный и интересный: еще все проблемы не были включены, это была относительная гармония на очень небольшом пространстве с очень небольшим культурным размахом.
Само собою разумеется, что наше искусство, наша наука, наша философия и в особенности наша техника и наша общественная организация, объединяющаяся единым мировым рынком с его колоссальным производством, с мучительными иногда исканиями тайн природы, разумеется, это — взрослое состояние по сравнению с Грецией.
Ну, а если мы возьмем даже самые минимальные астрономические расчеты относительно будущего существования земного шара, освещаемого в достаточной степени солнцем, и сравним то количество лет, которое живет на земле человечество, допустим 100 тысяч лет, а общий возраст человека приблизительно возьмем 75 лет, то окажется, что человечество прожило всего какие–нибудь полтора года. Таким образом, по существу говоря, в мировом отношении при самом наименьшем расчете мы являемся еще младенцами. И вот у Маркса мы находим еще одно знаменитое положение, что вся история, которая сейчас происходит на земном шаре, является только введением, довольно мучительным введением в подлинную историю человечества.24 А подлинная жизнь человечества начнется лишь тогда, когда мы соединимся в плановом хозяйстве. Вот только тогда начнется настоящая история, и она продолжится столько тысячелетий, что мы не можем о них и загадывать.
Сейчас мы возвращаемся к тому времени, в которое мы живем. И вот здесь в искусствоведении возникает чрезвычайно важный вопрос. Если мы можем считать гармонической формой искусства то <искусство>, которое <существовало> на более низкой стадии, в которое теперь мы верить не можем (мы не можем верить в Диониса, Аполлона и т. д., не можем считать серьезными эти мифы, но они формально представляют из себя для нас глубокое наслаждение), то спрашивается, вернется ли когда–нибудь время, когда искусство будет нас удовлетворять? Мы считаем, что искусство в меньшей мере развито по сравнению с базой, на которой мы стоим, чем греческое, и что если бы мы сравнили общие достижения с точки зрения художественной ценности, то пришлось бы отдать пальму первенства этому молодому, давно умершему сопернику. Придет ли время, когда этого не будет?
У Маркса обрывается глава на этом самом <месте>, он не раскрывает будущего. Отсюда высказывается сомнение: может быть он, так же как Гегель, думает, что к искусству возврата нет, искусство для молодости, а европейские страны, по Гегелю, уже седовласые старцы, и им надо изучать только гегелевские книги, после которых никто ничего путного не напишет, потому что там дух показал себя до конца, а внешнюю обстановку создаст прусский чиновник, потому что прусское чиновничество и государство есть также политическое отражение духа.25 Вы помните это конечно. Так вот эту ерунду, в которой сказалось падение Гегеля, его буржуазный плен, его трусость, его величайший позор, хотят навязать косвенно Марксу: Маркс <якобы> обскурантски говорил об искусстве, что никакого движения вперед в этом отношении не будет.
Разумеется, это величайший вздор. Мы находим такую трихотомию, такую триаду у Маркса и Энгельса, где именно противопоставляется социалистическое будущее как такое, которое решит противоречия предыдущих стадий.26 Например, они указывают на широкое развитие личности в Греции и говорят о том, что она испытывает гнет при капитализме, много раз указывая, что при социализме личность опять восполняется как коллективистская личность, как индивидуальность, восполняется для полного развития.27 Или первобытный коммунизм — разве они говорят, что коммунизм есть прекрасное детство, которое никогда не вернется? Напротив, все основные построения заключаются в том, что он разрушается в борьбе классов и через борьбу классов восстанавливается.28
Если мы спросим себя, какой характер должно иметь искусство, т. е. оформление жизни с точки зрения наибольшего ее приспособления к человеческому наслаждению или наиболее сильное и вместе с тем формально совершенное проявление человеческих желаний, стремлений или суждений, то, само собою разумеется, мы должны сказать так: в социалистическом обществе все это сможет получить окончательное развитие. Вряд ли в социалистическом обществе, как об этом говорили Маркс и Энгельс, искусство будет в такой мере специальностью, как оно до сих пор ею было. Энгельс говорит о том, что великие художники–живописцы, как Рафаэль и др., в значительной степени развили свою необыкновенную технику, потому что были специалистами, потому что разделение труда выделило их в совершенно особый цех, особый отряд, совершенно специфицированный, но, естественно, чем более такая специализация узка, тем это хуже для художника, потому что художник, представляя из себя специалиста с точки зрения художественных форм, должен быть более чутким, граждански чутким ко всему именно с точки зрения содержания, — поэтому, чем уже художник, тем хуже художник.
Художники Ренессанса потому были велики, что, будучи формально специалистами, они были в широчайшем смысле слова людьми своего времени. Энгельс бросает такое замечание: в социалистическом обществе не будет живописцев, но будут люди, которые между прочим будут заниматься и живописью. Этим он нисколько не хочет сказать, что живописец, писатель, художник социалистического общества будет плохим специалистом, плохим художником, а хочет сказать, что он будет жить самой широкой человеческой жизнью и что если он имеет соответствующее дарование, то он его разовьет, для того чтобы формально в музыке, в литературе или в красках выразить то, что переживает.29
Таким образом, со всех сторон мы имеем много доказательств. Я бы мог их привести еще больше. Во всяком случае Маркс не смотрел, так, что искусство с точки зрения его формальной прекрасности — все в прошлом, потому что социалистический строй создает полностью базу для развития таких возможностей, о которых, конечно, не могла мечтать никакая Греция.
Совершенно неверно также, будто, говоря о том, что нынешнее искусство с формальной точки зрения ниже, чем греческое, Маркс вообще не считал его за искусство. Как вы знаете, у Маркса имеется целый ряд суждений, чрезвычайно беспощадных к буржуазному искусству, но он выделяет отдельных людей и отдельные школы, к которым относится с великим уважением. И, как мы это узнаем из последнего опубликованного письма Энгельса к Каутской,30 Маркс <и Энгельс> прекрасно понимают важность вспомогательного отряда художников даже во время социалистической борьбы, не только после первых побед при организации диктатуры пролетариата, но и до этого еще, важность их как барабанщиков, трубачей пролетариата в тот момент, когда пролетариат находится еще в марше, когда пролетариат еще снизу идет на штурм.
Конечно, в те времена возможности такого порядка революционной индивидуальной поэзии были, как вы знаете, не очень удовлетворительные, а относительно некоторых можно прямо сказать — сомнительные. Например, по поводу политических народных песен мы имеем суждение Энгельса о том, что они должны были потворствовать предрассудкам толпы.31 Они не имели широкого развития, носили узкий характер и особой цены не представляют. Что касается интеллигенции, которая была на службе у беднейшей демократии, у плебса, у бедноты, то вы знаете, что Энгельс и Маркс отмечали, говоря о романтиках–социалистах, об утопистах, что они скоро переходили в лагерь реакционеров, потому что пролетарского искусства не было, они же являлись художниками бедноты, а, с другой стороны, они очень скоро увядали.32 Естественно, что для того времени не могло быть много суждений у Маркса и Энгельса относительно пролетарского искусства, относительно искусства переходной эпохи, эпохи социалистического строительства. Мы у них достаточно ярких суждений в этом отношении не находим. Поэтому совершенно незаменимо то место в письме Энгельса к Каутской, где он говорит, что нужно так–то и так–то направлять, потому что «ваше дело производить впечатление на мелкую буржуазию».33 Совершенно ясно, почему Энгельс не говорит о следующей стадии, когда пролетариат выступит. Энгельс не мог поставить этого вопроса, потому что этого не было при нем, а мы прямой такой вывод должны делать.
Разумеется, что поскольку вы будете заниматься этими вопросами, вы должны к материалу, имеющемуся у Маркса и Энгельса, присоединить как непосредственное продолжение то, что писал Ленин о литературе. Потому что мы только тогда будем иметь законченный цикл идей, ибо у Ленина мы имеем применение этих великих мыслей Маркса и Энгельса к следующей стадии, к стадии начала реализации социализма.
III
Теперь, товарищи, я должен остановиться еще на одном споре. Плеханов в свое время иногда проговаривался немножко, именно тогда, когда его мучили сомнения, и он в целом ряде в общем чрезвычайно блестящих статей утверждал, что критик–марксист не должен судить о художественности произведения. Это<де> так же глупо, как если бы ботаник заявлял, хорош или плох тот или другой цветок или то или другое дерево. Нет, он должен выяснить почему этот цветок или это дерево здесь выросло.34 Словом, Плеханов стоял на генетической точке зрения. Все существующее оправдано, потому что иначе быть не могло. Надо понять, показать и т. д.
Ну а если вспомнить известное изречение Жорж Санд, что все понять — все простить,35 то выходит, что если все необходимо, то значит надо признать все хорошим. Меньшевики и склонялись к этому. Стало быть, этот оттеночек мысли у Плеханова до известной степени меньшевистский, он развился у Плеханова в идейной борьбе с народничеством, с эсерами — эти просветители, ко времени Плеханова ставшие уже в известной степени выдохшимися, особенно настаивали на субъективном отношении к искусству, несли его на суд, на оценку с точки зрения правды, справедливости и всяких подобных вещей, которые казались Плеханову интеллигентской чепухой и были для того времени интеллигентской чепухой. Не чувствуя за собой силы выступить как властная творческая сила в истории, эти пролетарские представители, пролетарские провозвестники, каким был для России Плеханов, становились на такую точку зрения: наше дело научно объяснить все факты литературы, ни в какие суждения мы не входим.
Нет никакого сомнения, что для того времени это могло быть полезным, но сейчас это вредоносная точка зрения, она совершенно для нас не годится, она фактически уничтожает всякую возможность литературной критики, литературной политики и не только для настоящего, но и для прошлого. Если посмотреть на Маркса и Энгельса, то по отношению к самым древнейшим писателям они то высказывают желчное осуждение, то страстно их приветствуют, ни к одному писателю не относятся генетически, а по отношению к каждому писателю говорят — так как этот писатель вырос на таком–то классовом навозе, то он и пахнет соответственно и никуда для нас не годится и мы его можем квалифицировать как представителя убожества той социальной среды, из которой он вырос, а так как такой–то писатель выражал прогрессивные теории своего времени, то хотя у него и было такое–то недомыслие, но в основном <это> здоровый писатель, которого мы приветствуем, который нам дает наслаждение, который нам может быть полезен.
Мы, конечно, можем стоять только на этой точке зрения, тем более, что мы сейчас строим свою собственную литературу, строим ее в высшей степени активно.
Точка зрения, противоположная генетической, нас не удовлетворяющей, — точка зрения функциональная. Когда мы изучаем литературное явление, функциональную точку зрения надо понимать двояко: это означает — какую функцию играло, сознательно или бессознательно, данное произведение, т. е. задумано было оно писателем как представителем класса с такой–то и такой–то целью, помочь организации своего класса, создать его самоуверенность, дискредитировать какого–нибудь вождя класса насмешкой ит. д., какие результаты от этого произошли, насколько это имело влияние на общественную жизнь и т. д. Это одна сторона дела. Другая сторона — какие функции данный писатель может выполнять по отношению к нашему времени, можем ли мы в данное время такого писателя издавать, комментировать, разъяснять и т. д., делать его нашим сподвижником?
Таким образом, кроме того, что через историю литературы мы понимаем, может быть, лучше, <чем> через другие источники, данную эпоху, глубоко смотрим в самое дно этой эпохи, — кроме того, мы еще изучаем литературу как классовую силу.
Я теперь пишу большое сочинение, которое мне будет стоить нескольких лет труда, которое я называю «Смех как орудие классовой борьбы».36 Каждому из вас бросается в глаза, какая это тема — смех был всегда и остается орудием классовой борьбы. С этой точки зрения он должен быть изучен. И, кроме того, мы берем себе из литературы союзников. Если, скажем, в речах Сталина мы встречаем литературные образы, то можем сказать, что Сталин нуждался в союзе с Щедриным, Грибоедовым, Чеховым, — он берет у них некоторые готовые формулы, которые необыкновенно прегнантно* устанавливают сразу, враждебно это явление или, наоборот, желательно. Так же пользуется этим и Ленин. И каждому из нас, ораторов, пропагандистов, нужно уметь <этим> пользоваться. И чем скорее придет то время, когда наряду с образами Щедрина и Успенского мы начнем пользоваться образами пролетарских писателей, тем будет лучше, ибо это будет значить, что эти образы пролетарских писателей выковались в определенные ценности, в готовые, выражаясь фигурально, разрывные снаряды, которые можно носить при себе в своем воображении и <как> своего рода гранаты, изготовленные из ингредиентов человеческой мысли, умело и своевременно бросать в своего врага. Такую силу имеют художественные формулы, художественные типы.
Вот, в сущности, на этом я бы мог закончить свою лекцию как определяющую основные подходы. К этому я могу еще прибавить, что самый процесс, самый метод изучения, разумеется, должен быть историческим, на основании источников, никакого в данном случае метафизического изучения источников быть не может, того изучения, которое прославлено буржуазными эстетами и критиками и которое сказалось на последнем съезде по истории литературы в Будапеште.37 Здесь возобладало то мнение, что источник довлеет себе, что через источник оказывается воздействие на ваш дух, а поэтому после изучения источника нужно записывать то, что в вашем духе происходит. Очень хорошо на это возразил Цисарж, который заявил, что когда он слушал все это на съезде, то ему казалось, что сосен в природе нет, а есть только Tannenbäume**, т. е. деревья без корней, служащие только для украшения во время праздника.38
* выражая большое содержание в сжатой, точной форме (от нем. prägnant).
** рождественские елки (нем.).
Москва, 1918. Фотография из альбома Н. К. Крупской. Кабинет–квартира В. И. Ленина в Кремле, Москва.
А на самом деле, конечно, дело обстоит не так, ибо каждый источник надо изучать в связи со средой (на это правильно указал Цисарж), но, разумеется, со средой, понимаемой в нашем смысле слова. Наше изучение среды — с точки зрения марксистско–ленинской теории, и никакого другого изучения быть не должно. Это изучение необходимо, для того чтобы понять, как возникают данные произведения, как они обратно влияют и т. д.
Затем здесь можно было бы прибавить два слова относительно изучения источников и биографий. Нужно ли входить во все мелочи? Здесь можно привести аналогию, когда человеку, который хочет выпить рюмку хорошего вина, рисуют пьяницу, погибающего от разбухания печени и спиртового самовозгорания. Это не совсем так. Если мы имеем хороший источник или биографию, которая нам с несомненностью определит своеобразие данных социологических явлений, из которых вырастает данное произведение, то, разумеется, мы должны им воспользоваться. Конечно, и на основании произведения мы можем догадаться, можем определить, почему данное произведение возникло.
Возьмем, например, Пушкина. Разумеется на основании его собственных произведений мы можем определить, как отразилась полоса трагического его сознания, падение известного класса, группы классов и т. д. Все это мы можем вычитать из его произведений. Но когда мы узнаем, что именно эти произведения Пушкин писал в Болдине, где его обступили со всех сторон призраки падения его класса, когда перед ним воочию встало наступление новой классовой силы, когда этот перелом был для него как для чрезвычайно умного человека вполне ясен, то, конечно, для нас этот момент чрезвычайно интересен.
Конечно, для нас чрезвычайно интересно выяснить на основании его биографии притягательные и отталкивающие силы по отношению к двору, к царизму, к дворянскому палладиуму; при этом чрезвычайно интересно выяснить, как складывались его отношения к большому свету, к царю, к бюрократии; в связи с этим для нас будет ясна классовая сущность Пушкина, классовое чванство Пушкина, Пушкина, поддерживающего монархический строй и страдающего внутри этого строя; как он, наконец, затравливается этим строем.
Тогда для нас <будет> полностью понятна вся гамма очень сложных ощущений Пушкина, весь этот переплет и т. д. И <так>, кого бы мы ни взяли. Поэтому не привлекать биографического материала — это значит просто взять закрыть один глаз, наполовину закрыть и второй глаз и заявить: «Я не хочу иметь к этому никакого отношения».
Если бы нашли произведение и не знали, кто его автор, в каком веке оно написано, обо всем этом должны бы вы догадываться, а тут приходит человек <и говорит:> «Я вам расскажу, как было».
Надо встать на такую точку зрения и все это усвоить. Но для этого нужна большая работа. Часто говорят, что это психологизм и т. д. Отбросим это, возьмем вопрос: должен ли литературовед заботиться о мелочах — куда, когда поехал <писатель>, где, когда жил и всякие такие вещи, вплоть до того, какими чернилами писал. Конечно, есть некоторые границы, за которыми это становится уже смешным, но надо помнить, что точная наука (а наше литературоведение должно быть точной наукой) часто находит себе опору в чрезвычайных мелочах. Какой–нибудь биолог может найти в том, как размножается какой–нибудь дрозофил, целый сноп света, <бросаемого> на все вопросы генетики. Так же точно бывает, что вам совершенно непонятно, как и каким образом такое–то оригинальное явление возникло у такого–то поэта, и вдруг вы находите письмо, где сам автор пишет, что я читал такого–то писателя и у него позаимствовал то–то и то–то — вот ларчик, оказывается, просто открывался. Поэтому иногда самые мелочные изыскания могут быть очень интересными.
Тов. Якубович, который, кажется, присутствует здесь, выпускает на днях свое исследование по поводу одной цитаты, которую Пушкин приводит, цитаты, как до сих пор казалось, какого–то неизвестного писателя. Только сейчас он открыл, что это цитата из Бэкона.39 Это сразу указывает на соотношение между веком Бэкона — Шекспира и временем Пушкина, на взаимоотношения дворянства, монархии и буржуазии. Что это позаимствовано у Бэкона, это в высшей степени интересно, а как вы это <узнаете>, если не будете заниматься иногда мелочными изысканиями? Этого обойти нельзя. Всякая точная наука предполагает и такого рода исследования. Есть люди, которым это несколько чуждо, они больше стремятся к большим синтезам, к большим догадкам, к большим открытиям и т. д., номы, марксисты, ни на одну секунду не должны бояться всего того, что называется прозаической стороной искусства, — знание языков, знание источников, умение читать рукописи, шарить по архивам. Всю эту сторону дела мы должны воссоздать. Если мы этого не воссоздадим, то над нами, пока они живы, будут смеяться буржуазные литературоведы, считая нас поверхностными, верхоглядами, которые подлинной работы не делают. Мы знаем, что наша работа не может без этого идти. А если они совершенно погибнут, и мы останемся только с разными цитатами и всякими другими обобщениями, это будет очень скверно и потом вас дети ваши или внуки ваши добрым словом не помянут: им придется опять во всем этом разбираться, всю эту работу воссоздавать. Поэтому, если мы должны отдавать должное работе синтезирующего характера, то мы будем особенно рады, если любой из вас, аспирантов, примется за работу исследовательскую, за работу по изучению рукописей и всего того, что к этому относится.
Теперь у нас два часа. Я хотел бы все–таки некоторые абрисы английской и германской литератур сделать, но, может быть, за поздним временем откажемся от этого? (Голоса: «Просим, по только сделаем пятиминутный перерыв».) Хорошо, на пять минут сделаем перерыв.
IV
Товарищи, как вы видите, я сделал содержанием своей лекции, которую я считал уже фактически законченной, главным образом методологическую и методическую стороны, но так как вы просили меня сделать некоторое общее введение в историю английской и германской литературы, то я такой легкий, такой суммарный очерк могу сегодня дать. Оправданием того, что я даю легкий и суммарный очерк, служит то, что мы с товарищами Жирмунским и Шишмаревым сговорились сегодня относительно прочтения вам некоторого количества лекций, которые дадут вам более или менее полную картину.
Мы обсуждали вопрос о том, следует ли каждую литературу начинать издревле или лучше начинать ее с момента, когда она начинает приобретать мировое значение. Я лично полагаю, что не следует, конечно, замыкаться от того, что некоторые лекторы захотят, может быть, дать некоторое представление о возникновении и развитии литературы, это можно сделать одной сжатой лекцией, но для нас гораздо важнее <начать с того периода, когда> литература выходит на арену мирового значения.
Англия, как вы знаете, сделала это очень рано. Если мы будем следовать взглядам Маркса, то должны будем сказать, что елизаветинское время есть как раз то время, когда мы уже бесспорно можем говорить о мировой значимости английской литературы.40 Какое огромное значение придавал этому веку Маркс, и в частности центральной личности того момента литературы, т. е. Шекспиру, видно из того, что в той самой «Zur Kritik», которую сегодня мы подвергали подробному разбору, говорится так, например: прогресс капитализма не оказался благоприятным для художественного творчества, высочайшие моменты этого художественного творчества находятся позади, например античное искусство и Шекспир.41 Так что Шекспир поставлен как единственное явление, которое стоит близко к античному искусству.
Когда Лассаль выпустил в свет свою драму, то Маркс и Энгельс, не сговариваясь, стали сравнивать с формальной точки зрения эту драму с Шекспиром,42 а по содержанию они просто вместо абстрактных лассалевских толкований о якобы неизбежной трагедии каждого революционера, заключающейся в том, что ему приходится приспособляться оппортунистически к действительности и тем пачкать свои абстрактные идеи (что носил в своей душе сам Лассаль — немножко полуавантюристическая натура), они исследовали, какие же моменты крестьянских войн он рассматривает, и увидели, что он делает героем весьма сомнительного и близкого к правому флангу персонажа, совершенно не заинтересовываясь левым флангом.43 Что касается сравнения с Шекспиром, то, мне кажется, никакого сравнения здесь не может быть. Энгельс, говоря о том, что придет настоящий социалистический драматург, делает довольно правильное предсказание, что этот драматург будет по своим методам глубоким шекспиристом, но от Шекспира будет отличаться тем, что будет вместе с тем и марксистом, чем Шекспир при всем своем желании быть не мог, хотя иногда очень близко подходил к этому идеалу.44
Так вот эти моменты в истории английской литературы чрезвычайно важны и на них следует остановиться.
Общая характеристика заключается в том, что торгово–промышленное развитие, главным образом торговля, обмен, который базировался вместе с тем, как вы знаете, на развитии шерстяной и некоторой другой продукции в Англии, прорвало старый цеховой экономический строй и выдвинуло буржуазию как быстро организующуюся силу, что потом и сказалось во время революции в XVII веке. Эта буржуазия заключила союз с монархией. Монархия, как всегда это бывает, сделалась наполовину буржуазной, но в то же время монархия охраняла прерогативы и другой стороны — дворянства. Произошло создание полной абсолютистской монархии, которая бывает всегда, когда монархия может опереться на равновесие классовых сил. В такие времена всегда, если монархия уже имеется, то она старается сделаться абсолютистской, а если ее нет, то появляется цезарь со всей непреложностью физического закона.
Эта монархия, опираясь одной ногой на буржуазию, а другой — на дворянство, удерживала равновесие. При этом равновесии с большой экспансией проявились силы Англии вовне, тем более, что открылись большие мировые рынки, открылись большие возможности мореходных путей. Нужно сказать, что в этом отношении Англия того времени, когда англичане вырвались из цеховых пут на свободу, рекрутировала всюду, где угодно, своих слуг — авантюристов, она рекрутировала их около трона, как, например, Ролея,45 и в низах, в среде матросов, где замечается такая же жажда авантюры, наживы, жажда новой, свободной жизни. И вот вся эта закружившаяся вихрем Англия создает необычайно пестрые краски, необычайное богатство явлений. Но это не было просто кружение вихря, а полное столкновение и столкновение прежде всего индивидуального порядка: всякий боролся за себя.
Если изучать самую жизнь Шекспира как автора, его борьбу с академистами 46 и другими конкурентами, то можно констатировать, что она не была лишена тех же чрезвычайно бурных столкновений. Но как все это вместе отображается в определенной классовой борьбе, — чрезвычайно любопытно и интересно. Сам Шекспир принадлежал к той демократии, которая революцию отвергала, но он понимал ненависть буржуазии, которую она обнаруживала по отношению к театральному делу. И в том, как Шекспир изображал конфликты монархии и аристократии, видна внутренняя мудрость шекспировской исторической драмы.
Присматриваясь к театру Шекспира, мы видим, что за внешней веселостью его комедий, за огромным эффектом его драм, за их театральностью в самом лучшем смысле этого слова, мы видим отображение борьбы классов в определенном и в то же самое время неопределенном выражении: определенном в том смысле, что мы можем сказать, какие компоненты составляют эту классовую борьбу, а неопределенном — потому, что никогда Шекспир ни к каким определенным выводам не приходил. У него, как мы можем предположить, существовало глубоко пессимистическое отношение к жизни, как к такой борьбе воль, которая всегда кончается несчастьем, где лучшие люди гибнут. Этот пессимизм все более и более сказывается в его произведениях, и если в конце своей деятельности он немножко в угоду публике, которая требовала успокаивающих доз, перешел в некоторую фантастику, романтизм, то вместе с тем этот период философски является падением его предварительного взлета.
Таким образом, известный скорбный налет, известное недоумение Шекспиру свойственно. Известна подпись Шекспира под словами, что время свихнулось и что его чрезвычайно трудно поставить назад 47 и что какой ужас, если звезды перестанут повиноваться солнцу.48 Шекспиру присущ этот аристократический, консервативный душок, можно сказать аристократически–реакционный. В общем же он характеризуется пессимизмом, который усиливался тем более, чем дальше шла борьба, в особенности после гибели заговора Эссекса,49 к которому нельзя относиться как к простой шалости блестящей молодежи, а как к такому серьезному протесту, каким был заговор Брута и Кассия.50 Все это могло бы сделать его чуждым для нас, если бы не было того колоссального потока молодости и сил, который заставляет Энгельса отмечать положительные заслуги Бальзака.51 Эти силы жизни обусловлены молодостью эпохи, которая <сообщает> такой напор таланту, что он часто бьет дальше, чем хочет сам человек, дает больше, чем он сам замыслил. Блеск шекспировского воображения, его мимический талант, его сила переселения в разных людей остаются непревзойденными.
Я остановился так долго на Шекспире, но нужно отметить, что все кольцо елизаветинское, которое его окружает, тоже интересно. Маркс указывает на это как на один из кульминационных пунктов литературы.52
Таким образом, если мы отсюда будем начинать характеристику английской литературы, то можем сказать, что, как в материнском <лоне>, в новой литературе выявляется буржуазия, втискивающаяся клином в старое общество, освежающей струей на него действующая и ведущая к новой жизни, причем молодая буржуазия казалась гораздо более инте ресной, чем оказалась в зрелом возрасте, так как Англия была первая из тех стран, кроме Италии (но в Италии несколько иначе все это шло, и Италия сейчас находится вне поля нашего зрения, она не имела такого не прерывного мирового влияния), из европейских стран в Англии это произошло раньше всех, и здесь мы видим такое блестящее вступление.
Я могу не останавливаться подробно на том, что произошло позднее. Вы знаете, что шекспировская драматургия, самый театр, которым жил и на котором вырос Шекспир, с самого почти его возникновения находился под бомбардировкой лондонского Сити. Торговцы, купцы и мелкая буржуазия ненавидели этот театр, стремясь как можно скорее упорядочением своего положения наложить на всё свою руку и провозгласить для себя бережливость, честность и наживу, а для народа христианское терпение и подчинение. И когда на некоторое время эти силы возобладали, то пуританская свобода подавила блестящие краски английской литературы первого периода установления буржуазии.
В период восстановления Стюартов, Кромвеля, нового возвращения Стюартов 53 мы не видим уже того литературного влияния, того литературного блеска, который мы видели в начале этого процесса, потому что буржуазия накладывает тяжелую и антиэстетическую руку на все это искусство. Проходит волна затихающего искусства, которое в тех или других случаях, когда аристократия опять получает известную роль и поскольку она получает эту роль, опять начинает проявляться. Нужно сказать, что буржуазия постепенно свое искусство обретает.
Можно назвать отдельные имена, симпатичные и интересные, но в общем самое любопытное время будет — развитие буржуазной литературы как таковой, в собственном смысле слова буржуазной литературы. Эта литература реалистична и тенденциозна постольку, поскольку она говорит правду о настоящем наживающем<ся> честном человеке, рассказывает ее возможно более громко и часто противопоставляет ей сатиру. Возьмите Свифта, возьмите дефоевские романы.54 Они все имеют именно это значение.
На многом следовало бы здесь остановиться, но я скажу только о наибольших проблесках социалистической мысли, которые <и> раньше имели место, но которые теперь постольку стали играть роль, поскольку начинается пауперизация населения и развитие пролетариата.
О самой буржуазной литературе этого времени, хотя в ней есть довольно крупные вершины, Маркс выражается пренебрежительно. В своей знаменитой статье о Карлейле он говорит, что буржуазия засушила литературу-; он имеет в виду сравнение с блистательным развитием литературы во времена Шекспира; образованные лондонцы, как он выражается, низвели ее до мещанской серединности, и он хвалит Карлейля за смелость, с которой тог схватывался, по крайней мере в молодости, с буржуазией. Создание нового стиля, создание нового английского языка ставит Маркс Карлейлю в большой плюс.55
Карлейль, как вы знаете, потом очень плачевно кончил, и Маркс отмечает глубину его падения.56 В этой статье для нас важно то, что в то время, когда начался протест против буржуазии, когда мелкая буржуазия стала протестовать все более и более против расширяющей власть, все подминающей под себя буржуазии, в то время, когда началось обратное влияние протестующей мелкой буржуазии, реалистическая литература, английская литература восходит на известную вершину.
Я все время руковожусь здесь не личными вкусами, а стараюсь основываться на непререкаемых авторитетах. Вы знаете, с каким глубоким уважением и высокой оценкой относится к этим мелкобуржуазным реалистам, Диккенсу, Теккерею и всей окружающей их плеяде, Маркс.57 Я лично писал уже об этом, моя статья о Диккенсе имеется в словаре.58 Мне кажется, что пролетарская литература может очень многое почерпнуть как в изучении Шекспира, так и этих писателей. Эти самые жизненная правда, сарказм и юмор, конечно, во многом применимы к нашим задачам.
Из этого, конечно, не следует, что Маркс забывал об их мелкобуржуазном и даже реакционном характере, ибо они не признавали революцию, не хотели революции, к пролетариату же относились как к язве общественной, а не как к творческому классу. Но это не мешало им чрезвычайно храбро схватываться с буржуазией и давать ей, как выражается сам Диккенс в «Домби и сыне», хорошего туза в середину жилета.59 Это было сделано как раз самим этим писателем по отношению к буржуазии.
Следующий гребень английской литературы, на котором придется остановить внимание (мне приходится, товарищи, себя очень сокращать), — это викторианский период в собственном смысле слова, период расцвета английской торгово–промышленной монархии, время успехов, колоссальных успехов буржуазного капитализма, которое принесло с собою снижение литературы.60 Конечно, может быть, кое–что любопытное и здесь можно найти, но уже таких огромных явлений мировой значимости указывать не приходится.
Только когда трещина совершенно стала заметной, когда Англия приходит в то состояние некоторого распада, которое мы сейчас наблюдаем и которое началось до войны (некоторые чуткие наблюдатели уже видели, что буржуазия Англии подходит к своему концу), тут мы видим вновь значительное повышение английской литературы, так что современная английская литература и близкая к современной опять приобретает мировое значение и возвышается очень сильно над писателями второй половины XIX столетия.
Конец XIX века и наши теперешние десятилетия дают опять очень интересные явления — с одной стороны, явления распада. К явлениям утонченного распада мы относимся социально совершенно отрицательно, но они бывают интересны, потому что показывают иногда, как глубоко эти элементы распада проходят, а затем, отпадая от общества, будучи общественными отщепенцами, они все–таки иногда являются довольно интересным зеркалом, и прямым, и косвенным, для общественности. Тут мы имеем большую полосу английских писателей от Уайльда до Джойса, среди которых мы видим в общем глубоко отрицательное отношение к господствующим классам, иногда приводящее к тяжелым конфликтам, положение, немножко напоминающее то, которое мы видим всюду в лагере богемы, более или менее блестящих отщепенцев от общества, которые сами не имеют пути и ни к какому классу не примыкают. Это одна часть литературы.
Другая часть английской литературы этого времени свидетельствует о громадной внутренней силе английского народа. Пожалуй, ни одна мировая литература не показывала такого движения умов и таких больших писателей, которые бы так зрело и вдумчиво искали коренные причины и симптомы распада. К сожалению, все писатели этого типа, как Уэллс, Шоу и др., не представляют людей, которых мы могли бы считать за полных наших союзников, но нет никакого сомнения, что влияние они оказывают на общество огромное и должны быть названы буржуазными только постольку, поскольку они не бьют буржуазию такими смертоносными ударами, как бы нам хотелось. Но во всяком случае Уэллс есть заклятый враг буржуазии, но он хочет ее победить путем пропаганды и путем эволюционных средств,61 и Шоу также, хотя он острие свое против буржуазии смягчает всякого рода шутками.
Все время в английской литературе идут интересные писатели, которые представляют собой как бы объективных научных наблюдателей различных классов. Они стараются быть совершенно объективными и беспристрастными и создают такую критику общества, которая заслуживает очень внимательного изучения, хотя их беспристрастие тем самым определяет их бесплодность. Три–четыре дня тому назад умерший Голсуорси 62 несомненно являлся одним из больших представителей объективного общественного романа. И до него мы знаем несколько крупных представителей.
Так приблизительно характеризуется мировая значимость английской литературы, вообще чрезвычайно богатой и разнообразной и в марксистском смысле передовой, потому что она ставила и те вопросы, которые ставились благодаря стремительному росту буржуазии, и те, которые ставились благодаря страданиям низших классов, интеллигенции и мелкой буржуазии, и те, которые вызываются предсмертным кризисом Англии.
На САСШ я не буду останавливаться. Не могу только не отметить, что в САСШ современная литература в силу большего размаха, чем в Англии, размаха своих общих противоречий и в силу национального умения, национальной выдержки не скованного традициями населения, волна этого реВолюционного роста поднимается выше. Разумеется, изучение современной американской литературы чрезвычайно интересно, но Драйзер, Эптон Синклер, Синклер Льюис, Дос Пассос — все это та же западноевропейская литература. Я могу вам перечислить не один десяток больших писателей, которые все ведут ту же линию недоумевающей и проклинающей критики основ буржуазии. Большинство из этих писателей прямого выхода из (катастрофы не находит, потому что представляет собою отражение кризиса в мелкобуржуазной среде.
Пролетарская литература в Англии и Америке существует. К ней нужно отнести таких крупных социалистов, как Годвин, Голд 63 и др. Но совершенно естественно, что пролетарская литература по–настоящему развиваться не может, так как класс находится в большом угнетении.
V
По совершенно другой линии и, можно даже сказать во многом противоположной, развертывается развитие германской литературы. Для нас, марксистов, дело заключается в следующем. Прежде всего интересно отметить, что, когда Маркс говорит о германской литературе, он указывает на затхлость, провинциальность, отсталость и глубокую человеческую немощность этой литературы, причем он ей противопоставляет английскую литературу, которая вела первую линию, хотя бы повышаясь и понижаясь, но первую линию, отражавшую все перипетии на поверхности великого буржуазного шторма;64 а здесь, в Германии, литература <была> внизу, придушенная, придавленная, не находящая настоящей силы для революционного протеста.
И если бы дело обстояло <только> так по отношению к Германии, про которую Гейне говорил, что здесь революционные события проходили, как буря в мозгу, имели характер кабинетный,65 то мы могли бы сказать, что германская литература не представляет большой значительности, мы могли бы сказать, что литература в Германии после Тридцатилетней войны вследствие разорения, вследствие изменения самого географического положения страны, Германии, не втянувшейся в рост капитализма, в этой Германии не могла получить своего развития, ибо эта Германия оставалась провинцией.66
И действительно, вы помните, как недавно опубликованное письмо Энгельса начинается с небольшого экскурса по части Берлина как мирового города.67 Видно, что Энгельсу не хочется верить в то, что Берлин может стать настоящим мировым городом, а не оставаться по–прежнему захолустьем. Отсюда видно, до какой степени Энгельс был уверен, что Германия будет продолжать и впредь оставаться европейским захолустьем. Но, товарищи, это захолустье великого народа, в котором были сперты огромные силы, поэтому движение мысли там было чрезвычайно грандиозно, <хотя> оно не носило коллективного характера, а замкнулось в область поэзии, философии. Поэтому и появилась знаменитая фраза, что немецкий народ состоит из Dichter'ов и Denker'ов, а не из Tater'ов и Helden<'ов>*, т. е. не из активных личностей, а из мечтателей.
* из поэтов и мыслителей, а не из деятелей и героев (нем.).
В этих мечтаниях, как отметил Гейне, и отразилась сущность всей революционной бури. В этих мечтаниях заключалась вся внутренняя трагедия германской философии и германской поэзии; заключается она в том, что есть внутренние силы, благодаря которым они могут подняться на большую высоту, выше даже европейских достижений. Но они знают, что практически этого сделать не могут, ибо находятся под страшным гнетом, чрезвычайно тяжелым гнетом неразвитого общества, которое их съест. Поэтому они обескуражены, им нужно искать выхода оппортунистического.
Так относятся наши великие учители к классикам, т. е. к той полосе немецкой литературы, которая начинается с Лессинга, Гердера, которая в придушенном слегка виде формулирует требования молодой буржуазии. И под ее именно флагом и под флагом молодого Канта, который приблизительно так думал, когда был молод, выходят на сцену и Шиллер и Гете, великие поэты, но очень скоро они оказываются в полной зависимости от окружающей их действительности, они становятся ренегатами, они думают, что переросли свою молодость, что стали разумными. На самом же деле у них просто обрезали по полкрыла, и они стали летать или ниже или выше — но в воображении; эти полеты были уже фантастическими.
У Энгельса мы находим совершенно гениальную характеристику Гете.68 Правда, читая ее, вы должны принять во внимание и окончание, где сказано: я потому не занялся гениальными сторонами Гете, потому что эта, извините за выражение в Академии, сволочь подобрала все самое слабое и жалкое у Гете. Маркс и Энгельс неоднократно называют Гете величайшим поэтом они очень часто цитируют его. Я прошу обратить внимание, что каждый раз, когда появляется на сцену цитата <из> Гете, можно думать, что сам Маркс ее сочинил, так она подходит к месту — такая диалектика, такая сила, такая чувствительность. Они прекрасно понимали, что это гигант, который был бы еще большим гигантом, если б его не придавливало так к земле. Эту критику вы будете разбирать самым внимательным образом и вы увидит признание со стороны наших учителей того, что гениально и заслуживает быть развернутым. Они говорят, что если Гете удрал в мир практики придворной жизни, во внешние успехи, в чистое искусство, и <при> всем этом создал значительные вещи, <то> главным образом потому, что настоящей активности <ему> не дано было развернуть, и все больше и больше выходила на сцену высокопарная пышность: на земле идеальные формы жизни неосуществимы, стало быть, надо мечтать и в этом мечтании получать своеобразное наслаждение.
Остановлюсь еще на том явлении, которое можно отметить как харак терное для будущего поколения, — на переходе к романтизму и в извест ной степени на самом романтизме. Тут было бы интересно отметить, что это явление, как будто вызвавшее максимальные симпатии со сторон немецкого народа и оказавшее глубокое влияние, имело свою революцион ную подоплеку. Люди были поставлены в такое положение, что подобно шиллеровским героям, подобно Карлу Моору, видели себя окруженным такими людьми, с которыми, они считали, ничего не сделаешь — это ка раз то, что заставило Шиллера вернуть свой билет на вход в Конвент.69
Это настроение немецкой буржуазии вызвано было тем, что в условия внешних не было возможностей для развития деятельности. Вы прочи тайте гениальное произведение Гельдерлина против немецкого народа увидите, что человек безумно огорчен этой затхлостью, этой поповскской затхлостью, благодаря которой Германия превращается в какой–то Окуров.70 Он шел непреклонно к своей цели, тем не менее выполнить ничего не мог. Его мечты, что он будет великим учителем, были химерическими мечтами, ибо помириться с действительностью он не мог. В отношении его Гегель, конечно, правильно сказал, не называя его по имени, что есть такие героические натуры, которые видят, что действительность отстает от идеи, это благородные натуры, они правы не потому, что они лучше действительности, ибо нельзя быть лучше действительности, но в вопросах <…>* не умеют соединять.71
* Пропуск в стенограмме.
Еще показательнее, что молодые тюбингенцы, <такие> как Шеллинг, Гегель, Гельдерлин и др.,72 переживают ту же участь, они переодеваются в античные тоги, вещают как пророки, призывают к подлинной жизни, клянут христианство, а потом создают гениальные ухищрения, дабы примириться с действительностью, причем некоторые из них шлепаются в лужу католицизма, как Шеллинг, а некоторые создают гениальные построения, которые послужили на пользу пролетариата, как Гегель, когда он, зовя к примирению с действительностью, понимает эту действительность как диалектически развивающуюся, как динамику. Правда, потом он старался всячески замазать это, но ему не удалось, ибо шел новый класс.
Такова была эта литературная страница. Дальше следует опять интересная в мировом масштабе значительная страница романтики, которую возглавил Гете.73 Можно сказать, что социальным субстратом этой эпохи явились те агенты, которые выражали собою тенденции средних классов, которые были детьми мещан, которые сохраняли традиции тех самых элементов городского населения, составлявшего сущность средневековья и ближайшего послесредневекового периода. Здесь люди освобождались из средневековых пут и здесь имеет значение все то, что я говорил в отношении шекспировской эпохи. Здесь создалась более свободная жизнь, новая жизнь, но коммунистического идеала быть не могло, искони был индивидуалистический классовый идеал. Цех был тем обручем, который связывал группы людей, но когда с бочки обручи спали, то она рассыпалась на отдельные части, на индивидуалистические элементы.
Отсюда мы и видим, что в первой половине романтическое движение носит анархический характер: полная свобода личности, ироническое отношение к браку, свобода любви, ироническое отношение к господствующему классу, стремление к свободе, хотя бы только во сне, хотя бы только в своей спальне со своей подругой одинакового уровня.74 Но тем не менее анархическое мещанское движение приобретает другие формы, в то время как Германия преодолевает новые трудности, ведет свое развитие по прусскому образцу, как говорил Владимир Ильич.75 Представители этого движения все в большой ужас приходят перед прогрессом, и если некоторые из них продолжают отсиживаться в чистой фантастике и почти забывают о контакте с действительностью — таков был Новалис, в известной степени Гофман, — то с другой стороны <слышится> призыв назад, к устройству «истиннопрогрессивной» общественности. Идеологической подоплекой этого движения является религия и вечные истины, а в общем — реакционное направление против тогдашнего прогресс<ивного>, правда, очень жесткого и вряд ли приветствуемого тогдашнего капитализма, — тут и историческая школа права 76 и т. д. и т. п. Этим объясняется та своеобразная смесь прогрессивного и реакционного, которую вы в романтике найдете.
Когда романтика схлынула, осталось в значительной мере пустое место. Очень часто на этом месте говорят о «Молодой Германии».77 Вы знаете, что Маркс и Энгельс говорят о тех демократических течениях, которые здесь отмечаются, — первые демократические течения были до такой степени слабы, что они скоро впали в тривиальность и пошлость.78
К 1848 году постепенно развиваются некоторые революционные движения; некоторые группы, некоторые буржуазные фракции, так сказать, проявляют известную активность, но, как вы знаете, все это было очень слабым.79 Маркс редактирует «Rheinische Zeitung».80 Курьезно, что эта полоса немецкой литературы вокруг 48 года, вокруг неудач революции, могла создать такое огромное литературное явление, как Гейне. Я уже сегодня случайно говорил о Гейне по другому поводу, приводя его в пример, вы это вспомните. Это полный противоречий поэт, и эти противоречия выражают собой глубокое несчастье, в которое Германия впала, и глубокое сознание лучшими людьми позорности такого положения, глубокое сознание того, что все равно из него никак не выберешься. И только наши учителя Маркс и Энгельс высятся над этим титанами, потому что они видят, как идет из глубины страшного унижения тот новый класс, который в состоянии быть активным.
Это прозрение нового класса выводит их из плена мелкой буржуазии, которая, все равно — на правом ли фланге с пацифистскими тенденциями, на левом ли с гейневскими порывами, — осуждена на то, что она не чувствует под собой почвы, чрезвычайно шатка, чрезвычайно гибка.
Когда оформилась буржуазная Германия, — об этом вы все хорошо знаете, незачем и говорить, — то литература потекла по двум путям — по одному пути пошла совершенно дегенеративная литература, совершенно позорное движение, которое можно изучать только разве для того, чтобы показать, до какого падения дошла литература.
По другому литературному пути начал оформляться натуралистический протест, заимствованный, шедший из Франции. Вам, вероятно, придется остановиться на центральной фигуре этого времени, на Гауптмане, на ранних гауптманианцах и на дальнейшем движении натуралистов, о которых Маркс очень правильно судил 81 и которым Плеханов дал прекрасный анализ, <отметив,> что, будучи в дисгармонии с торжествующим буржуазным юнкерством, с начальством, они не имели в себе ни революционных порывов, ни идей, ни формул.82 Лозунг Золя — наше дело описать, как это существует и больше ничего — был и для них ведущим лозунгом с тою только разницей, что во Франции все–таки находились люди, которые быстро обращали на это дело свою энергию, а в Германии этого не было. Ибо германская социал–демократия, к сожалению, оказалась не выдержавшей того экзамена, который приготовила судьба и к победе над которым и к преодолению которого ее великие учителя готовили.
Символическое движение в Германии, на котором следует остановиться, имеет чрезвычайно много общего с романтикой.83 Мы имеем то же положение интеллигенции, которая не может выпрямиться, не может выйти из своего угнетенного положения, ее постоянно притягивает, призывает фантастика. То самое замечание, которое делает Гейне в отношении Лассаля, что это настоящий железный человек, который не будет гадать, а будет делать,84 но, как оказывается, что когда нужно действовать, то делать–то нечего и остается только протестовать, это замечание остается в силе.
Это символическое движение, начиная с Георге, приобретает экспрессионистский, декадентский характер, это движение интеллигенции, лишенной базы для существования. Это самые несчастные люди в Mittelstand*, из которого выходят серьезные художники, потерявшие веру в нацию, все свои надежды на победу: всё оказалось разбито в черепки, и вот тогда выступила интеллигентская, мещанствующая экспрессионистская школа, расползшаяся по всей стране, сущность которой сводится к тому, что отбрасывается формально пение и заменяется воем и рыданиями:
«Я ничего не хочу знать, я не хочу ничего знать глубоко, от всего отмахиваюсь рукой, не хочу претворять в художественные произведения, я хочу переживать страшные кошмары, которые овладевают всей моей душой, во всем их непосредственном ужасе».
Это основное движение. Идя отсюда, некоторые идут к коммунизму, а другие к религиозному успокоению, но в центре царит отчаяние. Я должен сказать, что эта волна безобразных, а потому и довольно безобразных явлений сейчас схлынула. Но эти настроения среди интеллигенции продолжаются и в современной Германии и порождают родственные явления, принадлежащие к самым глубоким и интересным явлениям немецкой литературы. Все еще в нынешней Германии господствует сумятица, сумятица большая, чем в английской литературе, хотя и там она довольно большая, но <здесь> в полном смысле слова сумятица. Отдельные произведения представляют собою совершенно выраженные произведения отчаяния.
Я не настолько знаю английскую современную литературу, чтобы ручаться, что это правда, но мне кажется, что, несмотря на всю безотрадность лоуренсовских романов,85 они не могут идти в сравнение с таким крупным писателем, который выразил в такой мере полное беспощадное отчаяние, как Кестнер в «Фабиане».**86
* в среднем сословии (нем.).
** Далее в стенограмме: «перечисляет целый ряд фамилий немецких авторов».
Что касается пролетарской литературы в Германии, то она заслуживает большого внимания. Здесь мы имеем несколько талантливых писателей, имеем вполне оформленную организацию писателей, которая оказывает известное влияние на немецкую литературу, но все–таки нужно сказать, что она еще находится, в общем, в зародыше.
Таков общий взгляд на германскую литературу. Она никогда за все историческое свое существование не могла дойти до какой–нибудь ноты надежды и победы, иначе как приобретая при этом полицейский, монархический, официальный характер, превратившись в собственную противоположность и сделавшись официально продажным искусством. Были и здесь свои трагедии, но в общем можно вспомнить известную фразу Маркса о Байрейте, резиденции Вагнера, что происходит трафаретное празднество казенного музыканта.87 Это явление нужно отметить как явление отрицательного порядка. Остальные явления положительные — многострадальность литературы, некоторое заражение тревогой, попытки найти какой–то исход полумистическим философским взлетам, где поэты развивали совершенно изумительную фантастику, — и вместе с тем мы не находим торжествующих ноток. Даже величайшие из немцев если и начинают боевым образом, то потом на эти боевые звуки набрасывают сурдинку, и начинается тот же процесс завертывания в себя, уход внутрь, в фантастику, в неосуществимые идеалы, в примирение с действительностью и т. д. и т. п.
Мы думаем, что это не всегда останется так и что если теперь проходящая через кризис Европа будет преуспевать, то каждая страна по–своему выйдет на новую литературную дорогу, и мы будем ее изучать тогда, когда эти народы на нее выйдут.
- Владимир Владимирович Буш (1888–1934) был с 1931 г. ученым секретарем Пушкинского Дома АН СССР. ↩
- См. предисловие к настоящ. публикации. ↩
- Оценку методологической позиции В. Ф. Переверзева см. в докладе Луначарского «Актуальные вопросы художественной литературы» (стр. 76–82 настоящ. тома). ↩
- См. суждение Энгельса о Бальзаке в письме к М. Гаркнесс (К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. 37, стр. 36–37); ср. также высказывание Энгельса о положении немецкого поэта — в работе «Немецкий социализм в стихах и прозе» (там же, т. 4, стр. 222). ↩
- См. письмо К. Маркса к Ф. Энгельсу 8 мая 1856 г. (К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. 29, стр. 41). Резкий отзыв о политической позиции Гейне содержится также в письме 17 января 1855 г. (там же, т. 28, стр. 354). ↩
- По–видимому, Луначарский ошибся: не Б. Шоу, а Г. Уэллс после поездки в Советскую Россию (1920) писал в своей книге «Россия во мгле», что его раздражало «вездесущее изображение» бороды К. Маркса (Герберт Уэллс. Собрание сочинений в пятнадцати томах, т. 15. Биб–ка «Огонек». М., изд–во «Правда», 1964, стр. 341). ↩
- Вероятно, имеется в виду та часть главы III «Манифеста Коммунистической партии» (раздел 1, пункт b), где говорится о появлении в буржуазном обществе мелкобуржуазных слоев, постоянно колеблющихся между пролетариатом и буржуазией. Эта шаткость отражается и в теориях образованных представителей промежуточного слоя (см. К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. 4, стр. 450; ср. также т. 8, стр. 10 и сл.). ↩
- Это высказывание содержится в 3–й книге «Путевых картин» (Генрих Гейне. Собрание сочинений в десяти томах, т. 4. Гослитиздат, 1957, стр. 247). ↩
- Идея прогресса как постепенного духовного совершенствования человеческого общества выражена у Г. Э. Лессинга в сочинениях «Поп–метафизик» (1755) и «Воспитание рода человеческого» (1780), у И. Г. Гердера — в «Идеях о философии истории человечества» (1784–1791), у Ж. А. Кондорсе — в «Эскизе исторической картины прогресса человеческого разума» (1794); подобное представление о прогрессе было свойственно просветительской идеологии (Вольтер, Дидро, Монтескье и др.). ↩
- Августин (353–430), один из первых крупных христианских философов, разработал, в частности, учение о решающей роли божественного предопределения в человеческой истории. ↩
- Французский философ–позитивист Огюст Конт (1798–1857) в последний период жизни пытался сконструировать некую «позитивную религию», соединяя научные данные о человеке и обществе с религиозными идеями сен–симонизма («Система позитивной политики», 1851–1854). ↩
- См. работы английского философа Герберта Спенсера (1820–1903) «Социальная статика» (1850) и «Основания социологии» (1876–1896). ↩
- См. статью К. Маркса «Британское владычество в Индии» (К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. 9, стр. 130–136). ↩
- Речь идет о «Введении (Из экономических рукописей 1857–1858 годов)», которое при жизни Луначарского было известно под названием «Введение» к работе «К критике политической экономии» (см. К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. 12, стр. 805). По словам Луначарского, «основная идея этого наброска Маркса заключается в том, что развитие искусства вовсе не идет параллельно с ростом научных знаний и технических умений, с ростом экономическим и ростом могущества человеческого хозяйства» (VII, 486). ↩
- К. Маркс писал о Веронском конгрессе так называемого «Священного союза» (1822) в письме к Ф. Энгельсу 26 октября 1854 г. (см. К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. 28, стр. 338–343). ↩
- «Введение» К. Маркса к работе «К критике политической экономии» было впервые опубликовано в русском переводе в качестве приложения к четвертому изданию этой работы (М., 1923). Луначарский не раз цитировал его в своих статьях 1920–1930–х годов и указывал на его ценность, например, в статье 1930 г. «О наследстве классиков» (см. VIII, 188–190). ↩
- См. введение к «Лекциям по эстетике» Г. В. Ф. Гегеля (Гегель. Сочинения, т. XII. М., 1938, стр. 11 и сл.). ↩
- А. Михайлов полемизировал с Луначарским в статьях: «Первые шаги журнала „Искусство“» («На литературном посту», 1929, № 16, стр. 9–10) и «О литературном наследии и учебе у „классиков“» (там же, 1929, № 17, стр. 13). Луначарский отвечал А. Михайлову в докладе «Наши задачи в области художественной литературы» (II, 434–436). ↩
- «Искусство вещности» или чаще: «новая вещность» (Neue Sachlichkeit) — родственное натурализму направление в немецкой литературе 1920–х годов, представители которого (Э. Бельцнер, А. Деблин, Э. Кестнер) видели свою задачу в сугубо беспристрастном изображении жизни «как таковой», при этом теоретически исключалось всякое отношение автора к изображаемому. ↩
- В воспоминаниях о Марксе В. Либкнехта и других лиц встречаются свидетельства о высокой оценке Марксом античной культуры, но подобных высказываний там нет (см. примеч. 5 к докладу Луначарского на VII съезде работников искусств — стр. 30 настоящ. тома). ↩
- Здесь Луначарский вновь напоминает о «Введении» Маркса (см. примеч. 14). ↩
- См. книгу американского историка культуры Дж. У. Дреппера (1811–1882) «История умственного развития Европы», т. 1. Киев, 1900, стр. 18. ↩
- В книге О. Шпенглера «Закат Европы» (1918–1922) периоды развития человечества уподоблялись этапам развития человеческого организма, т. е., по мнению Шпенглера, каждая цивилизация имела свое детство, зрелость и старость не в переносном, а в прямом смысле. ↩
- В предисловии к работе «К критике политической экономии» К. Маркс говорит, что капиталистическая формация завершает собой предысторию человеческого общества (К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. 13, стр. 8). ↩
- См. Гегель. Сочинения, т. III. М., 1956, стр. 316–317. ↩
- См. главы I и II «Манифеста Коммунистической партии» (К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. 4, стр. 419–447). ↩
- О положении личности на разных этапах развития общества Маркс и Энгельс высказывались неоднократно — в «Немецкой идеологии», «Манифесте Коммунистической партии» и других работах (см. К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. 4, стр. 426 и сл.; т. 12, стр. 737; т. 21, стр. 109 и сл.). ↩
- О первобытном коммунизме см. «Происхождение семьи, частной собственности и государства» Ф. Энгельса (К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. 21, стр. 28 и сл.). ↩
- См. К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. 3, стр. 392–393 («Немецкая идеология»). ↩
- См. письмо Энгельса к М. Каутской 26 ноября 1885 г. (К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. 36, стр. 331–334). ↩
В письме к Г. Шлютеру 15 мая 1885 г. Ф. Энгельс заметил, что
↩«поэзия прошлых революций <…> редко звучит по–революционному в позднейшие времена, так как, для того чтобы воздействовать на массы, она должна отражать и предрассудки масс того времени»
(К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. 36, стр. 269).
- См. гл. III «Манифеста Коммунистической партии» (К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. 4, стр. 455–457). ↩
Энгельс говорит в письме к М. Каутской:
↩«К тому же в наших условиях роман обращается преимущественно к читателям из буржуазных, то есть не принадлежащих непосредственно к нам кругов, а поэтому социалистический тенденциозный роман целиком выполняет, на мой взгляд, свое назначение, <…> расшатывает оптимизм буржуазного мира…»
(К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. 36, стр. 333).
Ср. рецензию Плеханова на книгу A. Л. Волынского «Русские критики» (1897), где, в частности, говорится:
↩«Научная эстетика не дает искусству никаких предписаний; она не говорит ему: ты должно держаться таких–то и таких–то правил и приемов. Она ограничивается наблюдением над тем, как возникают различные правила и приемы, господствующие в различные исторические эпохи»
(Г. В. Плеханов. Сочинения, т. X, стр. 192).
- По–видимому, подразумевается выражение не Жорж Санд, а Жермены де Сталь из ее романа «Коринна» (кн. XVIII, гл. 5): «Tout comprendre rend très indulgent» («Все понять — значит стать весьма снисходительным»). ↩
- Задуманная Луначарским книга на эту тему не была осуществлена. О ее замысле он говорил в своем выступлении 30 января 1931 г. на заседании возглавлявшейся им комиссии по изучению сатирических жанров, которая была создана при группе литературы и языка Отделения общественных наук Академии наук СССР. Стенограмма этого выступления опубликована (см. VIII, 531–538). ↩
- С 21 по 24 мая 1931 г. в Будапеште проходили заседания I международного съезда по истории литературы, обсуждавшего проблемы методики литературоведческого исследования. ↩
Герберт Цисарж (Cysarz, р. 1896) — немецкий литературовед, в 1930–х годах профессор Пражского университета. Выступая на I Международном съезде по истории литературы 23 мая 1931 г., он отстаивал необходимость изучения литературного произведения во всех его связях с эпохой и средой:
↩«В то время как новейшие отрасли естественных наук (достаточно указать на теоретическую физику) покидают свои обособленные участки и ищут знаний во всем мироздании, <…> слишком многие представители исторических наук стараются при первых же лучах утренней зари поглубже натянуть на уши ночные колпаки. Существуют якобы одни рождественские елки, а лесов нет»
(«Bulletin of the International Committee of Historical Sciences», vol. IV, part I, № 14. Paris, 1932, p. 116).
- См. Д. П. Якубович. Неизвестная запись Пушкина. — «Звенья», 2. M.—Л., 1933, стр. 226–231. ↩
- Вероятно имеется в виду высказывание не К. Маркса, а Ф. Энгельса (в «Диалектике природы») о том, что вскоре после начала Возрождения Англия и Испания «пережили <…> классическую эпоху своей литературы» (К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. 20, стр. 346). Эта эпоха в Англии совпадает с правлением королевы Елизаветы (1558–1603). ↩
- См. примеч. 14. ↩
- Оценку драмы Ф. Лассаля «Франц фон Зикинген» (1858–1859) см. в письмах к нему К. Маркса 19 апреля 1859 г. и Ф. Энгельса 18 мая 1859 г. (К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. 29, стр. 482–485, 490–496). ↩
- Изображенный в драме Лассаля Франц фон Зикинген (1481–1523) был руководителем восстания немецких рыцарей в 1522 г., объективно имевшего реакционный смысл. ↩
- По–видимому, Луначарский передает общий смысл требований, которые Энгельс предъявлял к трагедии на революционный сюжет; см., в частности, письмо Энгельса к Ф. Лассалю 18 мая 1859 г., где предлагается «за идеальным не забывать реалистического, за Шиллером — Шекспира» (К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. 29, стр. 494). ↩
- Уолтер Ролей (Ralegh, 1554–1618), английский дипломат и писатель, фаворит королевы Елизаветы, активно осуществлял колониальную политику Англии. ↩
- Луначарский говорит о борьбе Шекспира с так называемыми «университетскими умами» (драматург Р. Грин и др.). ↩
Имеются в виду слова Гамлета:
↩… Порвалась связь времен.
Зачем же я связать ее рожден?
(«Гамлет», акт I, сц. 5; перевод А. И. Кронеберга).
Речь идет о монологе Улисса в пьесе «Троил и Крессида» (акт I, сц. 3), где герой, по словам Луначарского, «излагает программу, которая была программой Шекспира» (IV, 154). Свою мысль Луначарский подтверждает в цитируемой книге большой выдержкой из монолога Улисса в переводе А. М. Федорова:
Везде свой строй — и на земле, внизу
И в небесах, среди планет горящих —
Законы первородства всюду есть,
Есть первенство во всем, есть соразмерность:
В обычаях, в движениях, в пути —
Везде порядок строгий, нерушимый.
Одно светило — солнце — выше всех.
Оно, как на престоле, управляя
По–царски сонмом всех других планет,
Своим целебным оком исправляет
Их вредное воздействие и вид,
И злых и добрых равно наставляя.
Но стоит раз планетам обойти
Порядок свой, — о, сколько бед возникнет
Чудовищно мятежных! Сколько бурь,
Землетрясений, столкновений грозных
И перемен! Смятенье, ужас, мрак
Цветущих стран разрушат мир блаженный <…>
Закончив цитату, Луначарский заключает:
↩«Вы видите, какими ужасами Шекспир грозит себе и другим, если общество выйдет из орбиты порядка»
(IV, 154–155).
- Английский аристократ Роберт Эссекс (Essex, 1567–1601) предпринял в 1601 г. попытку свергнуть королеву Елизавету; заговор знати не был поддержан народом и закончился неудачей, Эссекс был казнен. ↩
- Марк Юний Брут и Лонгин Гай Кассий были инициаторами заговора римских аристократов–республиканцев против Цезаря (44 г. до н. э.). ↩
- См. письмо Ф. Энгельса к М. Гаркнесс начала апреля 1888 г. (К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. 37, стр. 36–37). Возможно, однако, что Луначарский здесь оговорился, и речь идет о Шекспире, которого Энгельс так же высоко ценил. ↩
- См. примеч. 40. ↩
- Борьба между королевской династией Стюартов и сторонниками республики во главе с Кромвелем шла во время английской буржуазной революции XVII в. с переменным успехом, пока не закончилась в 1660 г. временной реставрацией Стюартов. ↩
- Имеются в виду «Путешествия Гулливера» (1726) и другие сатиры Дж. Свифта (1667–1745), а также романы Д. Дефо (ок. 1661–1731), прежде всего «Робинзон Крузо» (1719). ↩
- Рецензия на «Современные памфлеты» английского писателя и философа Т. Карлейля (1795–1881), на которую ссылается Луначарский, была написана совместно К. Марксом и Ф. Энгельсом (см. К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. 7, стр. 268–279). ↩
- О переходе Карлейля на откровенно реакционные общественные позиции см. там же, стр. 278–279. ↩
Имеется в виду принадлежащий, по–видимому, Марксу абзац из передовой в газете «New York Daily Tribune» 1 августа 1854 г., где сказано:
↩«Блестящая плеяда современных английских романистов, которые в ярких и красноречивых книгах раскрыли миру больше политических и социальных истин, чем все профессиональные политики, публицисты и моралисты вместе взятые, дала характеристику всех слоев буржуазии…»
(К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. 10, стр. 648).
- См. «Литературную энциклопедию», т. 3, 1930, стр. 284–296. ↩
- В романе Ч. Диккенса «Домби и сын» такого выражения найти не удалось. ↩
- Так называемая «викторианская эпоха», получившая это название от имени королевы Виктории (1838–1901), была временем расцвета Британской империи. ↩
- В своих художественных и публицистических произведениях Г. Уэллс неоднократно выступал сторонником идеи технократии — подчинения буржуазного общества руководству ученых и инженеров («Предвидения», 1902; «Мир Вильяма Клиссольда» 1926, и др.). ↩
- Дж. Голсуорси умер 31 января 1933 г. ↩
- Майкл Голд (1894–1967) — американский писатель и критик, социалист, затем коммунист; был редактором журнала «New masses» и участником 2–й между народной конференции революционных писателей (1930); к началу 1930–х годов — были изданы его сборник рассказов и стихов «120 миллионов», книга «Евреи без денег» и другие произведения. Кто такой Годвин — установить не удалось. ↩
Из высказываний К. Маркса и Ф. Энгельса об английской и немецкой литературах данному месту лекции наиболее соответствуют слова Энгельса в письме к Марксу 10 декабря 1873 г.
↩«В одном только первом акте „Веселых кумушек“ больше жизни и реальности, чем во всей немецкой литературе; один Ланс со своей собакой Кребом больше стоит, чем все немецкие комедии вместе взятые»
(К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. 33, стр. 89).
- Мысль о немецкой абстрактно–философской «революционности» пронизывает работы Г. Гейне «Романтическая школа» (1833), «К истории религии и философии в Германии» (1834) и его политические стихотворения 1840–х годов. ↩
- Тридцатилетняя война (1618–1648) надолго замедлила общественное развитие Германии, которую соседние страны — Франция, Нидерланды, Англия — быстро оставили позади в экономическом и политическом отношении. ↩
- См. письмо Ф. Энгельса к М. Каутской 26 ноября 1885 г. (К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. 36, стр. 332). Письмо было впервые опубликовано на русском языке в т. I (VI) «Архива Маркса и Энгельса» (1932). ↩
- См. «Немецкий социализм в стихах и прозе» (К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. 4, стр. 232–234). ↩
26 августа 1792 г. Национальное Собрание Франции предоставило права французского гражданства ряду иностранцев, в том числе Шиллеру. В законе, подписанном Дантоном, было сказано, что «люди, которые своими сочинениями и своим мужеством служили делу свободы и подготовили освобождение народов, не могут считаться чужеземцами в стране, добившейся свободы благодаря просвещению и мужеству». Шиллер узнал об этом из газет. Но так как диплом был отправлен по неточному адресу, то Шиллер получил его только 1 марта 1798 г. На следующий день он сообщил об этом в письме к Гете, упомянув, что диплом он присоединил к другим своим документам. В настоящее время этот документ хранится в музее Шиллера в Веймаре.
По–видимому, Луначарский имел в виду самый факт изменения отношения Шиллера к революции с конца 1792 г. и особенно после казни Людовика XVI.
↩- Вероятно, Луначарский говорит здесь о философской трагедии Ф. Гельдерлина «Смерть Эмпедокла» (1798; издана в русском переводе в 1931 г. с предисловием Луначарского), где отрицается обывательская косность — вполне очевидный намек на немецкие общественные условия. ↩
Эта неполностью воспроизведенная в стенограмме фраза может быть дополнена соответствующими словами из предисловия Луначарского к «Смерти Эмпедокла»:
↩«Несомненно Гельдерлина имел он <Гегель> в виду, когда говорил о жертвах своего великого, слишком непримиримого духа. По Гегелю выходит так, что, конечно такой протестант заслужил свой конец, тут есть его вина, но она же является в известной степени его заслугой, если допустить здесь некоторую игру слов. Вина таких людей в том, что они не согнулись и не вступили в компромисс с действительностью, что они хотели идти напролом, но в этом же и их подвиг»
(Фр. Гельдерлин. Смерть Эмпедокла. Трагедия. Предисловие А. В. Луначарского, перевод Я. Голосовкера. М.–Л., 1931, стр. 11–12; ср. Гегель. Сочинения, т. XII, стр. 199 и след.).
- В 1790–х годах Шеллинг, Гегель и Гельдерлин были студентами Тюбингенского духовного училища, друзьями и товарищами по комнате. Ни один из них не испытывал тогда склонности к богословию, они восторгались Французской революцией и античными республиками. ↩
- Понятие романтики (романтизма) распространено здесь Луначарским и на преромантические явления, прежде всего — на течение «Бури и натиска» (1770–е годы), возникшее в эпоху кризиса просветительской идеологии и действительно предварявшее многие идеи романтизма. Молодой Гете был самым значительным представителем «Бури и натиска». ↩
- Вероятно, намек на повесть Ф. Шлегеля «Люцинда» (1799), где в вызывающей форме проповедовался романтический индивидуализм. ↩
О двух путях капиталистического развития — «американском» и «прусском» — В. И. Ленин говорит во многих своих произведениях.
«Преобразование крепостной России в буржуазную, — писал он в 1906 г., — возможно при условиях, обеспечивающих наибольшее мыслимое при капитализме благосостояние масс крестьянства и пролетариата. Оно возможно также при условиях, обеспечивающих наибольшие интересы имущих классов, помещиков и капиталистов»
(В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 14, стр. 14).
Первую линию развития он называл, как известно, «американским» путем, вторую — «прусским».
↩- Историческая школа права — реакционное направление в немецком правоведении 1820–1830–х годов, возглавлявшееся Ф. К. Савиньи, отличалось ориентацией на средневековые правовые нормы (см. К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. 1, стр. 85–92). ↩
- Течение в немецкой литературе и журналистике, получившее название «Молодая Германия», отражало подъем оппозиционных настроений немецкой интеллигенции после Июльской революции во Франции и народных волнений в Германии начала 1830–х годов. Наиболее активно младогерманцы выступали в первой половине 1830–х годов, в 1835 г. «Молодая Германия» была запрещена указом Союзного сейма, а ее представители подверглись полицейским преследованиям. В 1840–х годах большинство из них перешло на умеренно–либеральные позиции. Принято различать два крыла «Молодой Германии» — менее последовательное (Т. Мундт, Г. Кюне, Г. Лаубе) и более радикальное во главе с К. Гуцковым и Л. Винбаргом (см. К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. 1, стр. 479–480). ↩
- Кроме «Молодой Германии», здесь имеются в виду, очевидно, такие современные ей направления в литературе и философии, как «истинный социализм» и — в некоторой степени — младогегельянство (см. К. Маркс и Ф. Энгельс, Сочинения, т. 2, стр. 3–230; т. 3, стр. 460–586; т. 4, стр. 1–16, 208–248, 451–453). ↩
- Революции 1848 г. предшествовали в Германии стихийные выступления пролетариата, деятельность мелкобуржуазных радикальных клубов, заявления идеологов либеральной буржуазии и выдающихся ученых (Я. Гримм, А. Гумбольдт и др.)» требовавших демократизации общественной жизни (см. К. Obermann. Deutschland von 1815 bis 1849. Berlin, 1963, S. 123–165). ↩
- Газета «Rheinische Zeitung» была основана в 1841 г. представителями либеральной буржуазии, но вскоре стала органом левогегельянцев, а затем, под руководством К. Маркса (октябрь 1842 — март 1843 гг.), боевым изданием революционной демократии. ↩
- Возможно, имеется в виду критическое отношение ко «всем Золя прошлого, настоящего и будущего», выраженное в известном письме Энгельса к М. Гаркнесс (см. К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. 37, стр. 36–37). ↩
- См. в статье Плеханова «Искусство и общественная жизнь» (Сочинения, т. XIV, стр. 146–148). ↩
- Ведущими представителями немецкого и австрийского символизма (который иногда называли и неоромантизмом) были С. Георге, Г. Гофмансталь, Р. М. Рильке. С романтизмом символизм сближали поиски ускользающей, якобы интуитивно познаваемой, мистической сути вещей. ↩
Вероятно, имеются в виду слова Г. Гейне из его письма к К. А. Фарнхагену фон Энзе 3 января 1846 г.:
↩«Г–н Лассаль — истинный сын нового времени, — он и знать ничего не хочет об аскетизме и смирении, с которыми мы, более или менее лицемерно, в наше время так нянчились, прикрывая этим наше безделье. Это новое поколение хочет наслаждаться и проявлять себя в зримом мире; мы, старики, благоговейно склонялись перед незримым, ловили призрачные лобзания и аромат голубого цветка; исполненные самоотречения, мы стенали и все–таки были, может быть, счастливее, чем эти суровые гладиаторы, которые так гордо устремляются в смертный бой»
(Генрих Гейне. Собр. соч. в десяти томах, т. 10. Л., Гослитиздат, 1959, стр. 191).
- О Д. Г. Лоуренсе (Lawrence, 1885–1930) как самом значительном из английских писателей молодого поколения Луначарский писал в статье 1922 г. «Западная интеллигенция» (V, 441), в которой упомянул его романы «Сыновья и любовники» (1913) и «Радуга» (1915). ↩
- «Фабиан» (1931) — популярный в свое время роман немецкого писателя Э. Кестнера (р. 1899), изображающий нравы берлинской буржуазии и богемы. ↩
- Точнее: «дурацкое празднество государственного музыканта Вагнера» (в письме К. Маркса к Ф. Энгельсу 19 августа 1876 г. — К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. 34, стр. 20). Эти слова написаны по поводу премьеры «Кольца Нибелунга» Р. Вагнера в Байрейтском театре, специально построенном для вагнеровских постановок в основном на средства баварского короля Людвига II. ↩