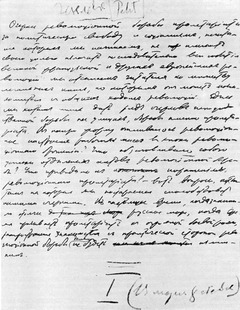Очерки по истории революционной борьбы европейского пролетариата
IV. Поход голодных женщин на Версаль
Осенью 1789 года монархия и революция стояли друг против друга, озлобленные и недоверчивые, но ни революционная буржуазия, ни изменнический двор не решались нарушить худого мира ради доброй ссоры. Положение было в высшей степени напряженное: любой, даже маловажный факт мог явиться достаточным поводом для страшной катастрофы.
Среди общей нерешительности смелый и потрясающий по своей обстановке шаг сделан был самыми несчастными из несчастных — женщинами из городской бедноты. Они голодали; им нечем было кормить своих детей; они чувствовали, что буржуазные революционеры и даже их собственные мужья почему–то переминаются с ноги на ногу и не хотят или не решаются громко заявить о том, что надо народу.
Утром 5 октября собралась на Версальской площади Парижа громадная толпа женшин, от 7 до 8 тысяч. Все это была самая обездоленная голытьба. Кто был инициатором этого колоссального женского митинга? Иные называют красивую авантюристку Теруан де Мерикур. Вернее, однако, что настоящим вождем женщин был голод.
Собрание было необыкновенно бурно. Женщины словно опьянели, находясь в толпе единомышленниц. «Стыд, стыд мужчинам! — кричали они. — Мы покажем им, что значит быть мужественными». Они бросились к зданию городской думы, вооружаясь по дороге чем попало. С саблями и пиками в руках они отправились затем по направлению к городу Версалю, где жил в то время король и где заседало Национальное Собрание. Они повезли туда с собою даже пушки, причем некоторые, сидя верхом на пушках, выкрикивали угрозы.
Но вот перед разъяренной толпой женщин появляется спокойная фигура скромного думского швейцара — Мальяра. Он говорит успокоительную речь: «Женщины! ваша главная сила — мольба, женской мольбе никто не может противиться; к тому же я вам обещаю, что восемьсот вооруженных мужчин отправятся немедленно вслед за вами, чтобы привести в исполнение всякое ваше решение. Что касается меня, прибавит Мальяр, то, если вы хотите, я охотно пойду впереди вас».
Женщины были очарованы таким предложением: они немедленно согласились разоружиться и выбрали Мальяра своим вождем.
День был дождливый, дорога грязная. Утомительный путь до Версаля измучил женщин, и они были исполнены гнева, когда подошли к своей цели. Мальяр всячески старался успокоить их. Он построил их по трое в ряд и предложил им петь патриотические песни. И худые и голодные они шли, прославляя громкою песнею старую преданность к королям, шли ко дворцу короля со своими грозными требованиями.
Но вот трагическое шествие подошло к воротам Национального Собрания. Депутация из 20 женщин проникла внутрь здания. Одна из них внесла туда барабан, в который громко барабанила от времени до времени. Ни одна, однако, не решалась заговорить. Они подталкивали вперед своего единственного мужчину — Мальяра. И Мальяр объяснил великим ораторам победоносной буржуазии, что у народа нет хлеба и что он умоляет обратить внимание на испытываемую им острую нужду.
Председатель Мунье, выбрав пять женщин, отправился с ними к королю. Король очаровал своею величественной любезностью этих бедных пролетарок. Бедняжки совершенно растерялись в великолепных залах дворца, увидев прямо перед собою повелителя всей Франции; одна молоденькая работница упала даже в обморок от волнения. Король был благосклонен, он дал изголодавшимся работницам поцеловать свою пухлую королевскую руку и отпустил их с милостивыми фразами. Но если пять депутаток народного голода были тронуты хитроумной любезностью монарха, то не так обстояло дело со всею толпой возмутившихся женщин.
Восемьсот вооруженных мужчин, собранных наиболее демократическими из парижских секций, действительно пришли и стали впереди женщин, против стройных рядов королевской гвардии и наемных швейцарцев. Наступила ночь. Та и другая сторона стояла под ружьем. Многие женщины, между ними и Теруан, проникли в ряды французской гвардии и уговаривали солдат удалиться. Это подействовало, и поздно вечером Фландрский полк удалился. Но швейцарцы оставались незыблемыми непреклонными.1 Кто–то бросил камень, швейцарцы пустили в ход сабли, парижане стали стрелять. Еще минута — и разразился бы настоящий бой. Испуганный король внезапно приказал прекратить схватку и увести швейцарцев. Народ ликовал. Перед окнами дворца зажжены были многочисленные костры. Убитую лошадь какого–то офицера разрезали на куски, сжарили и съели.
Обитатели дворца в ужасе всматривались во тьму, освещенную там и сям пламенем костров. Одни советовали королю кровопролитие, другие больше верили в притворную ласковость.
Зал Собрания был занят наиболее уставшими женщинами. Они спали на депутатских скамьях, одна — на президентском кресле. Депутатам пришлось потесниться. После полуночи входит Мунье и торжественно объявляет, что король подписал декларацию прав человека. Совершенно измученные, измокшие, больные пролетарки не очень–то понимали философские и политические идеи декларации. Они ответили на «радостную весть» воплями: «хлеба! хлеба!»
Между тем Париж волновался. Слух о походе женщин облетел весь город. При звоне набата громадная толпа собралась вокруг городской думы. Отовсюду были слышны крики: «В Версаль! в Версаль!». Многие кричали: «Мы требуем хлеба!». Раздавались кое–где голоса: «Долой короля!». Никто, однако, не предлагал того, что было сделано на другой день, а именно: насильственного переселения короля в Париж. Великодушный, но сентиментальный генерал Лафайет разъезжал в толпе на коне и решительно не знал, что предпринять.
Наконец городская дума предписала Лафайету отправиться во главе городской милиции в Версаль, дума сама не знала, зачем именно. Прекраснодушный Лафайет старался только предупредить взрыв народной мести против ненавистной народу придворной клики: чуть не на каждом перекрестке он заставлял свою милицию торжественно присягать закону и королю.
В Версаль милиция прибыла после полуночи. Лафайет сейчас же бросился во дворец. При виде его один придворный сказал: «Вот идет Кромвель». — «Кромвель не вошел бы один к своим врагам», — ответил Лафайет и прошел к королю.
Было решено немедленно поручить парижской милиции охрану города и сада. Ее расставили повсюду пикетами. Конечно, самые королевские покои оберегали преданные швейцарцы. Измученные событиями, король и королева уснули тревожным сном. Было шесть часов утра.
Вдруг банда вооруженных людей, неизвестно чем возбужденных, вторгается во дворец. Швейцарцев оттесняют, двоих убивают и врываются в спальню королевы; проснувшаяся королева с криком ужаса убежала к своему мужу. Вторгшиеся люди погнались за ней. Неизвестно, чем кончилось бы это столкновение лицом к лицу представителей отчаявшегося и озлобленного беднейшего населения с коронованными лицами, неожиданно попавшими в их руки, но на выручку подоспели милиционеры во главе с сержантом Гошем, во главе, позднее впоследствии2 знаменитым революционным генералом.
Однако с этим страхи 3 не прекратились с этим страхи4 для королевской семьи. Из какого бы окна ни выглянул Людовик — всюду он видел вооруженных людей, бедная одежда которых и трехцветные кокарды указывали на их принадлежность к восставшему, столь долго униженному народу. Вдали король мог видеть головы своих двух верных стражников на пиках.
Толпа чувствовала себя господином положения. И вдруг в ней родился и вырос повелительный клич: «Король — в Париж!» Король понял, что сопротивляться — значит погибнуть; он вышел на балкон и объявил, что отправится в столицу вместе с женой и детьми. Появилась в открытом окне и ненавистная народу гордая австриячка, оплот реакции — королева Мария Антуанетта. В объятиях она держала маленького сына. Мгновенно несколько человек прицелилось в нее из ружей; поднялись крики: «Не надо ребенка, унесите ребенка!». Королева отнесла ребенка, но не решалась снова подойти к окну. Любитель эффектов Лафайет картинно подошел к испуганной и униженной народом государыне и предложил ей: «Выйдите на балкон со мной». — «Как? мне на балкон? — ответила королева, — разве вы не видели, что они хотели стрелять в меня». — «Идемте», — твердо сказал Лафайет. Королева появилась на балконе рядом с любимым еще в то время театрально–эффектным генералом. Перед тысячами глаз враждебной толпы генерал поцеловал руку королевы. Он рассчитал правильно: этот жест нежного уважения к беззащитной в тот момент женщине понравился народу, великодушному народу, который так легко умиляется даже среди припадков ярости. Раздались крики: «Да здравствует Лафайет, да здравствует королева!».
«В этот момент мир был заключен», — пишет Лафайет в своих воспоминаниях. Бедный, прекраснодушный генерал! Мир заключен — мир между народом, сознавшим свою непреоборимую силу и все же страдающим в тисках жестокой нужды, и надменной повелительницей, воспитанной в самых реакционных понятиях и вдруг униженной толпой оборванных работниц. Наивно думать, что представители королевской власти, монархи и их семьи когда–нибудь забудут народу горькую чашу унижений, которую они — венценосцы, земные боги — должны выпить при всякой удачной революции. Мир между народом и короной немыслим даже в том случае, если бы восставший народ не захотел идти до конца: властители, потерявшие полную меру власти, вырванной у них насильственно, будут всегда пользоваться каждым предлогом, чтобы какою угодно ценою вернуть себе власть и упиться сладкой местью над зазнавшимися подданными. Если и существуют конституционные короли, то лишь тогда, когда они воспитались на новых началах, привыкли мириться с правами народа, не пережили лично унизительных перипетий победоносного восстания своих подданных; да и тогда их верность конституции объясняется главным образом полною невозможностью отвоевать назад у народа его права. Революция должна быть доведена до конца, оскорбив и унизив монарха, нельзя оставлять его на троне. Естественно, что после решительных шагов 5 и 6 октября, к которым увлекли буржуазную революцию женщины–пролетарки, война между троном и революцией стала войною на жизнь и на смерть. А либеральный энтузиаст Лафайет готов вообразить, что своим поцелуем он вознаградил королеву за испытанный ею уж ас и позор и обезоружил изголодавшийся народ, вынудив у короля пару милостивых фраз для него.
И вот король вынужден покинуть свое убежище, Версаль, и переселиться в кипящий восстанием Париж, т. е. отдаться в плен революции. Народ шел впереди, ведя за собою пленного короля. За толпами вооруженного пролетариата шла буржуазная милиция. Наконец В конце процессии5 ехали кареты королевской семьи и придворных. Толпа была по–детски довольна своей победой. Идя вокруг кареты, в глубине которой скрывались высокопоставленные пленники, толпа кричала с хохотом, скорее в виде ласки, чем оскорбления: «Вот едут булочник с булочницей и с маленьким поваренком». От этой народной ласки, как от ласки львиной лапы, сочились кровью гордые королевские сердца.
Наконец, приехали к зданию городской думы. Был уже вечер. Городской голова Бальи приветствовал короля двусмысленной фразой: «Король Генрих IV завоевал Париж, теперь Париж завоевал короля». Король и королева старались весело улыбаться.
Таков был чисто пролетарский акт пленения короля Людовика. Пролетарским был он не в том смысле, чтобы пролетариат выступил здесь с полным пониманием своих истинных целей и задач. Далеко нет! В событиях 5 и 6 октября мы совершенно не видим сознательности, здесь царит инстинкт, но этот пролетарский инстинкт пришпорил нерешительную буржуазию, он прекратил всякие колебания, он мощно погнал вперед высокомудрых буржуазных политиков, которые были слишком склонны верить, будто революции совершаются речами. Парижский пролетариат того времени и близкие к нему полупролетарские элементы были бедны политической сознательностью и дальновидностью, но они были богаты отвагою, активностью, потому, конечно, что и тогда уже пролетарию нечем было рисковать, нечего терять, кроме жизни в цепях непосильного труда и нищеты, между тем как революционному буржуа, перед которым расстилалось заманчивое будущее политического господства, рискованные шаги были страшны, потому что собственность — вещь хрупкая, и кому приходится беречь ее, тот любит покой и порядок.
Но если парижский пролетариат при всей своей бедности был вождем и героем в самые решительные дни Великой революции, если именно он толкал ее к ее логическому концу, то тем более может и должен сделать это в России несравненно более сознательный русский пролетариат, который не только сплотит вокруг себя всю демократию, не только поведет ее к самым решительным поступкам, гоня перед собою всегда трусливую зажиточную буржуазию, но сумеет и закрепить завоеванную демократическую республику — основу своей дальнейшей, чисто пролетарской борьбы за социализм.