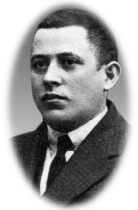Когда т. Преображенский говорил о том, что в клубах пустовато, а в кабаках и в пивных достаточно людно, тут некоторые товарищи высказали как будто сомнение, правильно ли это. Я, товарищи, не буду приводить ни пивной, ни винной, ни водочной статистики, она в цифрах нашего госбюджета имеется.
У нас есть театры. Новых пьес, которые бы рисовали современность, вообще очень мало, а те, которые, есть, — на перечете.
Я вас, товарищи, призываю пройтись по двум, самым последним и интересным пьесам. Это «Штиль» Белоцерковского и «Рост» Глебова. Посмотрите, как рисуется наша современность в этих двух пьесах. Мы не будем заподозривать авторов, режиссеров и правление театров в том, что они специально хотели опорочить нашу действительность. Это совершенно отпадает. Они искренно хотели чем–то помочь делу нашего социалистического строительства, потому что иначе все эти пьесы были бы отвергнуты и Главлитом, и коммунистами–режиссерами и т. д., и т. д. Что вы видите в пьесе Белоцерковского? Вы видите пивную, где сидят рабочие, именно рабочие, и пьяным языком разговаривают о Марксе и Моргане. (С места: «Так и есть»). Я именно и говорю, что есть.
Иначе это не могло бы быть изображено, или было бы сброшено протестующим зрителем. Возьмите другую пьесу — «Рост». Вы здесь видите опять кабак, опять наполненный рабочими.
А противопоставлено этому и в том и в другом случае что? Пирамида из физкультурников, с одной стороны, какие–то футболисты и боксеры — с другой, как символ здоровой и нерастрепанной социалистической культуры.
В «Росте» изображен самый драматический момент, какой может переживать пролетарская революция: столкновение одной части класса с всем классом, забастовка рабочих — против кого? Против советской власти. Это очень драматический, очень жестокий момент, но он есть и автор его отразил. Кто руководит стачкой в пьесе «Рост»? Это пункт, который меня очень поразил. Я бы не удивился и вы бы не удивились стачке. Мне приходилось ликвидировать ряд стачек на громадных фабриках в период советской власти. Но тут участвуют не меньшевики, не с.–р., не беспартийные, а хулиганы, чистейшей пробы хулиганы, чубаровцы, шпана, способные на убийство. Тут же — подкупленный агент американцев, пытающийся убить работницу, которая подслушала его шуры–муры с американцами. И вот рабочая масса, руководимая этими чубаровцами, пред'являет требования коммунистической партии и Советской власти от имени всей массы…
Я думаю, что это сильно сгущено. Те стачки, которые мы наблюдали и изучали, которые, к сожалению, бывали, всё–таки чубаровцы ими не руководят. Это все–таки сгущено, что нынешняя рабочая масса завода даст чубаровцам руководить собой. Я думаю, что перепущено густой краски. Но все же драматург не мог этого выдумать, если бы таких симптомов не было. И не забудьте, они выглядят довольно хорошо перед лицом массы. Их потом побеждают, но нет единодушного морального отпора, какой бывал. Это на одной стороне.
Посмотрите на другую сторону. Вот пьеса «Штиль» Я исхожу из того, что большинство ее вероятно видели.
Там фигурирует Братишка, матрос, герой предыдущей пьесы Белоцерковского «Шторм». Это герой гражданской войны, простец, Братишка, простой, цельный, наивный, прекрасный герой гражданской войны, который перенесен в эту пьесу. Он настолько импонирует публике, что только он выходит на сцену, не раскрыв еще рта, как его встречают аплодисментами. И это не потому, что играет очень талантливый артист. Этот тип Братишки, героя нашей романтики гражданской войны.
Какова судьба Братишки в этой пьесе? Посмотрите. Сначала Братишка был секретарем райкома, потом его выбросили из райкома, посадили секретарем ячейки, потом его спихнули в технические секретари, т.–е. писаря в ячейке, а потом он попадает в сумасшедший дом. И когда он оттуда совершает побег, то происходит ужасная, драматическая сцена в квартире якобы святого коммуниста, председателя контрольной комиссии, на глазах которого хотят вести насильно, под конвоем, по городу и водворить этого надломленного человека в сумасшедший дом. И только 9-летний мальчик вступается и ограждает этого героя с орденом Красного Знамени от бездушия этого руководителя контрольной комиссии, якобы святого партийца, который склонен согласиться с тем, что Братишку поведут по городу со штыками в сумасшедший дом.
Такова судьба Братишки, он импонирует публике совершенно правильно, она чувствует, что это родной человек. И мы ни разу не видим, чтобы этот коммунист, который изображен таким святым, чтобы он хоть раз спросил: «Братишка, как ты работаешь? Не надо ли тебе переменить работу, я тебе посодействую».
Больше того, на глазах у всех, во главе треста находится исключительный прохвост, каких я в нашей действительности не видел, а я слежу за всеми процессами трестов и тому подобных воров. (Смех). Я не знаю, товарищи, что вас рассмешило. (С места: «Вы сказали трестов и т. п. воров»). Во главе треста стоит коммунист, который обдумывает побег за границу с деньгами, с золотом, в буквальном смысле — с золотом. У нас прошло много процессов. Но чтобы во главе треста стоял заведомый прохвост самой высокой марки, и когда Братишка протестует и хочет бороться с ним, то чтобы контрольная комиссия судила Братишку?! Знаете, все–таки это производит впечатление.
И этот благодушный председатель контрольной комиссии, этот святой с усами, говорит, что «еле удалось отстоять Братишку от исключения». А об Метелкине никто не подумал. И только случайность, что кухарка его рассказала про его проделки и ГПУ арестовало его. А партия проглядела и Братишку с его болью душевной, и Метелкина. (С места: «Председатель контрольной комиссии и говорил с ГПУ»).
И вот, приходит на квартиру к председателю контрольной комиссии этот негодяй Метелкин и говорит: «Вы меня не троньте, а то я вас трону». Хороши нравы в том городе, если прохвост может притти на квартиру на шантажировать, угрожать. Надо об этом подумать. (С места: «В Ельце так было, вы сами писали»). Я вам говорю о том, что нашелся драматург–коммунист, который изображает, как ему представляется действительность. Давайте критиковать, говорить, что Белоцерковский сгустил краски, преувеличил. Я с вами в известной мере согласен.
Возьмите другую пьесу: «Рост». Вы видите там картину забастовки рабочих. Явление тяжелое. Ее допустил, вызвал, спровоцировал против своей воли директор. Это тип нахрапистого партийного работника, герой гражданской войны, бесспорно заслуженный работник, но для этого дела не приспособленный, не понимающий, как надо обращаться с массой в наших условиях, нажимающий на нее. Он переводит рабочих на три, потом на четыре станка, потому что фабрика приносит убыток и он хочет его возместить усиленным нажимом на рабочих. Кроме того, он мало следит за производством: у него крыша худая и хлопок вместо сырца мокрец получается.
Там есть идеальный человек, директор–коммунист, тоже подпольщик, который является потом, когда стачка загорелась. О чем он обращается к рабочим? Он говорит: «Вы жалуетесь, что вас жали. Вас мало жали». В 1927 г. слышать на сцене такую речь идеального коммуниста, когда каждому здравому слушателю видно, что прижимавший исходил якобы из того, что есть убыток, а оказалось, что это вранье, что это подкупленный старым хозяином бухгалтер сочинял фальшивые отчеты, что в действительности убытка нет, а есть прибыль (даже при прогулах, при браке), большая прибыль! Все это вскрывается из перехваченного отчета. После этого мыслимо ли, чтобы здравомыслящий человек сказал: «Вас мало жали, надо еще жать»?
Разве это поднимает настроение у рабочих, когда им говорят сейчас, в 1927 г.: «В 1925–26 г. вас жал ваш директор, явно негодный администратор, зарвавшийся, так он вас мало жал, надо больше жать». Если принять во внимание такие об'ективные показания художников, которые, конечно, далеко не Шекспиры, но, которые изображают все это и нам публично предлагают присмотреться, подумать над тем, что они изображают, — то вы увидите, что все эти явления в совокупности являются действительно тревожными.
Перейдем к нашей организационной жизни. На днях даже у М. И. Калинина прорвалось такое признание, что мы замордовали политграмотой нашу молодежь. (С места: «Правильно»). Если начинают кричать такие люди, то что же думает об этой политграмоте молодой рабочий, полный каких–то неясных стремлений, которому сразу, как только он вступает в комсомол, или даже еще не вступает — преподносят разработанную какими–то крокодилами методику политграмоты (продолжительные аплодисменты), которая душит и убивает всякую инициативу, которая предписывает о чем спросить, что сказать, которая не руководит, а просто не оставляет никакого места для самодеятельности.
Сидят молодые рабочие, к ним приходит человек и говорит то, что ему хочется, а не то, что их интересует. И от этого замордования вдруг раскрыть книжку Есенина, где говорится о человеческих чувствах, о любви, о горе, где плачут и смеются, где какие–то человеческие звуки есть! Товарищи, ведь это же все равно, что из погреба с прокисшей капустой выйти на весенний воздух (Аплодисменты). И поэтому успех Есенина среди нашей молодежи понятен.
И, вот, товарищи, когда начинаются попытки подходить к этому делу, чтобы оживить его, приблизительно то, о чем говорили т.т. Луначарский и Преображенский, найти выход для энергии молодых рабочих, зачастую вышедших из деревни, еще совсем сырых, — то ясное дело, что начать с того, чтобы именно в политике найти применение для их самодеятельности — это самое трудное и почти невозможное дело. Начинать очевидно надо с каких–то других ступеней, для данного человека наиболее доступных, надо примениться к нему. И вот в комсомоле повеяло каким–то свежим воздухом. Начали искать, начали амнистировать танцы, гармошку, устроили возню с аппаратом, с удочкой.
И сейчас же появилась дискуссия в «Комсомольской Правде»: не опасно ли культурничество?
И уже беззубые молодые старухи и старики вопили, что нам нужно заниматься политикой, а культурой пусть занимается не комсомол. Это пишут члены ЦК и других комитетов комсомола.
Товарищи, в ленинградской комсомольской газете «Смена» на днях был напечатан замечательный фельетон под заглавием «Цена человека». Этот фельетон всколыхнул комсомольскую публику Ленинграда. Там рассказывалось, например, несколько фактов, то, о чем говорил т. Луначарский. Ведется ли у нас борьба не то что за спасение, но за поддержку человека, ведем ли мы, как там говорили, зубами борьбу за каждого нашего товарища? Не штампуем ли мы их совершенно безжалостно, беспощадно, бездушно?
И вот, товарищи, сейчас мы ясно чувствуем, какая надвигается опасность. Мы не сумели никак аккумулировать эту энергию молодежи и сейчас упираемся в страшное антидвижение, в неприспособленные, отсталые способы работы среди этой молодежи. Я считаю, что кроме тех материальных причин, о которых говорил т. Луначарский, кроме противоречий, о которых говорил т. Преображенский, это вещь, которая нам все же более доступна, чем изменение материальной базы в короткий срок. Нужно очень внимательно все это пересмотреть.
Я хотел бы еще остановиться в нескольких словах на вопросе о Есенине и есенинщине. Это имеет большое значение. Я думаю, что мы виновата в том, что не дали достаточного отпора тем из нашей среды, которые не только не замечали яда этого общественного явления, но которые пытались находить для него всякие, очень подходящие, красивые об'яснения, оправдания и даже восхваления. Начать с того, что вокруг этого дела напущено очень много тумана: тут и прекрасные голубые глаза, и золотые волосы, и нежная душа, и все такое. Я думаю, что можно было бы этих вопросов не касаться. Но те, которые кричат: не касаться, сами как это сделал т. Луначарский со всеми деталями, касаются.
Начать с того, что легенда о том, будто этот свежий цветок прямо из деревни попал в город, город его ошеломил и этот незащищенный цветок увял, — все это фразы, все это вранье и вздор (аплодисменты). Этот человек был очень хорошо приспособлен. (Председатель просит т. Сосновского не забывать, что он в Академии, и осторожнее выбирать выражения). Я в Академии в первый раз. Товарищи, я рассматривал внимательнейшим образом мемуарную, вспоминательную литературу о Есенине, при чем все это написано конечно вернейшими друзьями. Что отсюда вытекает?
Товарищи, прежде всего, обратите внимание, что он отнюдь не явился свежим, неопытным пареньком в тогдашний Петербург. Прежде, чем попасть в Питер, в салоны, он был в Москве, работал в типографии Сытина, состоял в с.–д. кружке, выполнял поручения для с.–д. кружка, был секретарем журнала с.–д. с большевистским уклоном, одним словом, понюхал сначала этого воздуха, а затем он приехал в Петербург и там от этих народничествующих гримасников из поэтическо–литературно–философских кругов попал в салон графини Игнатьевой и дошел до Царского Села, до дворца Александры Федоровны. Таким образом, путь этот человек проделал очень любопытный и вовсе не так внезапно.
Воспоминания Деева, Мариенгофа, напечатанные в журнале «На литературном посту», и тех, кто с ним работал в Москве, в с.–д. движении, любопытны. Интересующиеся прочтут в воспоминаниях Мариенгофа замечательную вещь, как Есенин сам рассказывал о своей способности обходить людей. Тут присутствует т. Малкин. Там рассказывается, как Есенин обходил Малкина (смех). Я не беру на себя ответственность за стопроцентную правдивость Мариенгофа, это тип известный (аплодисменты). Но во всяком случае это напечатано и никто не опровергал. Там рассказывается, как приходит Есенин к Малкину и говорит: «Т. Малкин, знаете, вы такой замечательный работник, что вам Ленин наверно медаль даст». При чем говорится это нарочито простовато, народным говорком, как простец, который не знает, что Ленин медалей не раздает. Немножко таких разговоров и в результате книжка Есенина идет, печатается, распространяется и т. д. (смех). Дальше рассказывается, что он приходит к Каменеву и опять начинает: «Свет ты наш батюшка, Лев Борисович». И он получает все, что ему нужно от Каменева. Дальше описывает сам Есенин, с его слов рассказывается, как он морочил голову Блоку, — это после того, как он был у Сытина и в наших кружках, — нарядился, чуть не с кухни зашел. Он сам говорит: «я их ненавижу, их надо обманывать, без обмана не возьмешь». И Мариенгоф говорит, что он был очень обходителен, в том смысле, что умел обхаживать людей (смех).
Сами подумайте, 1919–1920 г., никто не покупает, никто не продает, расцвет военного коммунизма, карточек и т. д., а Есенин имеет собственный книжный магазин. И друзья рассказывают, как он великолепно нахапывал книги. Описывается, как он был хозяином ресторана «Стойло Пегаса». (С места: «Вранье»). Кто–то из поклонников говорит, что это вранье, можете проверить. Товарищи, можно было бы из этой самой мемуарной литературы, друзей, восхищенных поклонников привести многое. Там описывается, как какой–то наш военный транспортный работник (фамилия не указана, к счастью для него), который имел собственный вагон и к которому Есенин под'ехал тем, что похвалил то ли кинжал, то ли револьвер, так он возил его из края в край. Товарищи, похоже ли это на тот цветок незащищенный, о котором нам рассказывает легенда? Это нужно бросить, товарищи, и тогда эта героика, некоторая жертвенность, то, чем пленился Анатолий Васильевич и за что и превознес самоубийство Есенина, как величайший подвиг, победу над хулиганством, это будет очень двусмысленная победа.
Что касается самой поэзии, то я думаю, что об этом сейчас нет возможности говорить. Об этом придется говорить в другой раз и в другом мосте. Но я думаю, что тот хорошенький залп по есенинщине, который рекомендовал дать Бухарин с очень большим запозданием, этот залп нужно было дать в 1923 г., если не раньше. Но его невозможно было дать по обстоятельствам, от нас независящим. Я видел, товарищи, приехавшего из Орехова — Зуева редактора тамошней газеты. Я был поражен, что первая страница там вся посвящена Есенину. Первая и вся. Оказывается, там на некоторых фабриках в том числе и на Дулевской фарфоровой им. «Правды», — в комсомоле, наряду с официальным бюро, есть «бузбюро» от слова бузить (смех), из восторженных есенинцев и есенинок, которые ставят задачей срывать организационную работу комсомола. Сотрудник «Правды» т. Володин ездил туда сам, лично разговаривал с комсомольцами и комсомолками, которые открыто говорили: «мы за Есенина, мы считаем, что он наш учитель». Они ему заявили: «вы нас ничем не переубедите». Они рассказывали ему о многих тревожных явлениях среди рабочей молодежи Орехово — Зуевского района, которые его убедили в том, что нужно целую страницу, первую страницу отводить этому делу. Это и есть тот кризис культуры среди молодежи, о котором здесь говорили. Конечно, этим делом нужно заниматься со всех сторон. Материальная база, товарищи, — это тот же Володин рассказывал, — это жилищные условия: они в Орехово — Зуеве таковы, что кроме пессимизма и даже отчаянья ничего не могут вызвать. Если с ними могли мириться во времена Саввы Морозова, то теперь люди выросли за 10 лет и абсолютно не в состоянии мириться с этим. Кто не бывал в этих самых спальнях, тот не может себе представить, как может вырасти пионер в комнате, где живут три семьи, из которых каждая помещается на одной кровати. Все — и отец, и мать, и грудной ребенок. Тут же девушки и парни.
Мне рассказывали сцену, как со свадьбы приезжают новобрачные и все жильцы этой квартиры, вплоть до мальчика 6 лет, ждут и хотят быть свидетелями совершения брачного таинства. Товарищи, более жуткую обстановку трудно себе представить.
Это большой кризис, большое испытание для комсомольцев. Немыслимо после этого возвращаться к Энгельсу, к его книге о положении рабочего класса в Англии.
И думаешь: действительно, в таких жилищных условиях трудно расти новой социалистической культуре. Ужасны эти условия, и на этой почве, конечно, развивается у тех, которые уже выросли, хлебнули воздуха, растет пессимизм. Я понимаю, что там могут быть и есть такие случаи, как самоубийства, разочарование. Тут одной проповедью, агитацией не поможешь, здесь нужно обратить самое серьезное внимание хотя бы на то, как в Сормове 25% заработной платы рабочими пропиваются, идут на водку (это по докладу в Малом Совнаркоме). Это на заводе, который требовал увеличения дотации на культурные надобности, на постройку народного дома и т. д., и т. д. Это очень угрожающие явления и одной агитацией, одними залпами ничего не сделаешь.
Я считаю, что действовать надо по двум направлениям. Изменить материальную базу, бытовые условия, с одной стороны, а с другой стороны, изменить метод работы, воспитания, об'единения, освежить затхлый метод накачивания голов сухой политграмотой, найти метод, который позволил бы в разных отраслях, от политики до самого невинного развлечения, найти способ об'единить активность, самодеятельность, в первую очередь, нашей пролетарской молодежи.
Но это также относится и к крестьянской молодежи. Школы крестьянской молодежи, — я очень внимательно наблюдал за этим делом, следил за литературой, за отчетами, — это превосходное дело. Но то, чем гордится Анатолий Васильевич, что они без средств, без оборудования строят новую школу, новые методы общественного воспитания в деревне, — это все–таки может привести к надлому, к надрыву, если так безнадежно будет обстоять дело в материальном отношении.
Говорят, мы не можем больше отпускать средств, и то, что мы отпускаем, это точно взвешено, размерено копейками, прибавить к которым хотя бы одну копейку из бюджета мы не можем. Я считаю, что это не так. Я думаю, что при всей нашей бедности для такой вещи, как подготовка элементов социалистического строительства среди молодежи, нужно было бы несколько более круто поворачивать материальные расходы на эту отрасль. Иначе, с одного конца мы будем строить, а с другого конца будем подтачиваться. Чубаровский процесс показал, что в Ленинграде, в нескольких минутах ходьбы от Невского проспекта возможны такие вещи. С этим, товарищи, нужно очень серьезно считаться. (Аплодисменты).