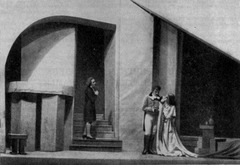КАРТИНА ПЕРВАЯ.
Маленький постоялый двор в глуши Ковенской губ. в 30-х годах прошлого столетия. Довольно просторная комната с нарами и печью. Большой стол, обставлен скамьями посредине, и маленький с парой табуретов в углу. Кровать хозяев отгорожена ширмой. Дверь налево. Два окна направо. Поздно. Все спят. На боковом столе еле светит тусклый фонарь. Сильный ветер стучит в окно, слышен шум дождя. Через минуту после поднятия занавеси раздается стук колес и цоканье лошадиных копыт. Громкое сердитое: тпру. Затем стук в дверь.
Хозяйка. Стучат, Антош.
Хозяин. Ветер стучит… Мать божья, какая непогода! (Зевает.)
(Стук.)
Хозяйка. Не ветер — проезжие… Или, может быть, Туська. Да нет мне уж раньше слышалось, будто кто–то под’ехал.
Хозяин. Туська наверное дома. Туська… Туська! Отопри дверь проезжему.
(Стук.)
Нету Туськи… Заходит бог знает куда девчонка. Заедят ее когда–нибудь волки или медведь задерет.
Хозяйка. Я ее послала в село. Ведь все свечи вышли. Сидим на лучине, как мужики. Мейер больше товару не развозит, говорит — дорога раскисла.
Хозяин. Ну и пропадет у тебя девчонка из–за свечей.
(Стук.)
Хозяйка. Подымайся ж, отворяй же: люди под дождем, под ветром.
(Стук громче.)
Грубый голос (за дверями). Чорт здесь всех передушил, что ли?
Мягкий голос. Кучер, кучер, как можно.
Хозяин (выходит полуодетый из–за ширмы). Фонарь догорает. (Харкает, отплевывается.) Вставай, хозяйка, зажги пару лучин, коли нет свечей.
Хозяйка. Сейчас. (Тоже выползает из–за ширмы.)
Хозяин (подходит к дверям). С Иисусом ли? Добрые ли люди?
Груб. голос.Добрей вас, лешие. Что держите нас у двери?
Мягкий гол. (успокоительно). Кучер, кучер…
Хозяин. А кто же там такой?
Груб. голос.Не узнал, хрыч? Ямщик Демба… господина пастора везу, немца ученого. И по–русски говорит, и по–польски, и по–жмудски. В Мединтилтас везу, к пану графу…
Хозяин (отпирая). Ну, так входите ж, перекрестясь.
(Входит грузный кучер в зипуне, несет большой чемодан. За ним в дорожном плаще пастор Каспар Фюрхтегот Виттенбах.)
Хозяин. Чего ж тебя так поздно понесло, Демба, в такую погоду?
Кучер. Думали доехать, да поломались у Рыжих оврагов, провозился там. А тут и ночь, и дождь, и чорт женится на семи чертовках.
Пастор. Кучер, кучер…
Хозяйка. Есть горячая похлебка в печи… Хлеба, водки не угодно ли — все есть.
Пастор. Я не так давно обедал. Но очень хочется согреться. Можно с’есть какую–нибудь горячую вещь. Кучер, вы хотите кушать?
Кучер. Будете платить — так с’ем… и выпью. Повозился с проклятым колесом.
Пастор. Тогда будьте добры накрывать на стол.
(Хозяйка ставит миску, две чашки, бутылку и кладет две ложки.)
Кучер (раздеваясь). Выпью за ваше здоровье, преподобный.
Пастор (скидывает плащ и тоже подходит к столу). У вас не найдется ли одна отдельная тарелка?
Хозяйка. Нет у нас.
Кучер. Ничего, ваше преподобие: я не поганый.
Пастор. Ай, нет–нет… но только я не привык еще…
Кучер. Вот у пана графа в Мединтилтасе хватит по дюжине тарелок на сто гостей.
Пастор. Помолимся (встает и шепчет, обратясь к распятию в углу).
Кучер (наливая в чашки). Можно пить? или еще чего подождать?
Пастор. Пейте, кучер, пейте пожалуйста.
Кучер. Здоровье вашего преподобия.
(Стук в дверь.)
Хозяйка. Ну это уж, наверно Туська (подходит к двери). Туська, ты?
Плачущий голос (за дверью). Ой, я же, тетя, я, ой, впустите скоренько! ей, не могу, ноги подкосились…
Хозяйка (быстро отпирая). Что с тобой, Туська? — От кого ты бежала?
Туська (девочка лет пятнадцати, бросается в комнату и падает на скамью). Ой, заступитесь! Ой, устала… Испугалась я.
Хозяйка. Да что с тобой?
Туська. Ой, попить дайте.
Кучер. Мокрая, как рыба, а воды хочет. На–ка глоточек водки. (Дает. Туська пьет и кривится.) Испугалась. Волки, что ли?
Туська. Ой, хуже, милые панове, хуже волка… Иду я с покупкой из села нашим проселком… Дождь как пустит. Туча нашла: ну темно, страсть. Хлюпает кругом, гудит в лесу. Иду я — вдруг прохожий человек нагоняет. Большущий, бурка мохнатая, шапка мохнатая, бородища седая: валит медведем. Подумала — леший, да я ведь не трусливого десятка, — перекрестилась только. Говорит: «Которое тут жилье поближе?» — Наш, говорю, постоялый. — «Вот и ладно, говорит, — водки выпью. Ты туда?» — Туда. «Идем». — Идем. Пошли. Ну, пошли. А молния сверкает, а он на меня из–под шапки уставился, молния у него в глазищах пых да пых. А он все смотрит. Вот проклятый–то ведь какой. Потом ко мне он: «Ты, говорит, — мокрая вся, ступай под мою бурку, завернемся, пойдем.» — Не хочу. — «А что ж?» — Озорничать будешь. — «Нет, — говорит, — я человечек древний, я, — говорит, — дедушка…» Ну завернул. Прошли шагов десять, он меня в шею целует. Прямо и рассказывать стыдно, милые панове — Не озаруй. — «Это потому, — говорит, — ведь вот же бесстыдник какой! — что у тебя затылок очень беленький». Да вдруг как задрожит, да как куснет мне затылок–то. Ой–Иисус–Мария, как куснет проклятый! Вот нате, тетя, посмотрите. Ведь кровь пошла, только дождем смыло. (Проводит рукой по затылку.) Нет, и сейчас кровь идет. Я как взвизгну, да от него, а он облапил — не пускает. Выскользнула, да опрометью… А он чего–то там кричит, рычит. Ух, боже ты мой, с ума сойти! Ну, вот и рассказала.
Кучер. (смеется). Укусил? Вот старый чорт! Поцеловал–то, да облапил, так ты ничего, хоть и старый, это Ваша порода любит. А он кусаться. Ха–ха–ха! Да до крови. Какой старче–то.
Хозяин. Помешанный, может статься.
Туська. Так испугал, так испугал. Вот, тетя, свечи ваши принесла. Зажечь, может быть, жуть прямо — и сейчас при лучинке. Как укусил! Чего смеетесь, пан ямщик, больно ведь и сейчас ведь больно. Леший такой. Медведь.
(Кучер смеется. Туська зажигает свечи. Стук в дверь.)
Хозяин. Еще кого–то бог привел. Эй, хозяйка, а ведь ты дверей не заперла.
(Дверь распахивается, в ней прохожий старик, как его описала Туська.)
Прохожий. Благословление на сей дом.
Туська (громко визжит).
Хозяйка. Что ты?
Туська. Он, ведь: леший.
Хозяин. Что за человек?
Прохожий. Человек прохожий. Ищет угла от непогоды. За все платит. (Со звоном бросает червонец на стол.)
Хозяин. Платить–то платишь, пан незнакомец, а зачем девочек кусаешь? Видно седина в бороду — чорт в ребро?
Прохожий. Пошутил.
Хозяйка. Хорошие шутки: прокусил ребенку шею.
Прохожий. Пошутил. Очень хороша беленькая шейка, под узлом волос. Не утерпел. Теперь уж спокоен, никого не с’ем.
Хозяин. Садитесь к столу.
Прохожий. Нет, я тут сяду. (Садится за боковой стол.) Водки мне. А золотой берите. За водку, за страх и за обиду.
(Туська уходит за ширмы. Хозяин ставит водку перед прохожим.)
(Молчание. Проезжие едят и пьют.)
Прохожий (стуча пальцем по столу.) Рум–пум–пум. Рум–пум–пум.
Кучер. А откуда бредешь, прохожий человек?
Прохожий. Из Матицы.
Кучер. Что ты: там только звери живут, там нога человеческая не ступала. Это у нас, ваше преподобие, в самой чаще леса такое есть зверье царство. А царствует там древний мамонт. Лет ему тысяч, говорят, десять.
Прохожий. Я тамошний.
Кучер (смеясь). А зовут как?
Прохожий. Локис.
(Все жмудины смеются.)
Кучер. Ну, здравствуйте же, воевода на Матице, Михаило князь Локис. А ты нам теперь по правде скажи.
Прохожий. Один такой сказал, что я лгу, — половину зубов растерял.
Кучер. Ну, ну, ты осторожней. Зубы пересчитать и я сумею.
Пастор. Кучер, кучер…
(Молчание.)
Прохожий. Рум–пум–пум. Рум–пум–пум.
(Молчание.)
Прохожий (к пастору). Образованный господин не едет ли в Мединтилтас?
Пастор. Именно туда.
Прохожий. К графу Шемету в гости?
Пастор. Да, именно.
Прохожий. Поклонитесь графу от Локиса. Он меня знает.
Пастор. С удовольствием. Если вы направляетесь туда — я могу подвезти вас, в бричке хватит места.
Прохожий. Благодарю вас. Я не туда. Да если б и шел туда — тут есть короткие тропинки для пешехода… А что до погоды, то я люблю ходить в такую погоду. (Помолчав.) Ах, господин, мы здесь лесовики, мы близки к природе. Уверяю вас, у меня есть и крепкая крыша над головой и огонь в очаге… Но вот, когда гремит и плачет небо, ропщет и отчаянно машет лес, и ночь полна тревогой и шумом — я иду погулять, на часы, до утра, в странствие, иной раз надолго. Побыть с лесом и его детьми. Тогда у меня самого в жилах закипает буря, я рычу песни в ответ грому. Из сердца, как сладкий и темный туман, подымается нечеловеческое, неиз’яснимое что–то. Идешь, идешь, как бурелом, без дороги, сквозь вереск и ельник. Иной раз сорву бурку, шапку, одежду и купаюсь под холодным дождем, который подхлестывает ветер. Становишься спокойнее и лучше. Хорошо подарить зверю в себе хоть несколько часов. Вы уж так далеко ушли в сторону от зверя там, в Европе, что он молчит в вас под человеком. А в нас он иной раз засопит, заворочается и, как землетрясение, дергает и рвет нетолстый верхний слой образа человеческого. Хорошо и расчетливо дать ему иной раз погулять по лесу.
Пастор. Вы странный человек. Судя по вашей речи, вы получили образование.
Прохожий. О, какое образование. Когда–то бывал кое–где. Но я человек глухого места на свете. Оттого и странный, может быть, для образованного господина из Германии.
(Слышно, что к дому под’ехал экипаж.)
Хозяйка. Еще кто–то.
Голос (за дверью). Отпирайте хозяева, это я, Брэдис.
Хозяйка. Доктор Брэдис из замка. В такую непогоду (смотрит в окно.) Он в коляске с фонарями.
(Хозяин торопливо отпирает дверь.)
Прохожий (вставая). Ну, с этим парнем я не хочу встретиться. Дверь одна? — Ничего: есть окно.
(С неожиданной ловкостью распахивает небольшое окно и вмиг исчезает через него.)
Брэдис (входя.) Не здесь ли господин пастор Виттенбах? Не его ли бричка во дворе?
Пастор. Я — пастор Виттенбах. (Встает.)
Брэдис (вежливо раскланиваясь). Видя такую погоду и сообразив, что ученый гость графа может быть в дороге, или дожидает в Довгеллах — я выехал к вам навстречу с графской коляской. Позвольте мне расплатиться за вас. Здесь вы уже во владениях Шеметов и гость графа. Мы можем ехать сейчас же, вас ожидает хороший ужин. Кучер может пробыть здесь до утра и возвратиться на станцию. У меня хорошие лошади и экипаж с фонарями. Нам понадобится не больше доброго часа, чтобы доехать до замка.
Пастор. Я необычайно тронут и очень, очень благодарен и вам и господину графу, который уже заочно так много обласкал меня…
Хозяин. А тут, доктор, сидел какой–то прохожий, человек, которого я не знаю. Он так испугался вас, что ушел через окно; злой человек, думается мне.
Брэдис. Да добрые люди от меня, кажется, не бегают, Тутис?
Хозяин. Добрые люди на вас молятся, наш доктор Брэдис. Вы, готовы, господин Виттенбах?
Пастор. Я сию минуту, я одеваюсь, господин доктор. Мой чемодан..
Брэдис. Ямщик, укладывайте чемодан господина пастора в коляску.
Пастор. С богом…
Брэдис (открывая дверь пастору.) Мы так рады живому человеку. Здесь глушь, край света, хотя мы, жмудь, как вы увидите, не плохие люди при всей нашей дикости.
Пастор. О, я уважаю… Прощайте, милые люди.
(Хозяева прощаются. От’езд. Занавес.)
ЗАНАВЕС.
КАРТИНА ВТОРАЯ.
Хорошо меблированная комната в замке Мединтилтас. Дверь направо и налево. Очень большое окно в глубине. В нем вспыхивает далекая гроза, слышны иногда заглушенные раскаты грома. На одном из столов горят канделябры. Пастор и доктор только что от’ужинали и сидят за кофе и ромом.
Доктор. Вы очень приятный и поистине благородный человек, г. Виттенбах. За дорогу и эти часы ужина вы завоевали мое сердце. Впрочем, каюсь, я так одинок здесь… в смысле культурного общества, что неудивительно, если я так набросился на вас с моими наблюдениями и конфиденциями… Извиняюсь за мою назойливость.
Пастор. О…
Доктор. Если вы не слишком устали с дороги, и вас не клонит ко сну — я хотел бы еще посидеть с вами. Ведь вам придется таки пожить в замке и ориентироваться — это ведь и в ваших интересах.
Пастор. Ваша беседа полна высшего интереса для меня, г. доктор. Я весь — внимание. Все, что вы рассказали мне об этом могучем и… как сказать… девственном мире меня волнует, прельщает, и я крайне…
Доктор. И в дополнение к уже сказанному скажу еще, что на этой страшной дикости и тяжкой бедности нескольких тысяч крестьян, как ядовитый цветок… нет: как ядовитый чудовищный гриб вырос замок Мединтилтас, с его романскими башнями и готическим фасадом, с его угодьями, садом, похожим на лес, парком, теряющимся в пуще, где можно встретить лисиц и волков, с его торговлей лесом, пушниной, льном, с его огромными складами, миллионными счетами у банкиров Варшавы, Дрездена и Санкт–Петербурга… Сколько наших жмудских жизней, детских, девичьих, юношеских, гениальных, может–быть, как сам наш Мицкевич, с’ел род людоедов–Шеметов. Никто никогда не вступался за этот народ, а за судороги самозащиты он платился так, что на столетия погружался в тупую собачью преданность… Но этому приближается, конец, г. Виттенбах… Я долью вам, г. Виттенбах. Поверите ли, ведь я за целые столетия первый образованный выходец из здешнего крестьянства. Да и то по случаю благотворительного каприза чудака библиотекаря старого графа, который выпросил меня себе на воспитание. И я не для того доктор медицины, чтобы только носить сюртук и жить в довольстве. И не для того я здесь квалифицированная прислуга в доме, в котором пороли еще отца моего — чтобы забыть моих братьев. Нет, не для того, г. Виттенбах. Во мне народ мой вырос для борьбы, и я не откажусь от нее.
Пастор. Но в чем борьба? Вы меня несколько пугаете, доктор Брэдис.
Доктор. Графу сорок лет. Он не женат. Он — последний Шемет. После его смерти Мединтилтас с его 4000 крестьян и 15000 десятин лесу и т. д. отойдет русскому правительству. Но, по существующему у нас праву, граф может свободным завещанием распорядиться огромной частью своего богатства. Я борюсь за то, да, поистине, — борюсь, чтобы он завещал все это потомкам тех, чьими страданиями все это создано.
Пастор. Это удивительная мысль! Все это очень интересно… Но как же относится граф к вашему необыкновенному плану?
Доктор. Он человек образованный и по–своему гуманный. Широкая натура, недюжинный ум. Но, конечно, в нем живет кровь тысячелетних хищников. То он выслушивает меня, строит планы вместе со мной, то прогоняет меня с проклятиями. У нас идут непрерывные схватки. Не думаю, чтобы он любил крестьян, но он иногда слышит… голос справедливости, глаголящий моими устами… к тому же он терпеть не может Петербург.
Пастор. Но скажите, почему же он остался холостым при таких роковых обстоятельствах для его рода?
Доктор. О, это целая история, таинственная, как говорят некоторые… И к тому имеющая отношение к науке, к медицине, к новейшим идеям, старающимся как раз разсеять все таинственное. Я долью вашу рюмку, г. Виттенбах. Полумистически, полунаучно, зачитываясь Гаманом, еще больше драмами Вернера и Грильпарцера, а с другой стороны, работами Сант–Иллера, Биша и английскими медицинскими журналами, граф безумно верит в наследственные проклятия или в физические перерождения тканей и нервов из рода в род. Он считает не то проклятым, не то глубоко больным свой род. И, конечно, он прав. Он сам, положим, далеко не такое чудовище, каким был его отец. Я еще помню этого скрягу, Немврода и истязателя. А деда даже тогда, в глубине 18-го века, отдали под опеку королевского комиссара, потому что своими жестокостями он довел свою челядь до безумной вспышки, и это открыло смрадную, демонскую картину его самоуправства. Да, граф Михаил, конечно, поцивилизованнее, он даже был в университете, в Вильно. Путешествовал. Но почему–то он очень неважного мнения о себе, и даже мне заявил: прекращение рода ужасно, но у меня не будет детей. Ха–ха–ха, каюсь: я поддерживаю в нем эти мысли. Рюмку рому еще, г. Виттенбах, это отличный ром?
Пастор. Благодарю вас… последнюю… Итак, граф не предполагает жениться?
Доктор. Как это ни покажется вам странным, даже диким, но в продолжение тех девяти лет, что я служу здесь, граф вел более девственную жизнь, чем самый благочестивый монах в соседнем монастыре св. Лазаря.
Пастор. Вот как.
Доктор. А казалось бы, человек геркулесовского сложения… И всякая молодая крестьянка была бы счастлива. Между тем народ у нас красивый, иная девушка, если ее вымыть в бане, выйдет оттуда как настоящая Киприда из пены морской… Я извиняюсь, г. пастор. (Пауза.) Да, это меня утешало, это обещало… но теперь… теперь его угораздило влюбиться.
Пастор. Вот как.
Доктор. Да… и сейчас же его мистико–натуралистический пессимизм насчет себя самого пошатнулся… Я уже давно предполагал, но теперь у меня нет больше сомнений. И пока не слишком поздно — я пойду в аттаку… Завтра я пойду в решительную атаку, т. Виттенбах, иначе все, что мной достигнуто за три года — станет под вопросом. Ведь я уже три года дискутирую самым страстным образом этот вопрос с моим чудаковатым патроном.
(В эту минуту за стеной раздается какой–то протяжный и зловещий вой.)
Пастор (вставая со стула.) Что это? Бог в небе, кто кричит таким образом?
Доктор. Это графиня.
Пастор. Как?
Доктор. Графиня–мать. Моя главная пациентка. Садитесь, ничего. Припадок скоро пройдет, с нею опытная сиделка. Ничего: она сейчас успокоится.
(Вопль смолкает.)
Пастор (садясь.) Какие мрачные вопли!
Доктор. Мединтилтас — невеселое место. Гнездо аристократов, г. Виттенбах, аристократия — выродки, исчадия, гнилая, гангренозная часть рода человеческого. Великая революция тридцать лет тому назад далеко не сумела закончить необходимую операцию, хотя и обладала бестрепетными хирургами.
Пастор. Я иного мнения о дворянстве… Я чту высшие классы…
Доктор. Может быть, вы не видели их так близко и уж, наверно не изучали с таким злобным любопытством и научным интересом, как ваш покорный слуга. К тому же у вас в Европе они покрыты очень густым слоем лака. У вас они похожи на пестрых и изящных ядовитых змей. Польская, русская и особенно литовская аристократия почти совсем гола и, согласно остроумному замечанию, ее надо только поскоблить, чтобы добраться до татарина. Да не обыкновенного, а до Батыя, Чингиза, капризного зверя, виртуоза кровожадности, раба своих уродливых страстей, в жертву которым обрекает он своих рабов… У меня собрана коллекция не анекдотов, но научно проверенных мной свидетельств и лично наблюденных фактов… О, этих людей надо истребить или, — и это менее гуманно после грядущей подлинной революции, — построить для них всех, всех, для детей их тоже — особые сумасшедшие дома… И обесплодить их мужчин, а за оплодотворение аристократки назначить гильотину… Граф прав, что боится хуже убийства зачать нового Шеметенка.
Пастор. Милосердный бог, как вы озлоблены! Мне страшно слушать вас. Надо больше веры в провидение божие.
Доктор. О, на эту тему я не стану разговаривать с вами, г. пастор: тут мы менее всего сойдемся. Я извиняюсь, что похитил у вас такую большую часть ночи, г. Виттенбах. (Подходит к окну.) Близится рассвет. Тучи расходятся, хотя молнии еще вспыхивают. Завтра будет прекрасная осенняя погода; в такую пору наш край красив, как золотой рай, только что вышедший из рук Иеговы, как повествует ваша книга. Как страна полузверей–полубогов наших чудных, свежих, лесных божеств, легенды о которых вас должны интересовать, как великого филолога, если не как ученика еврейских жрецов. Ведь в верстах в десяти отсюда уже начинается Матица, куда редко проникал человек, — Матица, опоэтизированная великаном Мицкевичем, новым Адамом Жмуди… Я разболтался от лишней рюмки рому, дорогой пастор. Прошу великодушно простить меня. Ваша постель мягка. Вы хорошо уснете. Ах, какое упущение, они не повесили занавеску на окно; как бы солнце не разбудило вас завтра слишком рано.
Пастор. О, не беспокойтесь… наоборот, я боюсь проснуться только к полудню.
Доктор. Во всяком случае, мы–то вас будить не будем. Эта дверь ведет в большой коридор. Эта всегда заперта наглухо, За нею апартаменты больной, но она спит далеко, к тому же это живой автомат, к рассвету она регулярно засыпает и спит до полудня, днем она тоже не будет вам мешать, так как мы с Михалиной держим ее либо в парке, либо в стеклянной галлерее, когда бывает дурная погода. В остальном — это самый уютный угол замка. Как раз над вами такую же комнату занимает сам граф. Я болтаю, болтаю, а у вас слипаются глаза, г. Виттенбах. Спокойной ночи!
Пастор. Вам также, дорогой доктор.
(Раскланиваются. Доктор уходит.)
Пастор (прохаживаясь.) Странный дом, странные люди. Будем верны нашему правилу. Маленькую записку дорогой Гертруде. И летописно верная запись в дневник… О, сегодня есть что записать. (Переходит к письменному столу.) Они внимательны и гостеприимны, все на месте. (Отпирает чемодан и достает толстую тетрадь.) Хочу спать, но порядок… прежде всего (садится к столу у окна, поставив туда оба канделябра.) Завтра знакомство с этим странным, но любезнейшим графом Шеметом… Как блеснули глаза у этого мужицкого сына, когда он заговорил об уничтожении аристократии. Сам–то ты, ученый доктор и демократ, далеко ли ушел от зверя? О, господи боже, царь царей, и более: господь стихий духа и природы, какой странный мир соизволил ты создать! Господь бог во всяком случае больше похож на поэта в новом духе, вроде этого Байрона или нашего Гоффмана, чем на своих трезвых, благочестивых и аккуратных служителей, вроде моих собратьев в Кенигсберге. Причудлива его поэма. Но свят, свят, свят… и не нам быть твоими критиками, творец непостижный. Все это надо тоже записать (Пишет.) Найду ли я мой Cathechismus Samogiticus? Какое торжество и для науки и для ее смиренного поборника Каспара… Пиши же, помолись и засыпай, Каспар Фюрхтегот!
(Пишет. Запертая дверь бесшумно отворяется. Тихо входит высокая стройная старуха в черном платье с белыми кружевами, волосы ее распущены, лицо мертвенно бледно. Она призрачно стоит в дверях. Потом также беззвучно скользит к зеркалу, смотрит в него с жадным любопытством и вскрикивает.)
Пастор (тоже вскрикивает, и вскакивает, испуганно опираясь на стол спиною). Кто здесь?
Старуха (указывая на зеркало). Скажите, сударь, это я? Да? Это я… Там в заркале?
Пастор. Вы, мадам.
Старуха. Какая я ужасающе старая… Я очень безобразна. Это ужасно! Когда у меня было зеркало, я была красавица. Я знаю, что мои волосы стали серыми. Они были, как ночь… Но я не думала, что столько морщин, столько морщин. (Рассматривает себя.) Как это глупо не давать мне зеркало. Они вытворяют подобные глупости. Сколько морщин… вокруг глаз. Аделина. Господи боже! Это Аделина! Вот что они сделали. Так это мои глаза? Мои губы? Вот это теперь Адель, милая Адель, богиня Адель?
(Вдруг садится на пол и, не закрывая лица, плачет, как дитя.)
Пастор (суетясь вокруг нее). Мадам, мадам, графиня! (Старается поднять ее.) Не позвать ли кого–нибудь?
Старуха. Боже вас сохрани! Эти грубияны будут кричать на меня. Михалина выйдет из себя. Добрый человек, меня угнетают здесь. Она меня бьет. А доктор притворяется, что не верит этому.
Пастор. (усаживая ее в кресло). Что вы! Да разве ваш сын разрешил бы?
Старуха. Сын? У меня нет сына… Неужели вы думаете, что я признаю сыном княжны Кейстут это чудовище? Да разве закон в Литве, чтобы мать признавала своим сыном плод насилия. Его отец изнасиловал меня…
Пастор. О, мадам…
Графиня. Я давно хотела рассказать все это… но кому? Я украла ключ у Михалины, чтобы посмотреть в зеркало, но Иисус милостивый послал мне свидетеля. Садитесь. Она спит. Она дрыхнет, проклятая ведьма. Ведь она сумасшедшая, надо вам сказать. И доктор тоже. Слушайте! Только не верьте, что я тоже сумасшедшая. Я была странная, и когда вы все услышите — вы не будете удивляться этому. Но это прошло. Слушайте. Самое главное то, что никому неизвестно, оборотень ли был граф Михаил Казимир? Слушайте, вы евангелический пастор?
Пастор. Да, графиня.
Графиня. Это нехорошо. Я католичка. И умру так. Но мой муж и все Шеметы, это ужасно — они еретики, они социнианцы, я говорю вам это. Но вы образованный человек. Скажите, бывают оборотни? В святом писании об них ничего нет?
Пастор. Их не бывает, графиня.
Графиня. Кто знает! (Вперяет в него долгий испытующий взгляд.) Вы не собираетесь ли обмануть меня? Предать? Какой же вы тогда служитель Христа? Ведь вы верите в сына божия?
Пастор. О да, не менее любого католика, графиня.
Графиня. Я не знаю, был ли он оборотнем… Но я все вам расскажу. И когда вы будете в Париже и увидите князя Ольгерда Кейстута — вы все перескажете ему. А что он умер — это их сказки. Только послушайте, поклянитесь мне евангелием, что вы не скажете Ольгерду, будто я стара и некрасива. Да он и не поверит таким вещам о своей Адели. (Вздыхает и задумывается, пастор моргает и беспокойно ерзает.) Так вот, слушайте. Совсем не правда, что я заболела от медведя. Конечно, он сломал мне ногу… Это ужасно было. Не надо вспоминать, потому что это ужасно, но я сразу потеряла чувства, когда из его пасти пахнуло вонючим огнем… И я пробудилась уже в постели. И все прошло. Только нога была сломана. Мне все рассказали: как он схватил меня, когда лошадь упала, как Игнась стрелял совсем пьяный и мог легко убить меня, но убил медведя. Это ужасно, не правда ли? Немудрено помешаться? Но я перенесла все. Я оправилась. Но когда граф явился ко мне ночью… Я еще была слаба… И отправил сиделку… Я не стану, конечно, всего рассказывать, но именно тут было самое ужасное. Он был тоже… тоже медведь. Он был медведь, был медведь, граф Михаил Казимир Шемет. Я не знаю, тот ли самый. Я не знаю этого теперь. Тогда я была уверена, что это тот. Я кричала… Как я кричала! Сиделка вбежала. Но он зарычал на нее, и она исчезла. Тогда он запер двери… Ах… нет, нет, со мной не будет припадка, не бледнейте… Я защищалась, кричала: медведь, медведь! А он яростно хрипел: ты с ума сошла! Он рычал и опять тот же оскал и тот же зловонный огонь из пасти; близкие глаза, жуткие, совсем близко, око к оку, не как у людей… И я опять потеряла сознание… Тут–то время бросилось бежать. Длинные ночи и дни по несколько минут. Да… оно летело. Ведь не только я постарела, но и этому зверенку теперь уже 15 лет… Сегодня может быть, уже больше. Я его не вижу. Он меня боится. Я всем говорю, кто он. Но ведь я никого не вижу. Доктор и Михалина — его клевреты. Но я умна. Вот я, наконец, рассказала правду, всю правду… Больше нечего рассказывать. Нет, нет, не удерживайте меня, милый. Нет, нет, Михалина может проснуться. Ведь у нас тайное свидание с вами. Вы совсем не похожи на моего кузена Ольгерда. Но вы его увидите в Париже. Он там. Хотя он горд, но вы сможете прямо прийти к нему, когда скажете, что вы от княжны Адели. Ах, что бы послать ему? Локон волос? Но они… несколько испортились, он не узнает их, он не поверит. Хотя у меня те же духи. Что бы послать?.. не знаю… Вот что (внезапно порывается к нему и долгим поцелуем целует его в губы).
Пастор (барахтаясь). Графиня… мадам… боже мой…
Графиня. Вот… передайте же ему это, милый! Это ему, а не вам. (Лукаво улыбается.) И больше не держите меня, милый. Нельзя, нельзя. Но если хочешь — я приду в другой раз. Тот поцелуй ему, а этот, воздушный — тебе.
(Грациозно посылает ему рукой поцелуй, делает изящный и кокетливый реверанс, тихо смеется и легко ускользает в дверь. Дверь закрывается, слышен негромкий звон замка.)
Пастор (минуту не может прийти в себя). Ошеломляюще… Куда я попал? Надо ли записать и это? У меня кружится голова. Как она странно надушена. Вся комната полна запахом увядших роз… Как бьется сердце! (Подходит к окну и распахивает его.) Ночь темна и свежа.
(Вспыхивает молния. Пастор вскрикивает и отшатывается: на дереве против окна полувисит, полусидит человек, который с любопытством, а в это мгновение со страхом смотрит на пастора. Это мгновение вспышки… все снова погружается в тьму.)
Пастор. Вор! (Бросается к канделябру, высоко подымает его и освещает пространство за окном, но там никого нет, только дерево у самого окна.) Или померещилось?.. Жуткий дом… (Ходит по комнате.) Заснешь тут!.. Позвать кого нибудь? (Крик петуха.) Слава богу, утро близится. Жуткий дом Мединтилтас. Помолись богу, Каспар Фюрхтегот…
ЗАНАВЕС.
КАРТИНА ТРЕТЬЯ.
Та же декорация. Позднее утро. Окно отворено. В него светит солнце сквозь ветви большого, по осеннему золотого, дуба. Слышно пение птиц. Пастор в углу без сюртука умывается. Казачок льет ему воду из рукомойника. Стук в дверь.
Казачок. Ой, ой, подождать надо. Пан умывается.
(Дверь отворяется, входит граф в бухарском халате и ермолке, с чубуком в руках.)
Граф. Ну, ничего… Я подожду здесь.
Пастор (торопливо и сконфуженно). Сейчас, я готов. (Поспешно вытирается полотенцем.)
Граф. О, не беспокойтесь! Я понимаю, что вы не могли сегодня встать рано. Мне доложили, однако, что вы уже проснулись.
Пастор. Сейчас… Вот… (надевает сюртук, который держит ему казачок и от торопливости несколько раз не может попасть в рукав).
Граф (садится в кресло и курит. Когда пастор готов — сидя протягивает ему руку). Вашу руку, пастор Виттенбах. Я и есть Михаил Шемет, к вашим услугам. Как спали?
Пастор (пожимает руку графу и садится на стул около стола). Хорошо… очень хорошо.
Граф (улыбаясь). Вам никто не мешал?
Пастор (нерешительно). Н–нет… Нет.
Граф. Мне говорили, что мой грубиян — Брэдис — позволил себе занимать вас своими россказнями до поздней ночи?
Пастор. О, я весьма благодарен доктору Брэдису…
Граф. Вы — любезнейший человек. Защищайтесь здесь от всех, от меня в том числе. Мы — глушь: изголодались по образованным людям.
Пастор. Помилуйте…
Граф (казачку). В минуту завтрак пану. (Казачок исчезает. Граф неожиданно краснеет и сконфуженно смеется.) Как вы на меня посматриваете, господин пастор? Узнаете? А? Пастор?
Пастор (нерешительно). Мне… кажется…
Граф. Ну да… ну да… вы меня узнали. Это был я! Вы захватили меня за большой шалостью.
Пастор. О, что вы, граф…
Граф. Весь день я провел с головной болью, запершись в своем кабинете; ночью, когда миновала гроза, вышел в сад. Ваше окно было освещено, и я не сдержал любопытства… Я бы должен был назвать себя, когда вы меня увидали, представиться, но положение было слишком смешным… Я устыдился и бежал… Ради бога, простите, что я нарушил вашу работу.
(Горничная вносит поднос с завтракам.)
Граф. А вот ваш завтрак. Я очень прошу вас не стесняться меня и спокойно кушать ваш кофе. Закусывайте, пожалуйста… Я думаю, разговор мой вам не помешает.
(Горничная устраивает завтрак на столе вместе с казачком и оба уходят. Разговор продолжается и при них.)
Пастор. Я крайне счастлив…
Граф. Итак, одна из целей вашего приезда ко мне — познакомиться с «Самогитским Катехизисом» отца Левитского?
Пастор (присаживается к столу и наливает себе кофе.) О… Мне интересен… край… Я польщен знакомством с графом. Мне надо произвести некоторые исследования, укрепить мое нетвердое знание литовских наречий… Но катехизис глубоко меня интересует. Некоторые ученые решаются отрицать самое его существование.
Граф. Они ошибаются. Желая загладить мою вчерашнюю неловкость, я сам сегодня утром разыскал ваш клад в моей библиотеке. (Вынимает старинную книжку из кармана халата.) Вот вам Самогитский Катехизис.
Пастор. Боже (торопливо берет книгу). Это он… это он… Вы позволите изучить?
Граф. Он ваш, пастор Виттенбах.
Пастор (вставая.) Как мне благодарить…
Граф. Никак… Итак, главная ваша цель — перевести Евангелие на наш мужицкий язык?
Пастор (садясь). Именно. Библейское общество…
Граф. Благородная цель. Но разрешите мне маленькое замечание, пастор: ни один жмудин не умеет читать, ха–ха–ха!
Пастор. Может быть. Но ваше сиятельство разрешит мне, со своей стороны, указать, что отсутствие книг и служит препятствием к грамотности. Будут книги — будут и грамотеи. У многих дикарей это было так… О, о, ваше сиятельство, не подумайте, что я приравниваю здешнее население к дикарям.
Граф. Дикари, дикари… Ну что же, ваше усердие во всяком случае похвально, а ваш филологический интерес к нам льстит нашему самолюбию. Только иногда на этой почве встречаются курьезы: недавно мне прислали из Кенигсберга собрание наших дайн, напечатанное немецкими буквами; признаюсь, я не мог их читать, ха–ха–ха!
Пастор. Дайны Лесснера?
Граф. Кажется… А уж в смысле поэзии, это прямо идиотские штуки.
Пастор. О, зачем же… Но, конечно, тут интерес, главным образом, филологический… Однако я питаю надежду… Надеюсь набрать здесь более нежных цветов народной поэзии.
Граф. Нежные цветы у литовцев? У мужичья… Что вы!
Пастор. Однако несколько недель тому назад мне дали в Вильно запись превосходной дайны, замечательной как в историко–бытовом отношении, так и в поэтическом (достает бумажник и роется в нем). Запись со мною: позвольте мне хоть несколько строк…
Граф. Сделайте одолжение. Только не забывайте пить ваш кофе. Вы простите, что я курю трубку. Я и вообще любитель, а уж слушать поэзию без табаку, воля ваша — не могу вовсе.
Пастор. Дайна озаглавлена: «Будрыс и его сыновья».
Граф. Будрыс и его сыновья?
Пастор (читает.) Зовет старый Будрыс на передний двор троих сыновей, истых литвинов, как он сам, и говорит:
«Кормите ратных коней, снаряжайте седла, вострите мечи да копья. Слыхал я в Вильно: будут трубить три похода на три стороны света. Ольдгерд грянет на русские посады, Скиргел на ляхов, Кейстут на тевтонов. Вы крепки и здоровы: послужите–ка краю, да помогут вам литовские боги! В этот год я не еду, а вам дам по совету на все три дороги. Первый пусть едет с Ольдгердом на Русь к Ильменю под стены Новгорода, там собольи хвосты, а серебра у купцов, что льду.
«А другой пусть идет с князем Кейстутом бить собачьих детей крестоносцев. Там янтаря, что песку, сукна чудного лоска, а поповские ризы в брильянтах. За Скиргелом пусть летит третий за Неман. Хоть скарб там убогий, да зато оттуда привезет он мне добрую сноху.
«Ведь полячки–коханки всех пленниц земли милее: веселы, как котята, белы, что сметана, брови и ресницы черны, а очи как звезды!
Граф. Ха–ха–ха! Я очень извиняюсь, г. Виттенбах, но я не могу удержаться от смеха: пастор, пастор, кто так подшутил над вами? Вы, конечно, прекрасно читаете эту мнимую дайну, но это точный перевод, и хороший, на наш мужицкий язык польской баллады Мицкевича.
Пастор (пораженный.) Что вы?! Как?
Граф. Кто–то хотел презло подвести вас… Подкопать вашу ученую репутацию.
Пастор. Боже мой!.. Какое вероломство… Мне дала эту дайну весьма образованная паненка, с которой я имел случай познакомиться в Вильно у княгини Катажины Пац.
Граф. Эта паненка была обманщица… И ловкая, и злая. Нельзя ли узнать ее имя?
Пастор. Панна Ивинская.
Граф (вставая). Панна Юлька. Моя соседка. Ах, проказница! Можно было догадаться сразу. Эта девочка провела вашу великую ученость, пастор. Да, это чудесная баллада Мицкевича, которая еще лучше звучит в переводе Пушкина.
Пастор. Я ошеломлен… Какая… Как…
Граф. Так вы знаете панну Юльку?
Пастор (растерянно). Имел честь быть ей представленным.
Граф. И очарованы? А? Разве можно знать ее и не быть ею очарованным?
Пастор. Действительно — она обворожительна… Я редко встречал столь… как сказать… кружащее голову существо.
Граф. Ха–ха–ха… Кружащее голову? Так что она вам показалась очень милой?
Пастор. Очень.
Граф. Всем так… А между тем…
Пастор. Она красавица.
Граф. Нну?.. Не знаю…
Пастор. Я не видел глаз красивее.
Граф. Неужели? Что касается меня, то если я нахожу что–нибудь хорошего в ней — так это необычайную белизну ее кожи. Снег. Она прозрачна. Видишь, как переливается кровь в ее жилах. Правда? Но она и холодна, как снег. Панна Юлия — бездушная кокетка. О, я знаю ее хорошо. (Ходит по комнате.) Каждое лето она со своей сестрой — вот это настоящий ангел в отличие от старшей… гостит у своей тетки в Довгеллах. Их усадьба возле села того же имени, которое вы проезжали… Панна Юлия, о, я хорошо ее знаю (снова садится и пускает облака дыма). Да, простите, мы говорили о народной поэзии?
Пастор. Совершенно верно, граф.
Граф (неожиданно вновь смеясь). Этакая проказница… Со скуки, конечно… Она очень скучает. Живет, как, в монастыре.
Пастор. Она очень много выезжала в Вильно. Как раз я встретил ее на балу, который княгиня Пац давала в честь офицеров русского гарнизона.
Граф (вновь вставая). Ну да, ну да… Вот, вот. Самое подходящее общество для нее. Тут–то она дает волю своему легкомыслию… Только и слышишь ее смех. Всех дурачит, всех увлекает, над всеми издевается. А, в конце концов, какой–нибудь щелкопер ад’ютант женится на ней и увезет ее в Петербург… Что ж, она и там поблистает несколько лет, все так же пусто. Она проживет жизнь без единого сильного чувства, как какое–то смеющееся привидение. Разве этот постоянный хохот, эта игра — счастье? И разве она может принести счастье кому–нибудь другому? Человек интересен ей, пока он в нее не влюбится. А это обыкновенно случается скоро. Потом она помучит немного, и человек ей надоедает… Она уже увлекает другого, третьего. Право, она и сама, может быть, так чудовищно привлекательна только на первое время. Допустим, вы поймали эту стрекозу, которую так трудно поймать. И что же? Что вы с ней будете делать? Разве она может жить любовью, привязанностью? Привязанность и панна Юлька! Тотчас опять романы, или начнет скучать и увядать, как вот здесь. Панна Довгело вынуждена и сюда выписать для нее гостей офицеров, русских лоботрясов. Ах, удивительная девушка: абсолютно не способна к любви, а живет только любовью, как–будто ее цель — влюблять в себя все, что встречается по дороге. Вы знаете, когда она зацепилась за куст роз, она рассмеялась игриво и сказала: «Ах, ты шалун. Тебе хочется, чтобы я побыла с тобою? Вот тебе сладкое наказание!», и она отломала несколько роз и приколола их к груди и волосам… (Пауза.) Ей предстоит пустая жизнь. Впрочем, что нам за дело до нее. Правда? А жаль, что она совсем не годится в пасторши? Вы ведь не женаты, Виттенбах?
Пастор. Нет… Но я помолвлен.
Граф. Это лучше. А то «кружащее голову созданье»… Это ведь Цирцея. Молодой пастор, несмотря на свои очки, очень приятный — не хуже, конечно, розового куста.
(Входит казачок.)
Казачок. Ясновельможный пан граф, пан доктор просит великодушно простить его. Он очень просит после разговора с паном пастором уделить ему немного времени.
Граф (нахмурившись). Вот как… Пускай придет сюда. (Казачок уходит.) Брэдис мужлан. Не глуп. Но груб… Он будет говорить мне неприятности. Пусть говорит при вас. Я извиняюсь, но вы позволите? У нас есть споры, в разрешении которых вы, может быть, примете участие. Я чувствую к вам большое доверие, Виттенбах, (протягивает ему руку).
Пастор (встает со стула, подходит и жмет руку графу). О!
Казачок (входит). Ясновельможный пан граф, пан доктор просит разговора отдельно.
Граф. А я приказал ему прийти сюда. Понятно? Скажи Брэдису, что у меня есть сведения, что пан Виттенбах и так все знает. Так и скажи ему. Его сиятельство уверено, что пан Виттенбах и так все знает. Так и скажи.
(Казачок уходит.)
Граф. Вы, пастор, знаете наши секреты (принужденно смеется). Вчерашняя ночь вас хорошо ориентировала… Не будем говорить об этом… Мужлан волнует и злит меня. Хотя он славный парень… по–своему… Впрочем, вы увидите, как я буду с ним спокоен, хотя он будет говорить вещи, за которые надо было бы вышвырнуть его в окно. Гей. (Вбегает казачок.) Трубку переменить! (Казачок убегает с трубкой, граф удобно усаживается в кресло.) Садитесь, пастор, рядом со мной и чувствуйте себя, как в театре.
(Входит Брэдис.)
Брэдис. Здравствуйте, ваше сиятельство.
Граф. Добрый день, Брэдис.
Брэдис. Здравствуйте, г. Виттенбах.
Пастор (встает, подходит к Брэдису и жмет ему руку). Здравствуйте, доктор.
Граф. Садитесь, Брэдис.
(Брэдис садится.)
Граф. О чем поведете речь?
Брэдис. Я хотел поговорить с вами, ваше сиятельство, уже давно, но вашему сиятельству все было недосуг, как это ни странно при нашей не столь уж переполненной делами деревенской жизни. Сегодня ваше сиятельство нашло время для длительной беседы с г. Виттенбахом, и я подумал, что и мне удастся, быть может…
Граф. Ну вот: удалось.
Брэдис. Я предупредил ваше сиятельство, что разговор имеет такой характер, что требует некоторой конфиденциальности.
Граф. Дело о ваших личных секретах, что ли?
Брэдис. Нет, — о делах, ваше сиятельство.
Граф. Тогда предоставьте мне, Брэдис, знать, с кем мне быть откровенным.
Брэдис. Я боялся, что именно мне не удастся, быть–может, установить границы желательной вашему сиятельству откровенности в присутствии человека, вчера ночью появившегося в Мединтилтасе и только один час имеющему счастье быть знакомым с вашим сиятельством.
Граф. Говорите все.
Брэдис. Тем лучше: дело, о котором я хочу говорить, так благородно, что во всяком случае не мне бояться просвещенного свидетеля.
Граф. Ну и прекрасно. Приступайте.
Брэдис. Я хочу вернуться к разговору, который мы неоднократно вели с вашим сиятельством, не доводя его до конца, не делая из него практических выводов, без которых он является простым препровождением времени.
Граф. Гм…
Брэдис. Я исхожу при этом из моих глубочайших убеждений, которые в принципе не отвергает и ваше сиятельство. (Пауза.) Ни я, ни вы — надеюсь, господин пастор, не принадлежим к числу Панглосов, полагающих, что все наилучше устроено в этом наилучшем из миров. Природа — и та поддается улучшениям. Ум и воля призваны постепенно приспособлять ее к нужде человеческого рода. Это более верно касательно устоев человеческого общества… Из них многие являются наследием времен варварских, темных и жестоких. Не надо быть якобинцем, чтобы стремиться внести в жизнь посильные поправки. Мы редко видим, чтобы монархи и вельможи, у которых столько возможностей, были бы не то что достаточно просвещены умом, но достаточно проникнуты благими идеями, чтобы сколько нибудь решительно проводить их в жизнь, особенно, если они идут вразрез с их эгоистическими интересами.
Граф. Замечательно говорит, не правда ли, Виттенбах?
Брэдис. Я хочу говорить с максимальной убедительностью и краткостью: этого требует и святость дела, и уважение к вашему сиятельству.
Граф. Замечательно говорит.
Брэдис. Ваше сиятельство находится как раз в таком положении, что может совершить великий акт, находящийся в полном соответствии с передовыми идеями века, долженствующий осчастливить тысячи добрых людей, прославить имя вашего сиятельства…
Граф. Завидный дар слова!
Брэдис. Ваше сиятельство знает, в чем дело. Дело в составлении духовной, по которой ваше сиятельство, как лицо, не имеющее сколько–нибудь близких родственников, отказало бы всю немайоратную часть своего имущества, а она составляет три четверти состояния вашего сиятельства, крестьянам вашего сиятельства, кои составили бы для сего особое общество, или братство за круговою порукою, об’емлющее все деревни и все семьи дворовых вашего сиятельства.
Граф. Да… это верно, Виттенбах. Я — холостяк без родственников. Отдав бедным труженикам мое имущество — я обираю только русский фиск, к которому — видит бог — родственных чувств не питаю, ха–ха–ха.
Брэдис. Совершенно справедливо, ваше сиятельство.
Граф. Но, Брэдис, не надо считать меня дураком.
Брэдис. Да сохрани меня разум от такой дикой мысли.
Граф. Я вас не считаю дураком… ну и не делаю вам предложений совершить глупость.
Брэдис. Позвольте, чем же глупо мое предложение?
Граф. Да ведь, если не вы сами, то первый мужик, узнавши о существовании такой духовной, — при первом благоприятном случае почтет своим приятным долгом укокошить меня. Считая вас умником — не поручусь, что этого не сделали бы вы.
Брэдис. Ваше сиятельство!
Пастор. О!
Граф. Если меня зарезать — то, пожалуй, суд отречет завещание, но если извести меня исподволь, по–докторски, научно, — кто будет знать?
Брэдис. Никогда не предполагал я, что в голове вашего сиятельства зародится столь чудовищное предположение. Чем подал я повод считать меня преступником?
Граф. Умом. Будь вы даже чистым идеалистом, вроде какого–нибудь там Сен–Жюста, или Сен–Симона, вы и тогда могли бы это сделать, чтоб приблизить пору счастья для этих вот ваших бедных тружеников ценою… чорт возьми: ценою сокращения на 20 лет, я предполагаю столько прожить, Брэдис, — лет на двадцать жизни бесполезного трутня. А? Клянусь богом, будь я на вашем месте, а вы на моем, удайся мне убедить вас сделать такое глупое преждевременное завещание, я бы очень скоро преискусно отправил вас к одураченным праотцам держать там ответ, ха–ха–ха!!
Брэдис. Я возмущен!
Граф. Напрасно. Говорю вам только, что я сделал бы так. Но я добавлю: вы вовсе не Сен–Жюст, Брэдис, о нет. Вы рассуждаете в вашей умной голове доктора из мужиков: крестьяне создадут общество совладельцев этого препорядочного–таки имущества, — кто же будет его руководителем, защитником, фактическим хозяином? — Ну, конечно, мужицкий трибун — доктор Брэдис. И вот Ян Брэдис в’едет патроном в Мединтилтас; Брэдис будет, так сказать, некоронованным графом этих мест. Ха–ха–ха! Вы видите, я действительно не глуп.
Брэдис (вставая). Мне следовало бы прервать немедленно разговор после двух ужасных оскорблений… Но дело выше–моих личных побуждений… Я клянусь вам…
Граф. Чем? Богом? В которого вы не верите?
Брэдис. Раз вы в такой мере не доверяете мне…
Граф. То и сделаю так: на смертном одре, прежде чем отдать, богу душу, — я продиктую нотариусу завещание, о котором вы говорите. Не раньше. Да еще с оговорками, которые ставили бы вас под контроль и подчинили бы вас моей загробной воле на те немногие года, на которые вы меня переживете, Брэдис, потому что между нами всего шесть лет разницы.
Брэдис. Я надеюсь и желаю, чтобы ваше сиятельство надолго пережили меня.
Граф (иронически). Благодарю вас. Что ж, разговор окончен?
Брэдис. Ваше сиятельство, вы играете мною! Безобразная мысль о возможности посягнуть на ваше сиятельство, после такого благодеяния, на деле не могла притти в голову его сиятельству; ваше сиятельство не Маккиавелли.
Граф. А вы?
Брэдис. Ни я, ваше сиятельство.
Граф. Жаль. Значит, вы не доросли еще до него. Возьмите его сочинения, Брэдис, в моей библиотеке и перечтите.
Брэдис (волнуясь). Ваше сиятельство все шутит. Оставить духовную до последнего часа, когда каждый человек зависит от случайностей, а в особенности охотник, наездник, как ваше сиятельство, значит, ставить дело столь великой частной и общей важности в зависимость…
Граф. Брэдис, зачем вы врач? Вам нужно было стать адвокатом. Мне нравится это, это… столь великой частной и общей важности… Мне нравится.
Брэдис (дрожащим голосом). Перестаньте же шутить, ваше сиятельство!
Граф (улыбаясь). Ррр… Слышите, как он рычит, Виттенбах? Всякий литовский мужик потомок медведя. (Надменно.) Кто может, уважаемый доктор, запретить мне шутки в моем замке? Кому не по нраву шутки графа Шемета — тот свободен покинуть его кров. (Меняет тон и смеется.) Ррр… Это я дразню его.
Брэдис (бледный и почти вне себя). Я предпочитаю выбрать иной час для беседы с вашим сиятельством. Настроение вашего сиятельства…
Граф. Превосходнейшее. Редкое. Сегодня или никогда. Кончим, кончим, Брэдис. Конечно, вы правы… Риск… Но что ж поделаешь: я предпочитаю, чтобы риск этого благодеяния лежал на других, а не на мне, дорогие пейзане. Ха–ха–ха!
Брэдис. Вы дурачитесь!
Граф. Вы забываетесь!
Брэдис. Потому что дело обстоит совсем не так, как вы говорите. Вы, вы…
Граф. Он сейчас перейдет со мной на ты, Виттенбах.
Брэдис. Извиняюсь, я извиняюсь, ваше сиятельство. Но я знаю, в чем дело. Ваше сиятельство собирается жениться.
Граф. Как? Без вашего разрешения, Брэдис? Да посмел бы?
Брэдис. Но отчего же ваше сиятельство не скажет этого прямо?
Граф. Потому что это дело еще кривое. Бабушка надвое сказала: не то женюсь, не то застрелюсь. Ха–ха–ха!
Брэдис. Женитесь, непременно женитесь, ваше сиятельство. Я желаю счастье вам и нареченной. Желаю побольше детей графу и графине…
Граф (раздраженно и хмуро). Благодарю, благодарю.
Брэдис. И чтоб вышли в дедушку, в прадедушку. Или по возможности превзошли их.
Граф (грозно хмуря брови). Брэдис!
Брэдис. Еще и сейчас, да вероятно волею царей и через четверть века, можно будет разрывать дворовых собаками, собственноручно засекать до смерти девушек. Еще можно будет терзать людей и пить их кровь…
Граф (в бешенстве вскакивает). Брэдис, я убью вас!
(Пастор встает, полный беспокойства. Граф и доктор смотрят друг на друга с ненавистью.)
Брэдис (наружно спокойный). Кто же тут рычит? Кто тут потомок медведя?
Граф (замахиваясь чубуком). Брэдис!
Брэдис. Но меня бить нельзя, я, к счастью, уже не крепостной ваш.
Граф. Я убью тебя!
Брэдис (выпрямляясь). Вот я… Троньте меня пальцем. Я тоже не мальчик. Угодно учинить кулачный бой между графом и мужиком?
Граф (пересиливает себя и садится в кресло). Идите вон!
Брэдис. Женитесь, граф Шемет. Только помните, что для вас лучше стать убийцей, чем отцом. (Пауза. Граф, вцепившись руками в ручки кресла, тяжело дышит.) Вам хорошо известны ваши предки, да и вы сами хороши. Разве вы не чувствуете в эту минуту, какой зверь сидит в вас? Вы еле сдерживаетесь, и того и гляди…
Пастор. Доктор, прекратите же это… нельзя так, нельзя больше…
Граф. Оставьте его… пусть говорит.
Брэдис. И я скажу. Ваша мать безумна в полной мере. Как врач могу сказать вам с точностью таблицы умножения: ваши дети будут кровожадными извергами, убийцами, преступниками…
Граф. Дьявол! (С искаженным лицом бросается на Брэдиса, хватает его за горло и душит. Брэдис пытается обороняться, но колени его подгибаются, он хрипит.)
Пастор (хватая руки графа). Умоляю, умоляю, бог в небе, что вы делаете! Опомнитесь, граф!
Граф (выпускает Брэдиса и отталкивает его от себя). Я опомнился. (Падает в кресло.) Благодарю, Виттенбах. Я мог… Я мог убить его…
Брэдис (подходит к нему). Я этого не могу так оставить. Вы меня оскорбили. Я требую сатисфакции.
Граф. Стреляться? — Извольте…
Пастор. Нет, господа, я был полуневольным свидетелем этой горестной сцены, и должен сказать по–чести: оскорбление было взаимным. Вы… Как сказать, бог в небе! Вы прямо пытали друг друга. Это хуже дуэли, такой разговор. Вы должны простить друг друга.
Граф (делая попытку засмеяться). Я готов. Я действительно сыграл дурака, буяна. Вы уже победили меня в этом соревновании, Брэдис. Я думал раздразнить вас, а сам преглупо вышел из себя. Мир. (Протягивает руку.)
Брэдис. Я рад, что вы не чувствуете себя оскорбленным. Но я, плебей…
Граф. Полно, полно, добрый Брэдис, друг, благородный республиканец. Полно… Я говорю серьезно: вы были правы. Правы граждански, научно, человечески. Нет. Я не должен жениться, я не смею жениться. Пастор, я иду одеться. Мы сейчас же едем в Довгеллы. Вы и я. Вы будете свидетелем. Я зашел несколько далеко с этой девушкой. Дальше, чем позволяет это моя судьба. Я при вас сам скажу девушке, что я готов был полюбить ее… но… но, что я… урод… чудовище… и не должен, не могу… И что я теряю? Она, она не любит меня, она холодна, пустая кокетка, обольстительная кукла, созданная чортом на погибель. Мы об’яснимся с нею. При вас. А то ведь, чего доброго, без вас я и там выскочу из себя. При вас, а когда я вернусь из Довгелл, я немедленно напишу духовную и отдам ее тебе, тебе, Брэдис. Мой Брут, мой Гален и кто там еще… Ну доволен? Руку же!
Брэдис. Я боюсь ваших порывов.
Граф. Перед Виттенбахом клянусь тебе моей графской честью — не порыв, а решение. Все будет так.
(Брэдис подает ему руку.)
Граф (пожимая руку). Вот так. Теперь идите, доктор.
(Доктор кланяется и уходит. Граф с поникшей головой молча сидит в кресле. Пастор смотрит на него сострадательно. Тихонько касается его плеча.)
Пастор. Вам горько?
Граф (долго смотрит на него). Очень. Но моя вспышка — лишнее доказательство того, какой я негодный человек.
Ни слова, Виттенбах. Никаких утешений. Готовьтесь к нашей поездке. Поедем мы в кабриолете? Верхом?
Пастор. Как вам угодно. Я четыре года прожил в перуанских степях, я хорошо езжу верхом.
Граф. Верхом тогда. Не делайте кислой физиономии, мой превосходнейший господин Виттенбах. Со стороны это, право, должно быть интересно. Говорю вам: чувствуйте себя, как в театре. (Подходит к двери.) Да, я займусь своим туалетом. Полный дом дам. (Смеется.) Если хотите произвести впечатление — приоденьтесь. О, вы имеете шансы. Вы похожи на Шиллера, ха–ха–ха! (Уходит.)
ЗАНАВЕС.
КАРТИНА ЧЕТВЕРТАЯ.
Парк в усадьбе Довгелло. Подковообразная площадка. Сзади фонтанчик, соединенный с подковообразной скамьей. Полукругом расположены растения за скамьей и по сторонам ее: внизу роскошный цветник астр, георгин, настурций и иммортелей, выше их ярко–желтый, почти лимонно–золотой кустарник и еще выше трагические лапы до крови покрасневшего клена. Погожее осеннее утро. Брэдис в кожаной куртке, фуражке и высоких сапогах со шпорами. Мария в белом с длинными косами, в оранжевой шали на плечах, на шее у нее янтари. Она высока и тонка, очень бледна с большими, как бы несколько экзальтированными глазами, шатенка.
Брэдис. Нет, панна Мария; мне туда нельзя итти. Вы знаете, что я вместе с графом у вас не бываю. А так — я не прячусь. Что ж мне прятаться? Я из любви моей к вам не делаю тайны. Ни перед вами, ни перед другими. По происхождению я — мужик, но не больше ли мне чести, что я стал доктором, что меня называют благодетелем мои братья во всей округе, что мои труды печатаются в России, Польше и Германии… У меня и прошлое чистое и будущее, надеюсь, ясное, а, может быть, и славное. Ведь вы же меня не презираете, панна Мария?
Мария. Вы знаете, пан Ян, что я вас глубоко уважаю, что я — ваша благодарная ученица.
Брэдис. Да, не замечал я, чтобы и панна Августа при всех своих феодальных предрассудках меня презирала.
Мария. Тетя тоже вас уважает.
Брэдис. А пренебрежительные минки панны Юлии меня не трогают. Что мне Она? О, я очень завишу от панов на Довгеллах. Здесь мое счастье. Когда я кончу мое дело, его первую важнейшую часть — я смело и прямо приду, как всегда приходил к вам в гости на чашку чаю, скажу вам и панне Августе, что моя заветная мысль — назвать вас своей женой. (Мария опускает голову и молчит.) Мне не надо тайных свиданий. И не подумайте — вы ведь знаете вашего Яна — что я боюсь графа… Ха! Я еще никого не боялся, и надеюсь во всю жизнь никого не испугаться. Видели бы вы, панна Мария, какой разговор у нас с ним был вчера утром. Грызлись мы, как два барса. И я таки загонял его в нашей словесной дуэли, как сказал этот пастор, с которым он вчера к вам и приехал. Так загонял, что он дух не мог перевести, а после кинулся: на меня, как раздразненный медведь. Но попал на рогатину, панна Мария, и как ни рвался и ни бился — сдался. Ха–ха–ха! Сдался ясновельможный медведь.
Мария. Но ведь это делает ему честь.
Брэдис. А… Честь. Я так веду свои дела уже девять лет, что разбудил в нем и честь. Она таки нужна мне, его не графская, конечно, а человеческая честь. Ах, Мария, я воспитал в нем и понимание науки и чувство… Я веду свое дело с умом, тактом, широко и глубоко.
Мария. Все так, пан Ян, но надо всегда сказать правду: он благородный человек.
Брэдис. Насколько благородный нобиль может быть благородным человеком.
Мария. Ему же труднее, чем вам проникнуться новыми идеями.
Брэдис. Тем хуже…
Мария (с некоторым нетерпением). Пан Ян, не надо отрицать ничьих достоинств. Вы как–то восхищались, что я преклонилась перед учением ваших учителей, хотя я дочь помещика, который ведь тоже был в свое время богат, чуть не как Шеметы. Ивинские — старая, по всей Польше знатная шляхта. Мои предки стояли у самого трона королей, считали подданных многими сотнями. И что они социнианцами стали и были опорой чистого христианства у себя, как Шеметы — здесь, так ведь это сделало всю нашу семью еще богомольнее. И вы говорите: славно, панна Мария, славно, что вы смогли увидеть настоящий свет впереди и не ослепли от ложного блеска сзади. А граф Шемет, ведь он — граф Шемет. Ведь еще отец его был великолепный деспот. А он, смотрите, он почти наш.
Брэдис. О–о, не преувеличивайте, панна Мария.
Мария. Пан Ян, я еще от матери, хоть она была добрая социнианка, научилась правилу, которое новое евангелие, которое сами Сен–Симон и Базар могли только во мне укрепить, — правда. (Ее глаза сверкают при этом слове.) Правда! о, пан Ян, не верно разве, что человек тем достойнее, чем он больше себя отдает высокому? — Королю, отечеству отдавались, за имя божие и Христово страдали, за истинную веру в бога единого, а не тройного, боролись, а я высшую правду познала. Но ведь все добрые были, есть и будут за правду. Правду в великом надо блюсти, и в малом, пан Ян: и к врагу, и к тому с правдой… А он и не враг.
Брэдис. Учите меня, дорогая ученица. Я знаю, какое вы бесценное сокровище. Когда говорите — так в вас вижу самое правду, и готов преклонить колени.
(Опускается на одно колено и целует ее руку. Мария ласково смотрит на него. Брэдис подымается, отходит на несколько шагов и говорит с некоторой горечью.)
Только и к себе правда, а для этого нужна большая зоркость, светлая моя панна. Только ли ради правды стоите вы так за Шемета? Уж пусть между нами будет вся правда до самого конца. И первое, панна Мария, почему ни разу вы еще мне не обещали, что будете моей женой? (Мария вспыхивает, хочет что–то сказать и опускает молча голову.) Ну, девичья стыдливость. Хоть пора бы ее отправить на чердак со щитом Довгеллов, социнианским молитвенником и правилами доброй гувернатки… Ну, пусть… А вот второе — щемит у меня сердце, панна. Я вас редко вижу с Шеметом. И знаю, что у него в глазах одна панна Юлия. Но мне иные шутки вашей сестры, как нож в грудь.
Мария. Полно, пан Ян. Граф идет своей дорогой, а я своей иду. Я никогда не солгу… Никогда ни за что не солгу. Я его почти что люблю как будто.
Брэдис. О… Панна Мария.
Мария. Да постойте же. Потому что он такой бывает мрачный, такой бывает жалкий, словно его среди бела дня ночь окутала своим плащом, словно у него вместо сердца руины и там совы плачут и зловеще хохочут… Кажется мне иной раз, что нет на свете человека несчастнее графа Михаила. А вы, пан Ян, вы такой прямой и смелый и счастливый. Не вы, а он роком обижен: и смотрит иной раз так жутко–робко, словно себя боится, словно пощады просит, как смотрит зверь в клетке, — зверь которого больше бьют, чем кормят.
Брэдис. Эх, панна Мария. Сказки это, он и зол и груб достаточно. Я–то это знаю. Граф в нем во–какой сидит. И уж на–чистоту говорить, так это и в вас Довгелловская кровь рождает сантиментальную жалость. Ну, будет. Жалость так жалость, а дело делом. Любите меня, нет ли, но ведь вы — мой товарищ и соратник?
Мария. Всей душой, пан Ян, и, конечно же, я люблю вас.
Брэдис (целуя ее руку). Так вот. Сегодня он должен об’ясниться с панной Юлией и сказать ей, что он, по наследственной роковой болезни, жениться не может и что потому предложения не сделает, хотя, мол, и любит ее… Ну, а кстати, при этом немножко отплатит ей за ее с ним игру и жеманство.
Мария. Сам говорил?
Брэдис. Не то, что говорил, а перед приезжим пастором поклялся мне в том графскою честью.
Мария (задумчиво). Вот как сделал.
Брэдис. Да сделает–то так ли? Сильны над ним чары вашей сестры, Мария, сильна в нем страсть, я знаю, как сильна. Ведь он сохнет по ней, желтеет. Сидит, как сыч, сутками в кабинете, запершись. А мне говорили, будто в непогоду через окно, — подумайте, до чего рехнулся, — через окно вылезает из своей берлоги и рыщет по лесу под дождем и громом.
Мария (широко раскрытыми глазами, почти с ужасом смотрит на него). Да неужто? До того дошел, бедняга…
Брэдис. Каково–то графу Шемету… Который головой готов всякую стену пробить, да и может. Так отказаться от того, чего сердце безумно хочет, ох, трудно! Он вдруг вчера схватился, заторопился, и честью клянется и свидетеля с собой зовет. Почему? — Себя боится пан граф. Разум, совесть его поскорее погнали, чтобы воля, чтобы страсть не проснулись. А я–то знаю — темное в нем сильнее. Что мне. Пусть бы и женился. Конечно, жаль панну Юлию, счастье ей брак никак не принес бы, а уж дети и подавно. Да мне–то что? Разве мало на свете несчастных браков. Но должно ли к этому несчастью прибавить гору целую людского горя, горя крестьянского люда, который останется в кабале? Нищете? Нет, панна Мария, со всех сторон этому браку быть не должно.
Мария. Так, пан Ян, так. Да и чего он добьется? Она–то бы за него пошла, я знаю. Она шалит и ломается, но знает, что граф — жених блестящий. Ей что рисуется? — Петербург, Париж. Быть при дворе. Туалеты, музыка, комплименты. Обожатели… Царица балов. Она такая, вы знаете, доктор, а он? — А его охотно бросила бы она в Мединтильтасе посылать ей побольше денег. И уж лучше так. Подумайте только, представьте только себе. Ясь мой, дорогой, вот такую пышную залу, где танцуют, шепчутся под мазурку, и ее в шелках, жемчугах, окруженную, смеющуюся, и его, в каком–нибудь углу, как он иной раз уж и тут сидит в углу, на нее смотрит: рот полуоткрыт, глаза жалкие и пот на лбу. А ведь тогда — муж, а он ревнив. Еле теперь сдерживается, когда она, как поводырь медведя за цепь, за губы, усмиряет его своей злой свободной насмешкой. Нет, Ясь, этому браку не надо быть.
Брэдис (беря ее за руку). Хорошо сказала, Мария. И не только так ведь смотрит граф из–за угла на панну Юлию, когда та охорашивается райской птицей меж павлинами. Разве вы не видели, как иной раз надуется у него жила посреди лба, зубы сцепит так, что скулы шевелятся, глаза уйдут внутрь и станут маленькие, злые, зеленые, огонь ада в них тлеет. Смотрит… и не скажешь, — целовать он ее хочет, или с’есть. Ха–ха–ха! Ох, страсти клокочут в груди у Шеметов. А ведь он — девственник, однолюб. У него, как лава недр земли, из единого кратера все чувства хлынут на панну Юлию. Жутко это. И для нее, и для нашего дела, для дела крестьянского. Этому браку не бывать. И тут нужна ваша помощь, панна Мария.
Мария. А чем могу я…
Брэдис. Поговорите с сестрою и не откладывая поговорите, сейчас же. Она придет сейчас собирать к столу букеты, она ведь любит сама это делать, вот и поговорите. Чтобы было то еще до разговора с графом. А он, пожалуй, станет торопиться. Скажите ей… меня она слушать не станет, сделает минку, оборвет… но скажите ей и от меня, чтоб больше испугалась, что он — тяжелый, темный, страшный человек, что брак этот ей — гибель, как с Синей Бородой. Скажите, я, как врач, клятву даю, что болен он роковой болезнью…
Мария. Можно ли так? Не преувеличиваем ли мы?
Брэдис. Я же говорю вам: дети будут чудовища или идиоты. Да кто поручится, что когда–нибудь в припадке ревности не задушит он ее, как Отелло? Скажите ей это. Пострашнее скажите, страшнее, чем на деле, не скажете. Вы умеете жгуче говорить. Куда ведь ей, пустоголовой, пустосердой — простите меня за сестру, — до вас, моей звезды небесной… Попугайте же ее, ей на благо. Мало ли ей женихов еще будет по дороге встречаться? Постарайтесь только ради святого дела. Постойте, это чье там просвечивает красное платье? Она ж и есть. Идет. Слышите, напевает. Уйду, пока она меня не увидала. (Целует Марии руку и поспешно уходит.)
(Мария остается одна. Волнуется. Встает. Опять садится. Опускает голову, подымает ее и со слабой улыбкой кричит.)
Мария. Ау–у, Юлька!.. Я уж здесь. Поцелуй сестренку. Давай вместе ломать цветы.
(Входит Юлия, напевая вполголоса. Она очаровательна, и в красном легком платье, и еще более легкой другого тона красной шали, вся веющая и воздушная, — похожа на иные фигуры Ботичелли. Ее волосы золотые, она бела и нежно румяна, глаза лукавы и ясны, на маленьких губках ирония.)
Юлия. Ты здесь, Марися? (Целуются.) Маленькая, что это у тебя вид такой торжествейный? Ведь панна Мария у нас прозрачная: все сразу насквозь видно. Ну, что?
Мария. Давай делать букеты, Юлия.
Юлия. Нет, это уж я сама, Мария. Ты знаешь, — я люблю цветы, как музыку и почти как танцы. И всюду с вашего позволения люблю (комически) творить. Почему у маленькой пуританки рожица беспокойная? Почему кисленькая? Почему мои глазки тревожные? — Ах, господи, догадалась. Я–то думаю, что это за черная фигура от меня убегает… Тут многоученый пан доктор был; Брэдис бредил и свою хорошенькую прозелитку, видимо, взволновал. А все–таки чорт бы побрал твоего Брэдиса.
Мария. Юлька, как не стыдно!
(Юлия молчит и собирает цветы.)
Юлия (после паузы). Что поделаешь, не люблю.
Мария. А кого ты вообще–то любишь, Юлия?
Юлия (занятая своими цветами, посылает ей воздушный поцелуй). Тебя, мудрилка.
Мария.Будь на миг посерьезней. (Юлия отрицательно качает головой.) Да, Юлька же… (Юлия опять качает головой отрицательно). Мне надо с тобой очень серьезно поговорить.
Юлия. Говори серьезно, а я серьезной не буду (напевает): все на свете мне смешно. И слава создателю, сотворившему меня. Останусь верна моему любимчику–дружочку, божочку крошке — Смехунчику (с комической важностью): И перед алтарем сына сатаны Редибредискука не преклонюсь. Ха–ха–ха! Я тоже исповедница. Ты, Марися, специально родилась, чтобы быть мученицей. Вот я так прямо и воображаю себе тебя: вот ты вся в белом, на волосах венчик белых роз, глаза сияют… на арене. Тут император, понимаешь, сенаторы, весталки, толпа гудит. И вдруг львы выбегают… И к тебе прямо. Лакомый кусочек. Но каждый, как глянет в очи пророчицы, полячки Марии–Исповедницы, — так и ляжет, мурлыкая, к ножкам ее. А Нерон какой–то там кричит: принести мне красавицу в мой золотой дворец, на мое пурпуровое ложе…
Мария. Фу, какая ты бесстыдница, Юлька! Я даже не смеюсь (смеется невольно). Бесстыдница какая!..
Юлия. Разве лев тебя тронет? Тетя говорит, что тебя даже комары не кусают, из уважения и умиления.
Мария (с мрачной серьезностью). Никто меня ко львам не тащит, а вот ты в опасности.
Юлия (хохочет). Да ну? А, понимаю: намек на моего Мишку, на моего чудесного медведя (напыщенно), которому так хочется отведать меда моих уст. Вот, если ты будешь серьезна, так я стану до того торжественна, прямо, как: похоронная процессия, и ты сама же будешь смеяться. (Показывая букет.) Хорош? Разве не живопись, а?! (Высоко поднимает его над головой и любуется.) Осенние цветы не пахнут, но так красивы… Правда, чопорные они немножко и трагические… Ну, что ж поделаешь: каждому времени своя краса (напевает): «Ах розы, розы, зачем вы отцвели?»… Боже, Мария, как я розы люблю. Когда я буду графиней Шемет, у меня в будуаре, — не в противном Мединтильтасе, конечно, а в Вене или в Париже, круглый год будут розы: кусты прямо. Всегда и на мне будут розы, самые разные. И меня будут звать: прекрасная графиня в розах.
Мария. Не болтай же ты без умолку: дай слово сказать.
Юлия. Я молчу и собираю другой букет, еще красивее.
Мария. Ты разве решила выйти замуж за графа Михаила?
Юлия. Решила.
Мария. Разве он тебе предложение сделал?
Юлия. Когда захочу, — сделает.
Мария. Нет, вот он приехал порвать все это с тобою.
Юлия (выпрямляясь, смотрит на Марию). Кто сказал?
Мария. Брэдис.
Юлия. Ворона.
Мария. Граф при нем поклялся в том.
Юлия (после мгновенного молчания). А причина?
Мария. Причина, что он… болен страшной болезнью… Наследственно… О, такой страшной, что сказать нельзя!.. И дети у него будут чудовища…
Юлия (опять начиная рвать цветы). Очень мне нужны его дети…
Мария. Раз выйдешь замуж…
Юлия. Не говори мне, пожалуйста, ни о каких детях. Разве это прилично твоему возрасту? Опомнись! Скажите: дети. Мне, Мария–крошка, аист детей принесет. И прехорошеньких. Маленьких, как лягушаточки. А так как мне и самых хорошеньких детей воспитывать некогда будет, то я буду их тебе дарить.
Мария. Юлька же!
Юлия. А если пойдут чудовища, — можешь держать их в клетке.
Мария. Юлия, я требую внимания. Дело такое серьезное и страшное.
(Юлия вдруг громко вскрикивает.)
Мария (вздрогнув). Что? Что такое?!
Юлия. Ха–ха–ха! Это я чтобы тебя испугать. Видишь, какая ты зайчиха–трусиха. А я так ничего не боюсь.
Мария. Юлия, он безумный, он с ума сойдет.
Юлия. Вот и чудесно. Я приставлю к нему Брэдиса. Пусть граф со своей мамашей в пикет играет. Или в какую–нибудь игру с болваном. Ха–ха–ха… А за болвана — пан доктор.
Мария (почти плача). Невозможная девчонка! Он убьет тебя, от ревности убьет.
Юлия. Так и убил. Скажу: Мишка, тубо, ложись. Ну? Почесать тебе ухо?.. Ну, ну, не ворчи, Мишка, хороший, хороший… Обмакни Мишкину лапку в мед, да соси. Так вот. А Юлька запряжет сто стрекоз в голубую коляску и поедет на ночной бал к Великому Моголу.
Мария. Юлия. Я не позволю тебе больше шутить. Дело идет о счастьи, о жизни.
Юлия. А то знаешь: возьми ты себе графа. Вот тебе я его уступлю.
Мария. Ну, дура.
Юлия. Право — тебе уступлю. С тобой уж он с ума не сойдет. Ревновать будет нечего. Будете вы жить в деревне. Если его детям суждено быть демонами, то ведь твои, наверно, должны быть ангелами. Вот — середина на половину — будут себе люди, как люди… Он темный, злой, — но Мария–Исповедница его просветит, как святые отцы миссионеры каннибалов. Ведь ты заставишь его благотворительствовать. Когда вы умрете, вам построят часовню Марии и Михаила. Ей богу, хорошо.
Мария. Я очень сердита, очень… я готова плакать. Ты такая пустая. Ты даже не умеешь думать. Все только эти поганые шутки.
Юлия. Ведь он тебе нравится, а? Нравится?.. Мария?.. Ты свет, он тьма, тебя не может не влечь к нему. Какое мне, например, дело до его счастья? Мне дело только до его титула и доходов. Он со мной, конечно, будет несчастлив. Только ты, одна только ты, Марися, на всем свете одна, способна его спасти. О, Марися, какая мне мысль пришла в голову: ты искупишь проклятый род, прервешь своей лучезарностью эту цепь ужасной болезни, осветишь поток великой фамилии Шеметов, текущий от самих Гедеминов. Как красиво! Ну, посмотри на меня; я говорю серьезно. Я не смеюсь.
(Граф Шемет в синем фраке со светлыми пуговицами, белом жилете и галстухе, панталонах телесного цвета и высоких лакированных сапогах, в изящной шляпе, с тростью и перчатками в руке входит по дорожке и останавливается. Мария его не видит.)
Юлия. Марися, оглянись.
(Мария оглядывается, видит Шемета и страшно смущается.)
Граф (снимая шляпу). Прекрасные паненки среди цветов…
Юлия (насмешливо). Как вы сегодня нарядны!
Граф (слегка смущаясь). Приехал для некоторой церемонии… С визитом. Вчера поздно было, а сегодня хочу выполнить долг.
Юлия. Уж не хотите ли кому–нибудь сделать предложение?
Граф (смущенно). Панна Юлия всегда так скажет…
Юлия… что пан граф словом подавится. Если вы приехали сделать предложение, то делайте его Марисе. Она — ангел… И к тому же, глупый пан граф, — она вас любит.
Мария (вспыхивает). Ах, Юлька, негодная — шути себе, но не мною! (Хочет уйти, Юлия хватает ее за руку и удерживает.)
Юлия. Любит и смотрите, граф, какая она сейчас хорошенькая. И какое же это сокровище — любовь, граф Михаль. Эти семнадцать лет, эта серьезность ангела, восхитительная фигура, эти ароматные косы… О, будь я на вашем месте, я давно уже положила бы к этим белым туфелькам Мединтильтас и свое трепещущее сердце!
Мария (плачет, вырывается). Гадкая… Гадкая… (Убегает. Юлия хватает ее за шаль, которая остается в ее руках.)
Юлия. Умчалась, испуганная птичка. Теперь, граф, как хотите: позвольте мне перевязать вас этой шалью через плечо… В честь Мариси.
Граф. Панна Юлия…
Юлия. Повиновение. Эдакий вы увалень, граф, ведь какой вы, несмотря на годы, красавец–мужчина, сколько в вас грации и силы, каким могли бы быть увлекательным кавалером, а манеры иногда прямо медвежьи. Ну… Ближе, ближе… Наклонитесь. (Граф наклоняется, она перевязывает ему шаль через плечо.) И носить целый день… Слышишь, Михасю?! В честь Марии–исповедницы и по приказу Юльки, Поюльки, Плясульки, вашей феи, ясновельможный пан, граф Шемет на Мединтильтасе. Я люблю, когда ты так вздрагиваешь, Михась. Ты можешь поцеловать меня в шею. (Граф жадно целует ее.) Я знаю, какой ты мед любишь! Довольно, довольно же, глупый. У меня нежная кожа, глупый, меня нельзя так крепко целовать: кровь пойдет.
Граф (издавая что–то вроде глухого рычания). Юлька… Люблю!
Юлия (отталкивая его). И ладно.
Граф (покачнувшись, как от головокружения). Юлька… (со стоном) люблю…
Юлия. Ладно, говорю, вон там пастор идет.
Граф (встрепенувшись и словно опомнившись). Пастор?
Юлия. Ваш друг. Смотрите–ка, ведь он на Шиллера похож.
Граф. Я пойду к нему: у меня есть дело к нему… неотложное. Ах, Юля, какой я злосчастный… Я вас оставлю, панна, на одну минуту.
Юлия. Насколько угодно, граф. Вы свободны. Я в прекрасном обществе. Вокруг меня цветы, мне поет фонтан и утренняя тишина тоже.
(Граф уходит. Юлия, напевая, рвет цветы. С другой стороны входит в блестящей форме Аполлон Зуев.)
Зуев (щелкая шпорами). Паненка!
Юлия (делая реверанс). Пан Аполлон. (Протягивает руку, он целует.)
Зуев (с удивлением). Одна?!
Юлия. Представьте.
Зуев. Какое счастье!
Юлия. Поболтаем.
Зуев. Какое блаженство!
Юлия. Сядем.
Зуев. Какой Эдем!
Юлия. Генерал хорошо сделал, взяв вас с собой.
Зуев. Взяв с собой? Я, как паук в басне, прицепился к орлиному хвосту генерала. (Пауза. Юлия занимается своими цветами.) Панна Юлия, как вы недопустимо прекрасны. Ну, можно ли быть такой красивой?
Юлия. Очень нравлюсь?
Зуев. Какое слово. Разве тут надо такое слово?.. Тут такое слово надо… Ах, зачем я не поэт! Вот у нас в полку есть один такой… На ежа ужасно похож, так, знаете, все поглядывает исподлобья и вдруг спрячется… а вдруг уколет… впрочем, прекрасный малый… Лермонтов фамилия… Смешная, правда? Вот стихи пишет. Ну, дивно!
Графиня Эмилия
Бела словно лилия,
Стройней ее талии
На свете не встретится,
И небо Италии
В глазах ее светится,
Но сердце Эмилии
Прочнее Бастилии…
Ха–ха–ха! А я не могу так. Стараюсь, а не выходит.
Прекрасная Юлия,
Лежу ли, хожу ли я…
Это очень хорошо, а дальше не выходит… Ха–ха–ха!
Юлия. Вам сколько лет?
Зуев. Ни мало, ни много, в самый раз — двадцать шесть.
Юлия. И не женаты?
Зуев. Беден. Свой цветник завести не могу: порхаю по чужим.
Юлия. Мародер!
Зуев. Кавалерист. В мужья не гожусь, но предлагаю себя в рабы. Вам предлагаю. Выходите поскорее замуж, панна Юлия, и берите меня рабом. У замужней женщины гораздо лучше быть рабом.
Юлия. Ну–ка, раб, смотрите, у меня распустилась лента на башмаке. Завяжите.
Зуев. Какое упоение! (Становится на одно колено, на другое ставит ее ногу и перевязывает лентой.) Вот кажется также элегантно, как на другой сестрице–ножке. Награда раба.
(Хочет поцеловать ее ногу. Она вырывает ее, оба смеются. Входят Шемет и пастор. На пасторе длинный коричневый сюртук и высокий белый галстук. Он действительно смахивает на Шиллера. Зуев встает и нагло смотрит на графа, показывая белые зубы под своими черными усами. Юлия хохочет.)
Юлия. Ну… Штабс–капитан Аполлон. Ухаживать за тетей Августой: налево кругом, марш! (Зуев делает деревянное лицо и, шаржируя военные телодвижения, исполняет команду и уходит.) Пан пастор. (Протягивает ему руку. Он пожимает ее.) В Кенигсберге ручек не целуют?
Пастор. О… целуют. (Несколько принужденно целует ей руку.)
Юлия (сидя посередине скамьи). Сядьте одесную меня, а граф ошую — ближе к сердцу. Лица у вас, как у католического поста. Вот так и будем сидеть. (Склоняет голову на–бок и делает постное лицо.) Мадонна со святыми… Ха–ха–ха!.. Веселей оба. Слышите! Граф, в петлицу пеструю георгину! Веселую, как это свежее утро. А пану пастору — иммортель, сухой и бессмертный, как его науки!
Граф (сурово сжимая брови). Вот и эта сцена, панна Юлия…
Юлия. Какая?
Граф. Которую мы застали здесь… Вот и она показывает, что вы за девушка! Как вы легко играете: и во всяком случае, как вы нисколько меня не любите. И это очень хорошо… Так будет много легче. Я приехал извиниться… в присутствии моего друга Виттенбаха… Попросить прощения. Я зашел с вами, быть может, слишком далеко.
Юлия (немного строго). Вы зашли, граф, ровно только далеко, сколько я допустила.
Граф (смущаясь). Повсюду создалось такое впечатление… Будто я езжу как жених. Будто претендую на вашу руку. А этого нет… И быть не может. И прямо скажу — не потому, чтобы я, чтобы я… не любил вас. Позволь я себе — я бы вас адски полюбил, а потому, что — как знает и мой друг Виттенбах — судьба, судьба не позволяет мне иметь семью. И тем лучше… Так как единственная девушка, которую я воображаю себе иногда своей женой… меня не любит и никого любить не может.
Юлия (она сначала смутилась речи графа, но к концу совершенно овладевает собою, к пастору.) А вы что имеете сказать, пан пастор?
Пастор (от неожиданности страшно конфузится). Я… Бог в небе, я ничего.
Юлия. Вот это лучше… Пан пастор всю ночь продолжал сердиться на меня за Мицкевича?
Пастор. Нет, нет…
Юлия. Ну и слава богу.
(Молчание. Быстро входит веселый и блестящий Зуев.)
Зуев (щелкая шпорами). Панна Августа убедительно просит пожаловать к столу. Завтрак подан, и генерал не хочет садиться без панны Юлии.
Юлия. Как кстати! Пойдемте завтракать. Кто знает, может быть, после завтрака у нас изменится настроение к лучшему? (Смеется. Берет под руку пастора и графа.) Штабс–капитан Аполлон идите вперед.
(Зуев проделывает свою военную комедию и торжественно идет впереди растерянных графа и пастора, которых ведет под руку Юлия.)
ЗАНАВЕС.
КАРТИНА ПЯТАЯ.
Зало в Довгеллах. После полудня. Только что кончился завтрак. Завтракавшие входят в залу в стиле ампир, с белыми стенами под мрамор, роялью и белой мебелью. Генерал Ростовцев ведет под руку расплывшуюся панну Августу Довгелло. Зуев — Юлию. Граф — Марию. Пастор — молчаливую и сухопарую гувернантку–немку.
Генерал (усаживает тетку в кресло и сам садится на стул около нее, пододвинув его). У себя я за завтраком выпиваю немного водки и только. Вино только за обедом пью, ну за ужином, конечно. Ужинаю всегда с приятелями и либо в гостях, либо в ресторане, если поход в какую–нибудь дыру не забросит, конечно. Но чтобы в 12 часов так много пить — этого у меня не бывает.
Августа. Все на здоровье, генерал, когда пьет и кушает добрый человек и предложено от души.
Генерал. Но вина у вас отменны. Прелесть что такое Довгеллы ваши, пани, да и только. (Покручивает свои пушистые, седые усы.) Оазис культуры. Сад, парк — великолепные, дом, как дворец, музыка… а главное столь грациозные обитательницы… При том — французская кухня, excusez du peu!
Августа. Еще покойный мой, молодым был, послал этого повара, по фамилии Кабан — в Париж учиться. Теперь он стар и болен, но, поверите ли, еще говорит по–французски, а когда пьян, то даже не хочет ни на каком другом диалекте из’ясняться.
Генерал. Вот чудок какой! (Галантно оборачивается к Юлии, которая дурачится у окна с Зуевым и кормит его ломтиками апельсина.) Какой день червонный, панна Юлия. И как мне хорошо у вас. Такая право досада, что завтра надо возвращаться в противное Ковно.
Юлия (быстро подходит и кладет ему руку на плечо). Оставайтесь, генерал. Ну, хоть на неделю оставайтесь. Я обещаю за вами волочиться. (Глотает кусочек апельсина.)
Генерал. О, ха–ха–ха, это я… ха–ха. Это я должен… да я уж поступил к вам в… ха–ха–ха, влюбился положительно на старости лет…
Юлия (глотая апельсин). Когда же и любить? Когда ж и веселиться? Пока молод — тратишь жизнь попусту, например, в мечтах и т. п. Ведь, кажется, что у тебя еще такой запас дней и ночей, весен и зим… А к вечеру жизнь с особым наслаждением смакуешь каждую минуту и ни одной, прямо ни одной не позволяешь пройти, не подарив тебя какой–либо тонкой усладой.
Генерал. Вот ум. Говорит, как будто голова ее поседела, а сердце изысканно обработано жизнью.
Юлия. А знаете, генерал, мне ведь не долго жить. Вы еще будете плакать, если Марс дозволит вам увлажнить слезой снежные усы ваши, над моей могилой.
Августа. О, Юлька, что за слова? И грустно и неприлично…
Генерал. Откуда такие мрачные предчувствия?
Юлия. Цыганка одна нагадала. Есть тут одна. Знаменитая. Ей сто лет. Она завораживает гадюк… все видит в прошлом и будущем.
Генерал. Не верьте этим шарлатанкам.
Юлия. Да ведь я только веселее от этого. Только некогда мне заниматься науками, например, как господин пастор, или даже как Марися. Некогда мне читать. Мое время дорого. Мне надо быть все время счастливой и только. Давайте ж веселиться.
Зуев (подлетая к ней и щелкая шпорами). Охотно. Я вполне к вашим услугам. Для вашего веселья все сделаю, все, что прикажете.
Юлия. Нет, не все, пан Аполлон.
Зуев. Ей богу — все.
Юлия. Ведь вы, пожалуй, перехватили хересу, а? пан Аполлон?
Зуев. Так что же? — Херес только изощряет мои необ’ятные способности.
Юлия. Ну вот что: я завяжу вам глаза… и вы пройдете по этой половице, от окна — вот сюда, и пальцем прямо попадете вот в этот кружок… Марися, дай твой карандаш. (Та дает.) И вот. Ну–ка, идите, смельчак, завяжу глаза.
Зуев (становясь на колени). Сделаю… а какая награда?
Юлия. Общий хор похвал, а наказание — шиканье и насмешка. (Отводит Зуева к окну, три раза поворачивает его на одном месте и говорит.) Ну, раз, два, три.
(Зуев уверенно идет и попадает пальцем куда надо.) (Общие аплодисменты.)
Юлия. Молодец, пан Аполлон, можете–таки пить.
Зуев. Я, панна Юлия, все могу в огромном количестве. Я и в любви сверх’естествен. Один офицер у нас — большой остряк, — Лермонтов, Юрий, ** —** посмотрел как–то на мои подвиги, да говорит: ты, говорит, не Аполлон вовсе, а Бахус. И представьте, так ведь и прозвали в полку: Баша Зуев. Как вам нравится?
Юлия. Я вас так и буду называть, пан Баша.
(Гувернантка выражает беспокойство.)
Августа. Что ты, Юлька. Это неприлично.
Юлия. Вполне. Ну–с, генерал за вами черед;
Августа (в ужасе). Юлька. Fraulein, was thut es, unartige Kind!
Гувернантка. Sie haben Recht, gnadige Frau.
(Смотрит с укором на Юлию.)
Юлия (завязывает глаза улыбающемуся генералу.) Завязала… Отвела. Повернитесь вокруг своей оси, генерал, ведь все светила поворачиваются вокруг своей оси. Теперь в путь, чреватый опасностями, генерал.
(Генерал идет, протянув руку вперед, сбивается с линии и готов натолкнуться на кресло, но Юлия становится перед ним и обнимает его.)
Юлия. Совсем не туда, генерал!
Генерал (срывает повязку, хохочет.) Именно туда попал, вот именно туда! (Целует Юлию.) Ах, что за прелесть!
Пастор. Как у Мицкевича.
Генерал. Что у Мицкевича?
Пастор. Характеристика прекрасной полячки.
Генерал. Ну, какая–же?
Пастор. Весела, как котенок, а бела что сметана, очи, как звезды сияют.
Генерал. Портрет.
Зуев. Вылитая панна Юлия!
Юлия (подходит к пастору и грозя ему.) А, вот вы какой злопамятный, пан пастор. Опять меня дразнить Мицкевичем? Пожалуйте ж сюда. Вы ведь тоже в Шиллеровской задумчивости потягивали за завтраком из стакана. Испытание.
Пастор. О, я и трезвый не взялся бы… К тому же мой… как сказать… сан.
Генерал. Ну раз я ей позволил с собой подурачиться, то и никому не стыдно.
Юлия. Не рассуждайте! Он взбунтовался. Конечно, пан Шиллер, вы написали «Разбойников», но вы еще не Моор, чтобы сбрасывать с себя цепи устоев здешнего общества. (Завязывает ему глаза.) Так. Ну вот ваше исходное место. В дорогу. (Сама вихрем мчится в столовую, возвращается с банкой меда и подставляет ему, когда он ищет пальцем места на стене.)
Пастор. Ох, что это? (Испуганно отдергивает палец и снимает повязку. Все смеются.)
Юлия. Только мед, пан пастор. Пану Баше — честь, генералу — поцелуй, а вам мед. Каждому по усладе, как я говорила.
(Смех.)
Зуев. Не пойти в сад, господа?
Генерал. Нет, нет, там молодежь от нас убежит, хочется побыть с нею, не правда ли, панна Августа? Мне очень хорошо у вас, панна Довгелло, и я вдвойне вам благодарен. Здесь нас русских не балуют гостеприимством.
Граф. Да и за что бы?
Генерал. Вы сказали, граф?
Граф. Я сказал: за что бы? — Ведь вы здесь не гости. Вас ни в Польшу ни на Литву никто не звал.
Августа. Ох, нет, только не о политике. Граф Михаль, я вас прямо умоляю.
Генерал (прищурившись, смотрит на графа). Можно поговорить и о политике с вельможным паном графом, только в другом месте.
Граф. Надеюсь, еще будет такой разговор, и крупный. —
Генерал. Вот кого бы я заставил пройти по половице! Пану графу вино ударило в голову.
Зуев. Говорится: пьян — правдив. Что у трезвого…
Генерал. Не ожидал я от вас, большого помещика…
Августа. Ах прошу вас, оставьте без значения, генерал. Для меня вы все дорогие гости.
Юлия (не без интереса наблюдавшая сцену.) Довольно, довольно: вы становитесь серьезны, а нам надо веселиться. Нам с генералом некогда этим заниматься. А то еще вмешается Марися. Она ведь у нас читает Сен–Симона, генерал.
Генерал. Да неужто? Усердие похвально, а направление сомнительно, — а, панна Мария?
Мария. А вы читали?
Генерал. Нет.
Мария. Советую. Это — новое христианство, как и называется одна из книг.
Генерал. Ох, не довольно ли с нас и старого?
Юлия. Ну, а теперь боюсь вмешается пан пастор, да и начнет угощать нас богословием. Пан пастор, покажите пример, да вдруг вы, самый здесь ученый человек — расскажете нам какое–нибудь свое приключение.
Пастор. Извольте, панна Юлия. Хотя я далек быть искателем приключений, но имел их много.
Юлия. С любовью или без любви?
Пастор (строго.) С любовью к богу и людям, если смею сказать. Я жил в пампасах в Перу и Уругвае, просвещая племена краснокожих. С ними я ел и спал, а наибольше верхом ездил. И так почти четыре года. Конечно, тут имелись приключения. Так было три раза, что на один волос был от смерти, попадал в сражение, а не принимал участие, только стоял под пулями и стрелами, дав себя богу. Я видел людей самых первобытных и научился их любить. Да, они были дикари, много виделось кровожадности, коварства, и мрачные предрассудки. Но вместе имелись часто случаи светлого благородства и самоотверженности… так… Это были в действительности рыцари.
Граф. Все люди смешаны из хорошего и дурного, и нигде не ушли они далеко от животного.
Пастор. Но все отношения к природе там прямее. Можете ли вы себе представить, господа… По правде я от себя это раньше не предполагал, что так будет со мной: я пил кровь прямо из живого тела…
(Панна Августа вскрикивает.)
Юлия. Вот интересно. Вы?
Граф. Странно. Как же это было?
Пастор. С несколькими гаучосами я заблудился в пампасах. Местность далеко от воды. Солнце жарило нас. Как пожар был в воздухе. Боялись, загорится трава и будет смерть. Ночь немножко охолаживала нашу кровь. Но утром она зажигалась лучами и как кипела в жилах. Потом вышла из нас всякая жидкость. Так что стали мы, как сухие мумии. И трещины кровавили нам рот и губы. Я все–таки хоть был уже несколько привычен, но слабее был других. И вот в один полдень — вдруг все вспыхнуло передо мной до невыносимого сверкания и потухло. День мне потух, а я упал с лошади. Тогда Один гаучос сказал, приведя меня в чувство: «Надо прибегнуть к последнему средству: наши лошади должны поделиться с нами кровью.» И вот он ножом проткнул артерию у лошади на шее и пил. И мне сказал. Я приложился губами и пил. Кровь была горячая, соленая.
Августа. Как противно–то было!
Пастор. Нет, ничего. Очень хотелось пить. И еще мы два раза так пили лошади кровь и, наконец, выбрались к селению.
Юлия. Посмотрите, как граф Михаль слушает ваш рассказ. Граф Михаль вам так хочется крови? Смотрите, не перепортите всех лошадей в вашей знаменитой конюшне. Кстати, вы знаете, господин пастор, что все животные страшно боятся графа Шемета? Собаки поджимают хвост, лошади шарахаются.
Граф (мрачно). Они чуют, что я человек несчастный.
Юлия. Вы? Вы — страшно счастливы. Вчера вечером вы выиграли у генерала четыреста рублей. Казалось бы вам не должно везти в любви, а вам везет, везет…
Августа. Юлька… Так нельзя говорить. Was spricht derm das Kind! Wo sind ihm diese abscheuliche Manieren ungeklebt.
Гувернантка. Die gnadige Frau. hat wolkommen Recht.
(С упреком смотрит на Юлию.)
Граф. Если таково отношение между любовью и картами — то сегодня генерал может проиграть мне золотые горы.
Юлия. Вы осмеливаетесь утверждать, что вам не везет в любви?
Зуев. Пастор пьет кровь лошадей, а граф ест сердца девушек.
Граф (вспыхнув и рассвирепев). Что вы хотите этим сказать, штабс–капитан?
Зуев. Я хотел сказать, что вы сердцеед, граф, дон Жуан; что в том обидного?
Граф. Во–первых, я не сердцеед и не дон Жуан, а вполне порядочный человек. Конкуренции вам и вашему армейскому волокитству не составляю. А, во–вторых, потрудитесь выбирать выражения.
Августа. Ах, ах. Ссора, ссора. Ради бога, я умоляю — без ссор. Марися, ангел, помири их скорее. Долго ли до дуэли?
Зуев. Это уж выйдет, как у Пушкина. Нет, я, знаете, в вашем доме и все прочее, не намерен огорчать хозяев. Нет. Я не подыму графской перчатки. Но граф, я не драчун, не бреттер, однако второй раз вам не спущу, — так и знайте.
Граф. Я тоже не хочу огорчать панну Августу. Но я воздерживаюсь, чтобы не сказать, что я о вас думаю.
Зуев. Не очень интересуюсь.
Граф. Пока скажу лишь, что вам мое мнение доставило бы мало удовольствия.
Зуев. Да почем вы знаете, что мое удовольствие зависит сколько–нибудь от вашего обо мне мнения?
Мария (сидевшая поодаль, встает и подходит к ним с сверкающими глазами). Фу, как гадко, панове. Как вы оба злы и смешны сейчас. Как это достойно человека: быть вместе, жать друг другу руку, есть за одним столом, а потом, за непонравившееся слово грозить друг другу оружем. Кажется, мужчины, подобные вам называют это честью? Я называю это бесчеловечием, а потому и бесчестием.
Генерал (с восхищением смотрит на Марисю и покручивает усы). Однако!
Августа. Она их мирит. Она — ангел. Только не надо слишком. Niemals soil mann zu scharf sein.
Гувернантка. Die gnadige Frau hat absolut Recht!
Мария. Пан Аполлон — молод, офицер. Ему еще простительно.
А вы, граф Михаль? Не думала я видеть вас в таком положении.
Граф. Я глубоко извиняюсь, панна Мария. (Низко кланяется ей). Вы очень правы.
Зуев. Я ссоры не ищу.
Юлия. Кончено. Проповедь вашей исповедницы подействовала? Орфей и хищные звери? А вот что касается меня, представьте, какие мы разные, — я было обрадовалась. Дуэль — как интересно! Если бы пан Аполлон убил графа — я непременно надела бы траур. Я посещала бы… вашу урну… так кажется говорится?
Августа. Lass dosh! Fraulein!
Гувернантка. Die gna….
Юлия. Ну нет. Я ничего дурного не говорю. Я хочу далее пуститься в поэзию.
Генерал (хохочет). Ах, котенок, ах, котенок.
Юлия. Да ведь я уж знаю, что похожа на котенка и на сметану. Так ведь, пан пастор? Может быть, на котенка, который скушал сметану? Но я продолжаю. Ах, при звездах, около ивы, шелестящей над урной, склониться в глубоком трауре. Пролить слезу, из которой тотчас вырастет незабудка.
(Граф закусывает губу и отходит к окну.)
Августа. Ты его обидела,
Зуев. А если бы я был убит, панна Юлия?
Юлия. Я отрезала бы у вас, в гробу, кончик вашего уса. Я вечно носила бы его на груди в медальоне, Старушкой я показывала бы его внучкам: Внучки, смотрите, вот усы самого Аполлона.
(Все хохочут. Смеются даже те, кто осуждает тон Юлии.)
Юлия. А другое удовольствие. Вдруг рана в руку, в ногу. Один, прихрамывая, опирался бы на мою руку в прогулках по парку. Другой, бледный, с рукой на перевязи, благодарно улыбался мне за цветы, положенные у его прибора. Ах, Марися, зачем расстроила ты такую интересную дуэль?
Граф (оборачиваясь к ней с искаженным лицом). Урна, как вы изволите шутовски выражаться, пани Юлия, и без дуэли недалека. Я прошу вас вспомнить сказанное мною сегодня утром… Пан Виттенбах, едем.
Юлия (подбегает к графу и кладет ему руки на плечи). Вы уедете? Не станцевав со мной танца медведя и русалки? Который я клятвенно обещала генералу? Да ни за что. Вы сердитесь? Ну так позвольте, граф, вернуться к началу разговора, из–за которого сыр–бор загорелся. Все ведь из–за того, что я скромно отметала ваши успехи. Граф, здесь в этом доме две милые, милые девушки любят вас.
Августа. Ach, das Kind wird unmoglich heute!
Гувернантка. О, richtich, gnadige Frau.
Юлия. А вам не довольно? И вы, чуть не скрежеща зубами, хотите сбежать от нас? Довольно сердиться. Мне помнить, что вы сказали утром. Не хочу помнить: я не злопамятна. А вы говорили злые вещи. Fraulein, bitte, spielen sie ein Stuck Barentanz. Панове, есть у нас здесь в крае очаровательный, крестьянский танец, я еще очаровательнее переработала его и назвала танец медведя и русалки. Сама я русалка обворожительная. Даже русалочья королева Гоплана присылает ко мне маленьких зеленоволосых русалочек: учиться танцовать. С медведем труднее было. Граф Шемет чувствовал отвращение к этой партии. Мне стоило много труда приучить его к ней. Но это удалось.
Благодаря тому, во–первых, что я, как всем известно — волшебница, а во–вторых тому, что граф Шемет несказано любезен и мил когда захочет, то он часто меня по–королевски балует и по той причине, что знает, как я его люблю. Ведь вы знаете это, Бука? Не извольте хмуриться. Желаете танцовать?
Граф. Нет.
Юлия. Нет?
Граф. Нет.
Юлия. Еще раз: нет? (Смотрит в упор на графа.)
Граф (нерешительно). Н–нет.
(Юлия резко поворачивается к нему спйной, отходит, опускается спиной к нему на кресло, закрывает лицо платком и плачет.)
Мария. Она плачет. (Подбегает к ней. Юлия сбрасывает с своего плеча ее руку нервным движением.)
Граф (с удивлением подходит к Юлии, как бы не веря своим глазам, робко). Пани Юлька?.. Пани Юлька?
Юлия (сквозь рыдания). Оставьте.
Граф. Я буду танцовать.
Юлия (встает и вытирает слезы). Это другое дело. Злой… Страшилище. (Топает ногой.) Чудовище. Плакать заставил. Другая бы не простила, а я вот сразу прощаю. Also, Fraulein, ein Stuck Barentanz hab ich gesagt. Nicht? Was hocken sie dort, wie ein Vogelcheu?
Августа. Юлька!
Гувернантка (с тяжелым вздохом играет прелюдию. Юлия быстро снимает башмаки и остается в чулках.)
Юлия. Это танцуется босиком. Но во внимание к тете Августе и к моей фрейлине в чулках будет исполнено.
(Юлия становится в позу. Граф как бы нехотя опускается на колени и садится. Юлия порхает вокруг медведя, кокетливо заигрывая с ним и посылая ему поцелуи. Наконец он встает. В движениях вместе и неуклюжих и благородных он робко пытается ловить ее, чем дальше, тем скорее. Русалка ускользает, кружится, становится все обольстительнее. Медведь гоняется за ней все яростнее. Постепенно граф теряет такт музыки и с настоящей страстью стремится схватить Юлию. Она же увертывается, ни на минуту не забывая танца. Зрители в восхищении. Вдруг граф порывисто устремляется вперед, опрокидывает кресло, схватывает Юлию в свои об’ятия и покрывает ее поцелуями.)
Юлия (задыхаясь и смеясь). Не по правилам, не по правилам! (Выскальзывает из его рук.) Ну разве это гоже? Вот и танцуйте с ним. В танце, панове, нет ничего подобного. (Хохочет.) Как вы смели меня целовать? Смотрите на раскрытый рот тети Августы. (Граф растерянно смотрит. Юлия повертывает его в другую сторону.) Теперь на фрейлен: вы ее убили. Теперь на Марисю. На пастора. Кайтесь же.
Граф (сконфуженно улыбаясь). Генерал же вас поцеловал…
Юлия. А вы не доросли! Вам еще двадцать лет расти до таких прекрасных снежно–пушистых усов, как у генерала. Нет, я вам этого так не оставлю. Сейчас же идем на скамью астр, которую я с недавнего времени окрестила скамьей вздохов и признаний. Там я вас отчитаю. (Ко всем остальным.) А вы что же? Полюбуйтесь, какая публика. Они даже не аплодируют. Вашу руку, балетмейстер Шемет! (Берет его за руку, отставляет далеко от себя и церемонно кланяется. Зуев и генерал бешено аплодируют.) Жидкие аплодисменты. Постойте, граф. Одну минуту. Я надену мои туфли. (Надевает их.) Какое неловкое молчание. Наделали вы дела, граф. Всех сконфузили. Мы исчезаем. Мы тоже сконфузились. (Хватает графа за руку и бежит. Граф неловко следует за ней. Зуев и генерал хохочут.)
Генерал. Ах, котенок, ах, детенок!
Августа. Aber…
Гувернантка. Sie haben ganz Recht, gnadige Frau.
ЗАНАВЕС.
КАРТИНА ШЕСТАЯ.
Декорация четвертой картины. Только все краски ярче от послеполуденного солнца. Вбегает Юлия, ведя за собой графа.
Юлия. Вот. Насилу привела. Садитесь.
(Граф садится и молчит. Она присаживается рядом.)
Юлия. Так вот вы как! Утром изволите от меня отрекаться, а после завтрака при всех целуете. (Граф молчит.) Удивляетесь, что некоторые осмеливаются думать, будто бы ищете моей руки? (Граф молчит.) Итак?
Граф (бормочет). Я безмерно виноват…
Юлия. И только?
Граф. Безмерно виноват… Юлия, во мне два человека.
Юлия. Две души в груди? Как у Фауста?
Граф (серьезно). Именно… Только иначе. Хуже всего то, что обе вас любят.
Юлия. Не нахожу в том дурного. Так что насчет моей скромной особы у обеих панн душ нету спора?
Граф. Большой. Моя верхняя душа…
Юлия. Панна из мезонина?
Граф. Любит вас нежно. Она долго отвергала вас, за ваше пустое легкомыслие.
Юлия. Благодарю.
Граф. За ваше, почти непристойное, кокетство.
Юлия. Но, граф…
Граф. А кончила тем, что полюбила вас. О, как она полюбила вас! Как радостную бабочку мира, как огонечек над болотом жизни, как луч божьей радости в аду! Ваша красота и беззаботность заставляют ее умиленно плакать. Юлия, она трепещет за вас. Наш мир страшен. Под покровом прекрасного лица земли — пламенеют ее недра. Под покровом лица человеческого — притаился зверь. Все жестоко в нашем мире: тяжкое, твердое сталкивается и может ежеминутно разбить вас, которая хрупче и нежнее севрского фарфора. И моя душа хотела бы создать какой–то волшебный хрустальный колпак, укрыть вас, защитить вас от всего… уложить вас в шелковую вату. И унести, унести, сберечь. Ах, я целовал бы ваши ручки, ножки и плакал бы смотря в ваши очи, и говорил бы: красота, красота, красота!
Юлия. Мне было приятно познакомиться с панной из мезонина. А панна из подвала?
Граф (становится на колени и смотрит на нее умоляюще). О, не шутите!
Юлия. Я не шучу, Михась, я не хочу больше. (Кладет ему руку на голову.)
Граф. Моя высшая душа боится моей низшей души. Из–за вас боится. Моя низшая душа тоже вас любит. Но я никогда не скажу вам — как. Она любит вас… Животно, похотливо, страшно… Юлия, она любит вас… свирепо. Но так сильно, так стихийно, что готова разбить все препятствия, чтобы обладать вами.
Юлия. Но я в восхищении от этого знакомства. Теперь, когда вы все сказали, я вам тоже скажу кое–что. Я ваша. Любите меня и нежно, любите меня и страстно. Я ваша, Михась. Твоя…
(Граф закрывает глаза. Лицо его странно. На нем блаженство и страдание.)
Мои условия такие: помни, что я тот хрупкий мотылек, о котором ты говорил: давай же летать. Пусть я порхаю, нарядная и веселая. Любуйся мною и говори себе: она моя. И когда мы останемся одни, пусть твоя другая душа владеет мною со всею страстью.
(Граф стонет.)
Юлия. Пусть. Я этого не боюсь, Михась, я этого хочу. И я обещаю тебе, как бы и с кем бы я ни дурачилась — обладать мною будешь только ты. Ну, ты счастлив? Брось же все это фаустовское! Не надо морщин. (Проводит рукой по его лбу и касается губ.) Улыбку, дайте мне вашу улыбку. (Наклоняется и целует его.)
Граф (с тоской). Ты, Юлия, не знаешь, какой я.
Юлия. Ну мне про это достаточно пели! Ваша наследственная болезнь и все прочее. Все это преувеличивает гадина Брэдис, ваш злой дух. Я не боюсь призраков в Мединтильтасе. Вы одичали в этой берлоге, с вашей больной матушкой и зловещей вороной Брэдисом, вашим врагом. После нашей свадьбы, мы поскорее умчимся в Ниццу. Идет зима, и первое время мы будем жить в уединенной вилле, выше города, откуда видно необ’ятное море. А внутри нашего белого домика, утопающего в розах, будет колыхаться еще более необ’ятное море нашего счастья. И мы поживем так только вдвоем… Пьяные солнцем, морем, розами, страстью. (Граф смотрит на нее с обожанием.) И когда твоя страстная душа начнет насыщаться мною, моими ласками, моим восторгом, — Она совсем изменится, станет ручной и совсем не страшной. А другая душа будет петь, как скрипка, и уносить нас в синее небо. Так? А потом я покружусь в вальсе роскоши и веселья. В Ницце, в Париже и всюду вокруг будет шопот восхищения. И когда мы вернемся с бала при дворе, я, горящая от успеха, усажу тебя в кресло, дам тебе пуншу, трубку, обойму твои колена и скажу: вы довольны вашей женой, граф? А ты смеешься? Ты смеешься счастливым смехом. Брось ночные думы, брось опасения! Ты — сильный, благородный, красивый, богатый, знатный мужчина. Вот кто ты! Ударь ногой эту тварь, Брэдиса, который шипит, как змея. Мне верь, мне верь!
Граф. Юлия. Сколько счастья! Какой–то серебряный водопад упал вдруг на меня. Юлия, я смотрю в твои глаза и чувствую, что здоров, что обожаю… Что счастлив, как другие… Что все возможно… Что жить, жить, жить мне можно… А я уж хотел умереть.
Юлия. Ну, Михась, ну, Михась! Стол накрыт для тебя, а ты уходишь. Нет, милый, мы будем жить. Целуй меня!
Граф (подымается с колен и хочет обнять ее, в это мгновение возле фонтанчика, из–за золотых и пурпурных листьев появляется бронзовое лицо, с горящими глазами и в длинных седых космах).
Граф (отпрянув). Кто там?
Юлия (оглянувшись). Вижа. Как ты пробралась в сад?
Цыганка. Повидать веселую панночку (улыбается. Улыбка ее злая и хищная).
Граф. Откуда ты знаешь эту каргу?
Юлия. Мы хорошо знакомы с Вижей.
Граф. Убирайся!
Цыганка. Что ты, пан? Я, ведь, пан, знала хорошо твою мать–красавицу. Ах, какая была красавица! Была красива, как я, пан. Я тоже красива была. Обе были красавицы. А я ей все сказала. Хочешь и тебе скажу, и панночке скажу?
Граф. Не хочу.
Юлия. А Перкунс с тобой?
Цыганка. Со мной, со мной. (Вынимает из–за пазухи гадюку, которая шевелится в ее пальцах).
Юлия. Видите, Михаль, как приручают самое злое животное. Человек побеждает.
Цыганка. У–у–у! Какое слово. У, какое слово сказала! Молода, а умна. Зверя можно приручить. Можно приручить. И змею можно, всякого зверя можно, храбрая панночка. Славная панночка! Сама змейка. Золотая медяночка. Хотите друг дружку приручить? И жалко мне… жалко сказать…
Граф. Не смей каркать, ведьма!
Цыганка. А надо сказать… Перкунс, надо сказать? (Приближает змею к своему уху). Перкунс говорит: «Надо. Разойдитесь, разбегитесь. Пропадете!».
Юлия. Мудра ты, Вижа, а я вот еще мудрее. Ты в судьбу веришь, а я еще и в себя. Бывает так, что человек и судьбу свою меняет.
Цыганка. У–у–у, какое слово!.. Мудрое слово… Мудрая головка. О, ох, пан граф, какая головка! Русалочья порода. Бывает, красотка. Бывает, ненаглядка. Бывает, мое золото. Звезды скажут, железным кругом, крепкой сетью обовьют, а человек напружится, да и разорвет, круги, и всем добрым весело на земле и на небе. Это можно, храбрая, можно, веселая. Только не будет этого. Жалка сказать, а не будет.
Граф (в бешенстве). Я тебя знаю, дрянь! Тебя Брэдис купил, вот ты и врешь.
Цыганка. Ты богаче Брэдиса, пан: купи меня, пан граф. Ох, как смотришь! Застращать хочешь? Постращай, постращай меня, граф. Нет, пан, нас с Перкунсом не купишь, нас не застращаешь! А бывали страшные вещи в Мединтильтасе. Бывали страшные вещи. Только те, что будут–будут еще страшнее. (Исчезает.)
Граф. Ад ее послал!
Юлия (смотря в упор на графа). Граф Шемет! Испугались вы?
Граф (глядя в ее глаза). Нет… Или испугался было, но во взорах твоих сразу омылся.
Юлия. Михась, тут нас искать будут. Пойдем, милый. Дай опереться на твою руку. Пойдем в парк, далеко. Вдвоем. (Прижимается к нему.) И ничего не бойся.
(Медленно уходят. Ясно где–то звонит колокол к обедне. Петухи кричат. Входит Марися, за ней пастор.)
Мария. Нет их тут. Ну, что же? Сядем, пан пастор (садятся). Так вот какое дело. Понимаете ли, что эту свадьбу расстроить надо?
Пастор (потирая лоб). Я понимаю, но я, право…
Мария. Граф вам верит. Я бы сама с ним говорила, да она так мне все отравила: нельзя мне теперь с ним говорить. Никого не осталось, — только вы.
Пастор. Я ведь человек приезжий. Я человек посторонний. Бог в небе. Граф может очень рассердиться. Конечно, я могу ему напомнить, что он клялся графской честью…
Мария. Напомните. Ведь он вас в свидетели призывал.
Пастор. Да, так.
Мария. Пусть бежит… Уедет куда–нибудь. Пастор, мне за них несказанно страшно… Так страшно (вздрагивает). Если мы все не станем против, — будет какой–нибудь ужас. А я — люблю их, пан пастор. Я жизнь свою за них отдала бы. Скорее надо, скорее. (Встает, вытягивается и, приставив руку ко рту, кричит): Юлька! (прислушивается.) Юлька, откликнись! (Прислушивается и кричит со страхом): Юлька, откликнись же!
(*Издали слышно: Ау!*)
Мария. Откликнулась. Иди сюда, иди сюда, скорее!
(*Ближе: Иду!*)
Мария. Идут. Граф, конечно, с ней. Я ее уведу. И вы за него возьмитесь.
Пастор. Какое тяжелое положение! Бог в небе. Я же совершенно посторонний человек.
Мария (выпрямляется перед ним со сверкающими глазами). Долг.
Пастор (склоняя голову). Я понимаю.
Мария (всматривается). Идут вместе. Под–руку.
(Входят Юлия и граф.).
Юлия. Что тебе вздумалось звать меня, словно ты утопаешь?
Мария (решительно). Пойдем со мной!
Юлия. Ну, нет. Мы пойдем гулять с Михасем!.. А я вернулась только, чтобы сказать тебе, Марися, что Михась сделал мне предложение, и я его приняла (нежно прижимается к графу.) Пожелай нам счастья, Марися!..
ЗАНАВЕС.
КАРТИНА СЕДЬМАЯ.
Комната в антресолях помещичьего дома в Довгеллах. Полутемно. В глубине дверь. Справа маленькие окна, между ними постель и около нее довольно большой стол, на котором горят две свечи, стоят часы, и разложен письменный прибор пастора. Сам пастор сидит в кресле около стола. Слева в углу другая кровать, полузадвинутая ширмой. На ее спинке висит халат графа. Около стоят его туфли и раскрыта сумка с вещами. Неподалеку от этой постели еще один маленький стол и небольшая кушетка.
Пастор (взглядывая на часы перед собою). Уже около, двух часов. А общество все еще веселится там: никогда не воображал я, чтобы граф мог быть таким весельчаком… Многозначительный день. Разнообразные перипетии. Интересные, отчасти странные знакомства… (Задумывается.) Долг. Удивительная девушка. Обе девушки удивительные. Да, Мария права… Все же необходимо попытаться поговорить с ним… Хотя он может просто обругать меня. Ну… Почти все записано. Я пишу тщательно, потому что все эти обстоятельства довольно необыкновенные. (Встает, подходит к окну.) Кто мог думать, что такой славный день кончится дождем, что ночь после него будет такая мрачная? (Прислушивается.) Кажется, наконец, граф идет.
(Дверь в глубине отворяется, входит граф с двумя стаканами и, бутылкой вина. Он очень весел и немного пьян.)
Граф. Еще захватил маленький запасик. Погода портится, Виттенбах. Слышите, как хлещет дождь. Ветер начинает кружиться. Сейчас хорошо в лесу.
Пастор. Хорошо?
Граф (смеясь). Конечно, смотря для кого. (Ставит стакан и бутылку на маленький стол. Смотрит на часы.) Ого, два часа ночи. Мы засиделись. В Довгеллах никогда не сидели так поздно… В сущности Зуев превеселый парень… Генерал тоже отличнейший человек. Общество только что разошлось. До чего хороша была Юлька! После вашего ухода, Виттенбах, и после ухода Мариси, которая невозможно дуется, Юлька еще пела нам французские песенки… С танцами. Зуев и генерал совсем ополоумели от восхищения. Марися ее стесняет иногда со своей серьезностью. И что–то она все дуется? Она терпеть не может меня. Она подпала под дурное влияние. (Подходит к Виттенбаху и ударяет его по плечу.) Виттенбах, сегодня первый раз за сорок лет я счастлив. Выпьемте, Виттенбах!
Пастор. О, я уже… много пил… Я боюсь не уснуть. Позвольте мне отказаться.
Граф (наливая себе вина.) Вы пишете? Что вы пишете?
Пастор. Мои заметки.
Граф. Потомству передаете эту историю? Если бы вы были тем умным человеком, каким я вас считаю, — вы озаглавили бы эту главу ваших воспоминаний так: как стал счастливым один проклятый граф. Виттенбах, она легкомысленна на вид, но какая глубина чувства, какая смелость в жизни. Как я люблю ее, Виттенбах! Ну, я мешаю вам писать (уходит к своему столу, садится). Сяду за стол, буду пить вино в совершенном молчании, и вы поймете, кем и чем полно мое молчание. Как начинает бушевать природа. Бушуй! Все–таки для меня есть счастье на свете!
(Граф пьет вино молча, пастор также молча пишет. Шум дождя.)
Граф (с улыбкой на лице барабанит пальцем по столу). Рум–пум–пум. Рум–пум–пум.
Пастор (оглядывается и пристально смотрит на графа).
Граф (все с той же счастливой улыбкой, не замечая взора пастора, напевает): Рум–пум–пум.
Пастор. Граф, вы очень похожи на одного странного человека, которого я встретил на постоялом дворе недалеко от замка.
Граф. Я? (С неудовольствием.) Чем он был странен?
Пастор. Своими речами, которые изобличали в нем известный уровень душевного развития и большое чудачество. Своими поступками, которые рисовали его несколько безумным. Он напугал подростка, неожиданно укусив его до крови в шею. Он был еще странен, граф (встает), своим сходством с вами. Сейчас, когда вы пили вино и напевали — мне показалось: если бы у него не было густой седой бороды, я сказал бы, что это… ваш родной брат.
Граф (тоже встает, смотрит на пастора недружелюбно и в то же время робко). Ну да: это был я (пауза), вам дано прослеживать мои шалости (длинная пауза. Оба садятся.) Кажется, незнакомец тогда уже об’яснил вам, почему любит гулять в дурную погоду?
Пастор. Об’яснил: но он плохо об’яснил мне… он…
Граф. Плохо об’яснил вам, почему укусил девочку? Вот вам… У меня есть позыв к этому. Род нездорового инстинкта. Ведь Брэдис достаточно говорил вам о ненормальности нашего рода? (Принужденно смеется.) Да, это смешно. Мне иной раз хочется кусаться. Вот вы пили кровь из шеи живой лошади. Ну, мне иногда представляется, что это (опять смеется деланным смехом) очень вкусно. В конце концов это только странность: ну так… странность, как странность. Такие ли странности бывают?
Пастор. Странность… Да. (Волнуясь.) Панна Мария… вы заметили, как она была удручена весь день?
Граф. Да.
Пастор. Она… боится… будет ли счастлива ее сестра.
Граф (зло смеется). То–есть, не с’ем ли я Юльку? Да? не так ли?
Пастор. О, что вы! Как вы это сказали? Но у вас тяжелый характер… Кто знает! Все эти ваши странности, не знаменуют ли они, действительно, некоторые особенности.
Граф. Мои странности несомненно знаменуют мои особенности. И представьте себе: мои особенности знаменуют мои странности. Перестаньте, пастор… Во–первых, это же не ваше дело.
Пастор. Вы совершенно правы, граф.
Граф. А, во–вторых, панна Юлька не робкого десятка. Мы вместе с ней об’явим войну странностям и особенностям. Войну за наше счастье, поняли? (Встает и взволнованно ходит по комнате.) Как? Я отдам мое счастье? Я, который через два–три дня смогу сжимать в об’ятиях мою, совсем мою беляночку, феечку, панночку… Я, который каким–то чудом ей полюбился… Я отдам это Брэдису! Да идите вы с ним к чорту, господин пастор! И с вашим ангелом Марисей в прибавку. К чорту, к чорту!
Пастор. Вы совершенно правы, граф.
Граф. Не будем ссориться (подает ему руку). Все идет к лучшему. Я буду спать. Голова моя отяжелела. И вам советую. (Отходит к своей постели и закрывается ширмой.) Спокойной ночи, Виттенбах!
Пастор. Спокойной ночи, граф! Я попишу не более десяти минут.
Граф. Свечи мне ничуть не мешают.
(Тишина. Слышен шум дождя. Где–то скрипит флюгер.)
Граф (полуодетый выходит из–за ширмы) Как бела, Виттенбах… Помните, я говорил вам, что она прозрачна. Видно, как кровь струится в ее горле… Правда ведь?
Пастор. Правда, граф.
Граф. Так вы воображаете, что я ее буду кусать? Ха–ха–ха! Конечно, это повкуснее лошадиной крови. Ха–ха–ха! Какие причудливые мысли возникают в вашей, пасторской, голове. (Нежно.) Нет, я никогда ни нравственно, ни физически не причиню Юльке ни малейшей боли. А ее белую шейку, ее белую грудь, грудь снегурки я согрею своими поцелуями. Снежную грудь, снежное горло. Простите, пастор, я никак не могу умолкнуть от счастья. Но в самом деле, что за блаженство целовать ее вот тут (показывает на свое горло); да за это одно можно пойти на какое–угодно несчастье. Спокойной ночи. (Уходит за ширму.)
Пастор (качает головой и опять пишет в молчании, через минуту он встает и подходит к ширме, заглядывает за нее).
Пастор. Уже спит. Как быстро заснул… Он порядочно пьян. Успел выпить и эту бутылку (ходит по комнате). Да… Его мать… Какую причудливую историю пополам с бредом она мне рассказала. Боже, боже, как страшно твое создание! (Садится на постель и снимает с себя сапоги.) А можно было создать такой простор и добродушный свет: но ты не пастор, вроде автора «Луизы». (Зевает.) В конце концов я устал (снимает сюртук и тушит одну свечу, а другую ставит на стул около своей кровати.) Свеча пусть горит. Мне жутко немного. (Прислушивается). Как он хрипит… И как будто стонет (с тревогой встает). Что с ним?
Голос графа (среди странного хрипа). Белое горло… Твое белое горло… Я поцелую… Я только поцелую… Там кровь… Бьется… Бьется… Горячая (взрыв рычания, шум, похожий на борьбу за ширмой).
Пастор. Силы небесные!.. Что там? (Подбегает, задевает за ширму, которая падает. Подущки графа изодраны… Висят лохмотья белой и внутренней красной наволок. Кровать и пол обсыпаны пухом. Граф сидит на постели, полупокрытый одеялом, всклокоченный и страшный.)
Граф. Что? (Пауза. Оба с ужасом смотрят друг на друга.) Что с вами, Виттенбах?
Пастор. Что с вами, граф? У вас был припадок.
Граф. Мне приснился страшный сон, Виттенбах.
Пастор (с возрастающим ужасом). Граф, граф, вам приснилось…
Граф. Да… Мне это приснилось… Но это… это только сон. Что вы так смотрите на меня, Виттенбах?! Виттенбах! Неужели вы думаете, что это может стать явью?!
Пастор. Заклинаю вас богом в небе, вашим достоинством, вашей любовью: откажитесь от этого брака! Вам надо лечиться. Смотрите — я весь дрожу. Какое–то чудовищное предчувствие…
Граф (кладя руку себе на лоб). Подождите, Виттенбах. Поставьте ширму. Дайте мне одуматься. Дайте мне одуматься (пастор ставит ширму, отходит к своему столу, горестно ломая руки. Граф в туфлях и халате выходит из–за ширмы).
Граф. Давайте поговорим.
(Садятся друг против друга за большим столом. Жалобно скрипит флюгер и ветер начинает выть в дымовой трубе.)
Граф. Виттенбах, я всегда боялся этого. Да… у меня бывают такие сны… О, Виттенбах, страшные и зверино–сладкие… О, Виттенбах, такие сладострастные, что ничто в живой действительности никогда не сравнится с адским сладострастием этих снов. Но неужели вы думаете, что это искушение может меня одолеть?
Пастор. Но, тогда… вы… искусали ребенка… наяву…
Граф (торопливо). Это была скорее шутка.
Пастор. Знаете ли вы сами свою силу и силу вашего безумия? Силу зверя? Граф, дело идет о счастье, о жизни…
Граф (с тоской). Виттенбах, вы хотите, чтобы я отказался от нее?
Пастор. Граф, это ваш долг. О, если бы панна Мария знала эту страшную тайну, о которой не догадывается даже Брэдис.
Граф. И, вы расскажете им? Да? Вы расскажете Юлии про сегодняшний кошмар, чтобы оттолкнуть ее от меня? Берегитесь, Виттенбах, вы знаете слишком много про меня.
Пастор. Я никогда не выдавал чужих тайн. Но то, что я знаю, более чем когда–либо, заставляет меня умолять вас отказаться от этого брака.
Граф. Нет, нет, нет! И если вы станете мне поперек дороги — я уничтожу вас.
Пастор. Вы клялись вашей графской честью, но это сравнительно пустое, теперь должна заговорить ваша человеческая совесть. Вы слишком больны, граф.
Граф. Так знайте же: когда я ехал сюда отказаться от нее — мое твердое решение было, — вернувшись в Мединтильтас, покончить с собой. И выбора иного нет. Говорите: должен я убить себя?
Пастор. Вы уедете. Вы переживете.
Граф. Никогда. Она, или смерть.
Пастор. Нельзя так.
Граф. Мне нельзя иначе.
Пастор. Вы должны попытаться вырваться из этого узла.
Граф. Вы — пастор, вы — верите в бога. Бог не велит отчаиваться. Бог запрещает самоубийство. Бог велит надеяться на него. Он может все привести к хорошему. Я целый день был так счастлив. Я чувствовал, как кошмар упал с сердца от ее нежного смеха, от ее любовных слов.
Пастор. Сказано: не искушай господа твоего. Нельзя с завязанными глазами подходить к краю бездны, держа женщину на руках и говорить: бог не допустит падения по благости своей. О, граф, бог допустил на свете много страшных преступлений и кровь леденящих несчастий. Что знаем мы о боге? Мы ничего о нем не знаем! Он не похож на нас, ни на лучших, ни на худших из нас. Вот это мы знаем о нем. Он не размышляет. У него нет добра и зла по мерке человеческой. Мы имеем о нем одно несомненное откровение: мир. Кроме мира, мы ничего о боге не знаем, а мир мы знаем едва–едва. Однако мы можем сказать, как он прекрасен и страшен.
Граф. О да!
Пастор. Если он даже только риза бога, то прекрасен и страшен и он сам… Все необ’ятно, все необ’яснимо. Мир — борьба. Человек побеждает зверя, зверь побеждает человека. Миры рождаются. Миры гибнут. Во всем единое. Пусть же человек руководится бледным светильником своего разумения и шопотом своей совести.
Граф (внимательно слушая). Это ваше исповедание веры?
Пастор. Но не о том теперь речь. Я согласен бросить всю мою работу, мои ученые изыскания и остаться при вас год, два. Граф — бежим отсюда. Бегите от нее, от себя. Оседлаем коней сейчас, сию минуту. Едем в Мединтильтас. Завтра утром дальше через Ковно на запад, в Америку, если хотите. Я буду с вами. Я буду оберегать вас от приступов убийственной тоски. Мы спасемся: мы спасем ее. Мы напишем. Мы об’ясним. Мария — святая девушка — благословит нас. Панна Юлия легко найдет себе счастье.
Граф. Пастор, вы истязуете меня!
Пастор. Торопитесь, граф. Долг должен победить. Мы тихо уедем. Мы об’ясним потом.
Граф. Хорошо… пусть. Пусть, хотя это означает смерть.
Пастор. Граф, со смертью будет легче бороться.
(Граф начинает торопливо одеваться, укладывает наспех свои вещи в сумку. Пастор тоже поспешно одевается.)
Граф. О, о, как мне тяжело, как мне тяжело! (Бросается на пол около сумки, положив на нее голову, глухо рыдает.)
Пастор. Граф, граф…
(Дверь отворяется, появляется Юлия со свечой в руке, она в белом пенюаре с распущенными волосами. В освещении свечи она несколько призрачна. Граф и пастор молча, пораженные внезапностью ее появления, смотрят на нее. Она высоко поднимает свечу и вглядывается в полутемную комнату.)
Юлия. Что тут? Искушение? (Входит и ставит свечу на стол.) Недаром я не могла спать. Меня пронзила мысль, что пастор будет спать с Михалем и что будет опять сделан натиск на его бедную душу (вызывающе смотрит на пастора).
Пастор (бормочет). Мы потревожили вас шумом…
Юлия (медленно отворачивается от него и осматривается). Вы собирались уехать? Вы хотели бежать? Граф Михаль, вы непростительно слабы!
Граф (со стоном). О, Юлька!
Юлия (пастору). А вы разыгрываете роль демона, стремящегося разрушить наше счастье, пастор? Брэдис, пастор, Мария — целый сонм сознательно и бессознательно злобных сил. (Нервно смеется.) Но Юлия бодрствует. Встаньте, граф, и дайте мне вашу руку. (Граф встает и протягивает ей руку.) Слушайте, граф Михаил Шемет, если вы думаете, что я не могу дать вам счастья — уезжайте. Если же вы боитесь за меня, боитесь, что вы не годитесь мне — то бросьте эти сомнения. Слушайте: что бы ни было потом с нами, я беру на себя, на себя целиком весь ответ. Граф, я ничего, ничего не боюсь!
Граф. Ты так любишь меня?
Юлия. Я хочу вон отсюда, из литовских пущ и болот. Я хочу на юг, к солнцу, к морю. Я хочу гремящих музыкой зал Парижа. Я жить хочу… хочу жить вместе с вами, Михась. Вы дадите мне все, что мне нужно: блеск, веселье, поклоненье на те немногие годы, что я проживу — 10 лет. 10 лет — столько–то дадут же мне прожить? Эти десять лет я хочу сверкать. О, как я буду сверкать в сверкающей обстановке! Но я даю вам за это всю мою нежность, всю мою ласку. Если вы не любите меня — уезжайте. Пусть никакое слово не связывает вас. Но только не уступайте меня темным страхам, интригам и слабым душам людей, которые непрошенно вмешались в нашу судьбу.
Граф. Я люблю тебя! Пусть бог или чорт готовят нам, что хотят — я не отступлю. Кто посмеет еще бередить мои раны — тот пусть бережется. Довольно! У меня найдется остаток твердой, властной шеметовской воли. Пусть кто–нибудь посмеет еще…
Юлия (обнимая). Тс… не надо гневаться, не надо шуметь. Все спят в доме. Господин пастор, ваша свеча почти догорела. Вы можете взять мою. Пройдя через большую комнату, вы найдете коридорчик, там направо вторая дверь ведет в более удобную для вас комнату, чем эта.
Пастор. О, я… (хватает свечу и хочет итти).
Юлия. Возьмите же ваши тетради. Кажется вы все записываете. У вас есть, что прибавить к характеристике нравов полудикой литовской шляхты.
Пастор. О, я… (неуклюже собирает свои вещи и уходит.)
Юлия (с легким смехом). Вы подожжете так свои мемуары. Осторожней.
Граф. Ушел наконец!
Юлия. Спокойно, Михась (берет свечу пастора и скользит к двери). Спокойной ночи, суженый!
Граф (падая на колени). Юлька!
Юлия. Демоны изгнаны. Извольте спать, нервное дитя.
Граф (страстно). Юлька!
(Она серебристо смеется и исчезает за дверью.)
3АНАВЕС.
КАРТИНА ВОСЬМАЯ.
Большая площадь парка перед Мединтильтасом. В глубине большая суровая бащня с воротами внизу. Они широко открыты. Несколько женщин кончают убирать их гирляндами из осенних цветов и ветвей. Оправа внутренний фасад замка с порталом и балконом над ним. Плотники прибивают к порталу нечто вроде деревянной раскрашенной арки. Против портала довольно высокий помост, ступеней в шесть, на нем под балдахином два красных бархатных кресла и два стула. Кругом деревья в осеннем уборе. Под вечер. Вначале освещение заходящего солнца. К концу темнеет. Брэдис в шинели и шапке смотрит на работу плотников, рядом с ним старенький мастер Каунас.
1-й плотник (Брэдису). А скажите, наш доктор, что же тут написано на доске?
Брэдис. Написано: добро пожаловать, новая хозяйка, в мои вековые стены!
1-й плотник. Не знаю, как стены, доктор Брэдис, а люди не очень–то охотно встречают новую хозяйку.
2-й плотник. Итак, доктор Брэдис, мы с вами, как говорится, с носом остались?
3-й плотник. У нас длинный нос, а у графа хорошенькая жена.
1-й плотник. Да уж теперь у него начнется прибыль.
3-й плотник. За свадьбой недалеко и до крестин.
2-й плотник (с горьким смехом). Да здравствуют Шеметы из рода в род и до скончания веков!
Брэдис. Этот человек дал мне свое графское слово отдать крестьянам землю.
3-й плотник. А что, доктор Брэдис, крапива не обещала вам принести малины?
1-й плотник. Чего не бывало, — того и не будет.
Доктор. А я говорю вам, Юргис, будет так, что мужики отберут у панов землю.
2-й плотник. Уж это скорее, чем, чтоб отдали сами.
Каупас. Работайте живее, видите, уж гости собираются.
(Поляна постепенно наполняется крестьянами обоего пола и всех возрастов.)
Брэдис (отходит с Каупасом и говорит ему). Сумрачные лица. Ведь нет ни одного ребенка старше семи лет среди крестьян, который не понимал бы, какое для него горе это свадебное веселье.
Каупас. Когда выкатят бочки, наши чудаки развеселятся. Пожалуй, будут петь и скакать, как на всех богатых свадьбах в былое время.
Брэдис. Нет. Теперь уж иное время… иное, чем бывалое.
Молодой крестьянин (другому такому же). Как приедут, так я закричу петухом.
Другой. А я — козлом. (Хохочут.)
Брэдис (двум проходящим мимо него девушкам). Будут девушки петь величанье?
1-я девушка. Нет, уж мы помолчим, пан доктор.
Брэдис. Разве я пан?
2-я девушка. Наш доктор. (Ласково смеется.)
Каупас. Тут приехали четыре офицера из Ковно. Почему–то не захотели ехать ни в Довгеллы, ни в церковь, а попросили комнату, заперлись там и чего–то творят. Хохот там. Как бы не перестарались.
Брэдис. Русские пакостить графу не будут. А что, Каупас, граф вполне себе представляет, как рады его свадьбе люди?
Каупас. Как будто. Пан Цекупский, — знаете, какой он большой любитель свадеб, — пристал к нему, чтобы все было по–старине. Но граф сначала очень уперся. Дело решила молодая. Она поддержала Цекупского.
Брэдис. Так что он представляет себе положение?
Каупас. Представляет… Злится. Ведь он взял с собой своих доезжачих. Свою зеленую гвардию. Не удивляюсь, если сегодня плетки прогуляются по мужичьим спинам.
Брэдис. Ну этого ему лучше не делать. А то ведь появятся ножи да топоры, вилы да косы.
Каупас:Не дай бог! Ведь за ними появится штыки да сабли.
Брэдис. Я и не хочу допустить дело до чего–нибудь вроде бунта. Хоть народ гудит, как растревоженный рой.
Каупас. Вы, Брэдис, человек умный: во–время сдержите, кого надо.
Брэдис. Надеюсь.
(В ворота входит группа цыган, оборванные мужчины, женщины и дети. Впереди старый цыган и цыганка Вижа).
Брэдис. Ба, и табор сюда явился! Да еще с дудкой, волынкой и тарелками. Настоящая вакханалия. Плясать будете?
Старый цыган. Мы вот с ней, с Вижей, сорок лет тому назад, на свадьбе у старого графа плясали. А теперь пусть попляшут сыны и внуки.
Брэдис. Так вы, побродяги, графской свадьбе рады?
Цыган. Что ж? Мы ведь не наследники.
Вижа. Мужики хотят совсем испортить графскую свадьбу. Бедная моя паненка, бедная, золотая Юлька!.. Надо ей хоть одну минуточку радости дать. Идет, как сквозь темное ущелье, в пропасть.
Брэдис. Покаркай, покаркай, колдунья! С твоим карканьем свадьба еще веселей будет Ха–ха–ха!!
1-й плотник (вытирая пот с лица). Кончено… Прибили.
2-й плотник (глядя на украшения). Уж расписали же эту самую вывеску. Белая, буквы золотые и черная кайма, словно на похороны.
Каупас. Это наш маляр Гиндрик… Я думаю, нарочно он это.
(За воротами крики: «Едут, едут!» В собравшейся на поляне толпе движение. За воротами слышен стук быстро под’ехавшей кавалькады. Говор. Всадники спешиваются.)
Каупас (быстро подходит к воротам и кричит оттуда Брэдису): Это пан Филидор Цекупский с егерями.
(Входит Цекупский, размахивая хлыстом. На нем — конфедератка и расшитая золотом венгерка. Бренчат шпоры. Он толст, но молодцеват. За ним следуют три егеря в зеленых ливреях.)
Цекупский (останавливаясь посреди сцены). Ей, ребята! Веселитесь!! Скоро будет сюда свадьба. Каупас, собачий сын, что ж ты бочки не выкатил? Меду и пива сейчас же сюда! Выкатывай, выкатывай, да мигом!! А вы что стоите все, словно тут хоронить кого–нибудь будут, а не венчать! Ну–у?
(Крестьяне переминаются с ноги на ногу. Среди девушек смех.)
Молодой крестьянин. Не мы ведь женимся. Пусть жених радуется, а нам что?
Цекупский (вытягивая шею, чтоб видеть, кто говорит). Ты. пошути, пошути! Попадешь у меня в шуты!!
(Слуги выкатывают бочки, выносят жбаны, ковши и кружки и располагаются разливать мед и пиво.)
Цекупский. Наливайте, слуги верные, гостям пана графа! Надо, чтобы народ разыгрался к приезду свадьбы. Готовы ли факелы? Как стемнеет, зажжем. Пир в Довгеллах для вельможных гостей был на–славу, теперь пусть попирует и крестьянский люд. Как жених и невеста уйдут в опочивальню, зажжем костры. Тогда вынесут вам жаркое и водку. Веселиться — не работать, а у меня за веселье — плата. Будете хорошо веселиться, дам мужчинам по рублю, по серебряному, а девкам — по шелковой ленте. А не будете веселиться, собачьи дети, управляющий накинет три дня барщины на каждого. Все теперь понятно? (Обращаясь к Каупасу): Вот какие косопузые черти! Не то что наши мазуры. Тем только позволь попеть да поплясать. Жмудь — медвежье отродье. Ей, слуги верные! Первую чарку табору! Табор! Поддержите мне веселую свадьбу!
(Цыгане, толпясь и смеясь, подходят к бочкам и пьют один за другим.)
Пожилой крестьянин. Чтож они пить будут, а мы стесняться.
Молодой крестьянин. Пить можно… Разве доктор сказал, что нельзя пить?
Цекупский. Плотникам, плотникам теперь вторая чарка. И всем кто трудился. И музыкантам. Да где же музыканты? Где же Лейба Конторович и его скрипка? Дайте пархачам пива, а то они как запиликают, так впору плакать, а не веселиться. Я уж их знаю. Только в пьяном виде и годятся куда–нибудь. Каупас, старая курица, где ж у тебя музыка, чорт обдери твоего батька в пекле.
Каупас. Оркестр ожидает в зале.
Цекупский. Оркестр? И в какой там зале? Безмозглая голова, сюда ведь надо! Пусть играют что–нибудь веселое. Эй, вы, слушайте все! Как приедут молодые — всем кричать ура. Да громко, сколько горла хватит. Потом девкам — петь величание. Граф и графиня сядут сюда в кресла. (Показывает хлыстом.) Я буду пить их здоровье. Ура кричите. Потом может кто спляшет, кто умеет. Будет кто–нибудь плясать перед красавицей молодой?
Старый цыган. Уж наши спляшут… На славу спляшут. С нами Стенко венгерец.
Цекупский. Вот это ладно! Потом музыка будет играть. Потом граф выпьет ваше здоровье, а вы кричите тут всем животом — ура. Факелы зажжем и проводим их в опочивальню. Поняли? (Каупасу.) Кажется ясно? А может и не поняло, хамово отродье?
Молодой крестьянин. А дальше что будет?
Цекупский. А дальше пир горой. Вам свинью и теленка зажарили. Водки дадим. Только веселитесь.
Молодой крестьянин. А молодые что будут делать? (В толпе смех женский и мужской.)
Цекупский. И молодые будут веселиться, шалая твоя башка! Все должны быть веселы сегодня ночью.
(Едут, едут.)
Цекупский. Ну, раздаться. Разойтись. Граф и графиня сойдут с коляски в аллее и последуют сюда пешком. Музыканты–то где?
Каупас. Уж вышли. Вон стоят около портала.
Цекупский. Ну, Лейба, играй свадебный марш.
(Скрипки пиликают что–то не совсем сообразное, гудит контрабас.)
Цекупский (горестно махая рукой). Эх, не успел привести полковую. А все граф, торопится, как на курьерских.
(В ворота вваливаются еще несколько крестьян и крестьянок. Входят егеря в зеленых ливреях и устраивают что–то вроде шпалер от ворот по мосту. Входят граф и графиня. Он в том же костюме, что в предыдущем действии, с белой астрой в петлице, в перчатках и кружевных манжетах, тщательно причесан. Она в белом подвенечном платье, венке из мирт и длинной фате, закрывающей ее лицо.
За ней панна Августа, Мария и подруги, все в белых платьях. Генерал Ростовцев в парадном мундире. Гости во фраках. Между ними Виттенбах. Шествие замыкают два егеря с ружьями через плечо.)
Цекупский (выступает навстречу, поднимает обе руки, в одной из них хлыст. Делает жест дирижера и кричит ура. Егеря и некоторые цыгане подхватывают. В общем выходит жидко и неохотно.)
Цекупский (Каунасу вполголоса): Скажите этому нехристю, чтобы его музикусы играли, а не тянули бы козу за хвост. Староста, вперед с хлебом–солью! (Два старых, одетых по праздничному, крестьянина выходят с деревянным блюдом, покрытым полотенцем, на котором хлеб и солонка. Кланяются молча графу и графине. Граф несколько сконфуженно и хмуро принимает подарок и передает егерю.)
Юлия (отбрасывает фату с лица, кланяется крестьянам и улыбается. В толпе ропот удовольствия и одобрения, по поводу ее красоты слышно: «Хороша невеста!». — «И улыбка какая ясная!». — «Славная паночка — не то, что наш леший!»)
Августа (Юлии). Зачем ты фату отбросила, это не принято?
Юлия (смеясь). Да ведь я красивее ее.
(Предшествуемые Цекупским, граф и графиня всходят на помост. Генерал и панна Августа садятся на стулья, а молодые на средние кресла. Остальные вельможные гости стоят по сторонам, как свита.)
Цекупский (на ступеньках). В честь красавицы новобрачной ура! (Вновь довольно жидкое ура.) В честь графа ура! (Еще слабее.) Девушки, пойте величанье!
(Чей–то голос очень тонко запевает и замирает, так как хор не подхватывает.)
Цекупский (на ступеньках). Что ж, петь разучились? (К егерям). Ярош, Куделька, тащите сюда девушек, тащите их вперед. Что больно конфузливы стали!
Юлия. Бог с ними! Оставьте их. К чему все эти церемонии. Я и так счастлива, без величания. (Смеется.)
(Ропот в толпе: и так счастлива, говорит, рада, что вышла за богача. А хорошо смеется. А что говорить: хороша. — Да нам–то не нужна.)
Цекупский. Красавица новобрачная, ясновельможная графиня, дозвольте теперь старому Филидору выпить ваше здоровье. Только не из бокала и не из кружки. И не из ладони, и не прямо из бочки, как пивали в былых походах. Дозвольте, ясновельможная красавица моя, пить ваше здоровье из атласной туфельки, которою обута несравненная ваша ножка. (Смех в толпе.)
Юлия. Извольте, милый пан Филидор. (Снимает ногой туфлю.) О правой ноги вам?
Цекупский. Обе в равной мере божественны. (Становится на колени и подымает туфлю.) Видал ли кто такую маленькую туфельку? Разве что у шестилетнего ребенка. (Хохот, целует туфлю.) Гей же, гей же, виночерпии, не спите, тащите сюда шампанского. (Слуга с хлопаньем открывает шампанское бутылку за бутылкой и из первой наливает в туфлю, а потом вельможным гостям в бокалы, поднос с которыми разносит служанка.) Здоровье красавицы–невесты — ура! (Крестьянская толпа опять молчит, кричат егеря, цыгане и вельможные гости.)
Цекупский (почти ничего не разливая, выпивает шампанское из туфли. Еврейский оркестр, ударив по струнам, играет какой–то довольно тоскливый сумбур: скрипки, контрабасы, цимбалы.)
Цекупский. Ох, так вино во сто раз лучше. (Залихватским жестом вытирает усы и передает туфлю генералу.) Вижу ясно, что вашему превосходительству хочется отведать из той же чаши богов.
Генерал (хохочет). Что ж охотно… Только не так ловко. (Туфлю наполняют, генерал пьет, разливает на мундир и кашляет.)
(Цыгане выступают на середину круга.)
Вижа. Краля наша, панна Юлька. Наши тебе спляшут под свою дудку и волынку. Краса наша, на устах у тебя улыбка. А солнышко заходит, смотри как вершины кленов горят. Ночь идет, молодая графиня. Хотела бы старая Вижа на твоей свадьбе веселиться, да сердце ноет.
Юлия. А пусть не ноет твое старое сердце. Выпей и ты нашего шампанского, Вижа, за мое счастье. (Вижа подставляет ковш, в который наливают шампанского. Она пьет.)
Вижа. Выпила за твою ненаглядную красоту. Мои глаза уж до могилы такой красоты не увидят.
Юлия. Хотя бы солнце померкло, старая Вижа, хотя б земля разверзлась, а я скажу людям, земле и небу: хочу быть счастливой и буду!
(Юлия говорит это громко и с улыбкой. В толпе гул не то одобрения, не то недоумения.)
Вижа. Храбрая ты, молодая графиня! Хорошая ты птичка. Замолчите там, скрипицы. Начинайте, сыны, нашу музыку и пляску!
(Волынка и дуда начинают медленный напев. Четыре молодые цыганки в лохмотьях, но стройные, выступают вперед, а между ними становится Стенко в несколько причудливом наряде, напоминающем тирольский. Танец начинается медленно, с восточным оттенком и постепенно разгорается вместе с музыкой до бешеного пляса. Как змеи, вьются черные косы, машут, как крылья, темные лохмотья, звонят на шеях убогие мониста. Великолепно и уверенно танцует молодой черный цыган, все время улыбаясь и от времени до времени ударяя в бубен.)
Старый цыган. Вот это пляска!
Цекупский. Да это подлинно пляска! (Притопывает и бьет в ладоши в такт танцу, потом кричит громовым голосом). Ура! Ура! Да кричите же, или у вас бычьи пузыри вместо сердец под ребрами?
(Нестройно, но довольно громко кричат ура.)
Юлия. А как зовут молодого цыгана? Я его раньше не видала.
Молодой цыган. Стенко я. А не видали вы меня, вельможная пани, потому что долго пробыл в Румынии и Венгрии, у моих тамошних родичей, вот теперь пришел проведать бабку, да и попал на вашу, ясновельможная графиня, свадьбу; как для такой красавицы не поплясать! (Смотрит на нее во все глаза.)
Юлия (встает). А давай, спляшем с тобой краковяк. Умеешь?
Цыган. Умеем, ясная графиня. Спляшем не хуже кого другого.
(Юлия быстрым движением снимает с себя венок вместе с фатой.)
Августа. Только можно ли?
Цекупский. Не только можно, а вполне принято и очень, хорошо, и молодец наша графиня — только ножки целовать.
Юлия. Уж молчите, пан Филидор, испортили мою туфлю. (Горничная приносит другие туфли.)
Цекупский. Я… я… никто, как я. (Коленопреклоненно и картинно надевает Юлии туфли).
(Юлия грациозно сбегает с помоста. Дуда и волынка играют красивый краковяк. Начинается танец, полный грации и огня. В толпе восклицания: «Ух»! «Хорошо»! «Вот так танцуют»! «Картина»! «Славная парочка»! «Парочка–то какая! Ха–ха–ха»!)
Вижа. А что же вы думаете, — конечно, пара! Только пан–бог редко такие пары сводит.
(Граф с неудовольствием и напряжением следит за танцем.)
Граф (Цекупскому). А не пора ли кончить?
Цекупский. Разве вам, граф, не весело смотреть на чудный танец красавицы жены?
Граф. Слишком долго… Устанет.
Цекупский. Молодость устали не знает.
Генерал. Что за котенок! Ах, прелесть, ну не бесподобно ли?
(Танец кончился. В толпе громкие рукоплескания и крики одобрения. Она стала гораздо дружелюбнее, Стенко с глазами, горящими от восхищения, припадает к протянутой руке Юлии и долго не отрывается от нее.)
Вижа. Стенко, будет, мальчик! Пан граф сердится. (Граф подымается с кресла с недовольным видом. Юлия с такой же грацией, как танцовала, взбегает на помост.)
Юлия (беря графа за обе руки). Еще можно, милый?
Граф. Нет, дорогая, ты можешь простудиться. Солнце зашло.
Цекупский. И то правда. Тьма идет. Зажигайте факелы.
(С разных сторон в густеющих сумерках вспыхивают факелы. Вдруг в их танцующем красном освещении из дома выбегают четыре медведя, причудливо кланяются молодым и начинают кувыркаться и ломаться.)
Цекупский. Это еще что такое?
(В толпе волнение от неожиданности, смех.)
Граф (встает, гневно). Что тут происходит, кому вздумалось так шутить?
Молодой крестьянин (громко). Уж подлинно: медвежья свадьба.
Генерал. Вы раздражены? Я сожалею. Полагал, шутка капитана Зуева и полковой молодежи посмешит, понравится.
Граф. Нет. Мне не нравится, извиняюсь. Кончайте все ваши безвкусные церемонии, пан Цекупский. Довольно комедии. Прав я был, когда просил, чтобы ничего этого не было.
(Медведи все пляшут, кто–то громко кричит петухом. Другой отвечает ему козлом. Злорадный смех в толпе. Граф берет под–руку Юлию и собирается спускаться.)
Цекупский (умоляюще). А речи людям не скажете? Ведь всегда водилось на старых вельможных свадьбах на Литве? Хоть два слова.
Граф (резко). Нет!
Егерь. Дорогу графу и графине!
Старый крестьянин из толпы. Таки не выпьет граф здоровье своих поселян?
Голоса. Не хочет… Горд пан граф Шемет.
Брэдис (выступая вперед). Ясновельможный пан граф, вы уходите, не исполнив стародавнего обычая, не выпив за здоровье рыцарей труда, ваших подданных, но и ваших гостей сегодня. А мы хотим выполнить старый обычай и от нашей к вам речи не отказываемся…
(Все теснятся, чтобы слышать. Странно выделяется группа медведей.)
Брэдис. Слушайте, ясновельможный граф, наш пан и хозяин.
Граф. Не желаю слушать. Довольно. Пойдем, Юлия. Довольно, даже слишком.
Брэдис. Ведь я не буду говорить ни длинно, ни зло. Я только желаю — вопреки всему, да, вопреки всему — пожелать счастья бедной новой графине.
Мария (быстро спускается с помоста, становится перед Брэдисом и говорит ему вполголоса, но горячо). Довольно, будет же, пан Ян. Смотрите, как у него надулась жила. И не трогайте Юльку. Дурно то, что вы делаете.
Брэдис (не слушая ее и повышая голос). Много творилось в этих древних стенах дурного. Да не падут последствия тяжких грехов замка Мединтильтас на его новую молодую хозяйку.
Граф (спускается ниже). Убирайтесь, не то я голову вам разобью!
Брэдис. А, вам хочется закончить по–медвежьи медвежью свадьбу?
Граф (в бешенстве подходит к нему, но перед ним вырастает выпрямленная фигура Марии).
Мария. Стыдно, пан Брэдис! Успокойтесь, милый, милый Михаль. Вспомните сестру: она там одна и встревожена.
(Юлия быстро сходит, но зацепляется за что–то своим длинным шлейфом и падает. Граф с неожиданной ловкостью подскакивает и хватает ее во–время в об’ятья. Минуя Брэдиса, он нежно несет ее к порталу. В эту минуту за замком загораются костры и обдают все своим пожарным заревом. Вдруг на балконе появляется старая графиня. Она бешено вырывается из рук удерживающей ее женщины, вся растрепанная склоняется над перилами балкона и пронзительно кричит.)
Старая–графиня. Медведь уносит женщину! Стреляйте! На помощь!
(В толпе и шум и замешательство, вскрикивают женщины. Граф вносит Юлию в свой дом, за ним вбегают четыре медведя, а дальше теснятся гости.)
Старая графиня. На помощь, люди, медведь унес женщину! На помощь!
ЗАНАВЕС.
КАРТИНА ДЕВЯТАЯ.
Декорация второй картины. Ночь. Горят оба канделябра. Пастор пишет.
Пастор (поднимает голову). Вот… Вот я дошел до самой катастрофы. (Встает.) И не могу писать… руки дрожат, и глаза застилают слезы. О, бедная, бедная! Мы все шли к этой ранней могиле с открытыми глазами… Но рок был достаточно силен, чтобы обезоружить одних, ослепить других… Только вчера ее похоронили. Деревья осыпали последние свои листья на ее свежую могилу. Кто не плакал? Все, все плакали… О тайна бытия, ты допускаешь подобное. (Задумывается.) Бедная, она хотела всего десять лет жизни. А ей не дано было и часу того счастья, о котором она мечтала… Неслыханно, ужасающе. В брачную ночь быть растерзанной… Во сне, любимым и любящим. О, кровавый миф скорее, чем действительность. Все вновь и вновь, как прикованный, я думаю, как же это происходило? Во сне. После брачных ласк. Упоения. Он был, вероятно, в кошмаре, как тогда. А она, быть может, проснулась только, чтоб ужаснуться в муке и умереть… Когда нам пришлось рассказать: когда Брэдис оповестил толпу, еще пьяную, ночевавшую вокруг замка — я думал, что они по камешку растащат Мединтильтас, что они все испепелят. Какая ярость! В ней сказалась и давняя ненависть к помещикам и ужас перед невиданным преступлением… и жалость. Как плакали крестьяне, цыгане, когда мы хоронили бедную жертву. И что за зрелище, когда люди с ружьями, с собаками пошли на страшную охоту на человека. На вельможу… Боже! ведь я же знаю — на обладателя культивированного ума и благородного сердца. Что переживает он! Или переживал, пока был жив? Страшно подумать! Боже тайны, зачем дал ты нам тело и сознание, способные так страдать. (Задумывается.) Бедная Мария, все эти пять дней она не спит и не ест. Она молчит. Она бледна, как призрак. И эта светлая, невинная душа страдает невыносимо. Панна Августа дала себя уговорить жить в Вильно эту зиму. И переехать туда сейчас же. Я надеюсь устроить так, что мы уедем завтра. Я останусь, быть может, на месяцы, около Марии. Мне иногда удается ее тронуть, слабо утешить. Я полюбил ее, как сестру. Я полюбил это семнадцатилетнее дитя, как мою старшую сестру… Граф, несомненно, погиб в болотах, ибо и тело его до сих пор не разыскано. Мог ли он, опомнившись, не наложить на себя руки?
(Громкий удар в окно.)
Пастор (отшатываясь от окна, возле которого он стоял в ту минуту). Что это, боже, какое предчувствие! (Хватается за сердце и не решается отворить окно. Тогда новый сильный удар его распахивает. На подоконник с ветвей дуба вскакивает граф. Он в лохмотьях белья, босой, ужасный.)
Граф (прикладывая палец к губам). Тс! Не бойтесь. Не кричите, ради всего святого, Виттенбах. Вы удивляетесь, что я жив? (Соскакивает с подоконника в комнату.) Оставьте окно открытым. Вам холодно? Мне все время холодно. Я пришел к вам сказать мою последнюю волю. Я был у себя там на верху. Я взял в потайном ящике вот это. Сядьте, слушайте. Возьмите себя в руки. У вас стучат зубы. Угомоните свой страх. Видите, я взял в кабинете пистолет. Конечно, не для того, чтобы защищаться. И я взял эту бумагу. Это форменное завещание в пользу крестьян. Проект, но подписанный свидетелями. Мной он подписан только сейчас, но это ничего. Употребите все усилия, чтобы моя воля была признана. Меня почитают за умалишенного. Но завещание составлено и подписано почтенными свидетелями больше года назад. Они свидетельствуют о здравом уме и твердой памяти. Я сделал это на случай скоропостижной кончины, но все не подписывал и ни слова не говорил врагу… Брэдису, чтобы не дать ему искушения отравить меня. О, если б я действительно сломил себе шею на охоте, если бы он на деле отравил меня! Вам поручаю. Больше года назад. Свидетели честные. И прощайте… Я не протягиваю вам руки. Человеческая рука не должна меня касаться
Пастор. Граф, вы хотите покончить с собой?
Граф. Ну, конечно. Слушайте, вы записываете. Вам будет интересно, а может быть, и другим. Я мог легко убить себя и без пистолета. Но, видите, сначала я, спустившись из спальни, просто бежал, бежал. Я знал одно, надо бежать. Я падал и бежал. Я был человеком, и человеку нужнее всего было не вспомнить… Не вспомнить своего пробуждения от жгуче–страстного торжества зверя… (Закрывает глаза с ужасом.) Нет, нет, нет. Не вспомнить. Чтобы не встала картина, чтобы эти умирающие глаза… (Пауза.) И вот я бежал, бежал. Падал и бежал. Наконец, стал думать, упав в полном изнеможении. Конечно, я стал думать о смерти. Я лежал бессильный и думал о смерти. И тут стал заниматься день. Лес зашумел, запели птицы. Солнце пронзило чащу стволов. И кровь ударилась в глубине сердца. И представьте, представьте, Виттенбах, мне так захотелось жить. Это еще не зверь хотел, но и не человек, а просто животное. Оно вдруг замуровало часть памяти. И лихорадочно, в страхе перед замурованным оно занялось насущным моментом, самоспасением, защитой. Оно хотело жить в глубине Матицы. Со зверями. Пока удастся. И я начал жить. Нарочно–тупо. Искал кореньев, грибов, старался найти подходящие камни, чтобы зажечь огонь. Лазал по деревьям и брал птичьи яйца. А когда мысль шевелилась во мне — я хватал ее за горло и душил. Я все время не спал. Инстинкт предупреждал меня, что мой сон будет ужасен. Но в об’ятиях дуба я заснул, наконец: ну, конечно, Виттенбах, ну конечно… тогда мне приснилось это. Слушайте же, слушайте же, Виттенбах: оно приснилось мне не в зареве ужаса, а в том же неистовом, невыносимом сладострастии (закрывает лицо руками). Пусть уж это будет моя исповедь. Надо казнить. Я пил… я пил… я опять ощущал губами… пастью… ах: и я проснулся блаженным зверем и еще в тумане горячего и сладкого сна я заревел с дерева торжествующим ревом, так что мои братья откликнулись воем и рыком. И тут пробудился человек: вихрь страдания. И человек решил тут же: убить, убить зверя, убить беспощадно зверя. И человек заторопился войти во всю свою человечность, выполнить свои человеческие обязанности, доказать, что он существовал, подлинно человек, человечный человек… за этим я и пришел сюда.
Пастор. Граф, возьмите одежду, денег, уйдите подальше, там найдете лошадей. Уезжайте под чужим именем, чтобы искупить подвигами милосердия тяготеющее на вас проклятие.
Граф (с горькой улыбкой). Глупый человек, о глупый человек! Не для того ли, чтобы где–нибудь загрызть девушку? (Он не может сдержаться и выкрикивает эту фразу громко.) Пусть ваши уста не смеют больше двигаться, чтобы произносить такие слова! Вы видите в этом существе, одетом в лохмотья, не только меня, а и его… и он есть я. И не я. А знаете, чего он хочет? Все должно быть сказано перед смертью хоть одному человеку. Все, до последнего ужаса. Вы знаете, чего он хочет? Он хочет (со стыдом, прерывающимся голосом.) горло Марии… потому что она похожа… Он… он таков… Он муками ада заплатил бы, чтобы еще раз отведать того же вина.
Пастор (потрясенный). Мыслимо ли!..
Граф. Проклятие всему, небу, земле, богу и человеку: зверя нужно убить! А он хочет жить, Виттенбах! Если бы вы только знали, какая в нем могучая жизнь! Как он не по вашему, не по–человечьи любит трепет ветра в лесу и запахи, которые он вдыхает не человечьими ноздрями, как терпкую, жестокую и упоительную симфонию. И он торжествовал один раз свое зверобожье торжество. И он не хочет умереть, не повторив своего счастливого пира. Он хочет еще и еще. Не бойтесь. Я не безумец сейчас. Я говорю вам этот последний ужас, как человек другому перед смертью… Ах, как хорошо было бы не родиться. Но как я мог сорок лет терпеть себя самого? Вот это стыд, это стыд. Ни слова, Виттенбах! Тут не может быть никаких колебаний, тут нет никакого выхода. (Встает?) Виттенбах, а как я мог бы быть счастлив! Какое блаженство передо мной раскрывалось. Такое человеческое… человече… (Падает на стул и рыдает, упав головой на стол.)
(Дверь открывается. Совсем так, как в шестой картине Юлия — входит Мария, она так же призрачна, одета в такой же белый пеньюар, с распущенными волосами. Она тем же жестом высоко поднимает свечу и оглядывает комнату. Граф подымает голову и, задрожав всем телом в безумном ужасе, смотря на нее, падает на пол. Пастор потрясен и не может вымолвить ни слова.)
Мария (почти спокойная). Значит, я не ошиблась. Здесь граф Михаль. (Ставит свечу.)
Граф (облегченно). Это Мария.
Мария. Это я. Что здесь происходит? Зачем вы здесь? Вас затравят собаками.
Граф (подымаясь на колени). Я за тем, чтобы отдать завещание Виттенбаху, затем, чтобы взять пистолет.
(Пауза.)
Я убью зверя, Мария. Человек убьет зверя и умрет для этого (пауза).
Мария (тихо). Я думаю, что так надо.
Граф. Вы… не думаете… Что это Михаль… (с рыданьем.) Что это я… что это я сделал… Вы не думаете этого, Мария.
Мария (так же тихо). Нет, Михаль, я не думаю этого. Это сделала ваша болезнь. Но я не думаю, что сказанное вами — единственное от нее лекарство (граф встает).
Граф. Я сейчас уйду. Чтобы не нашли моего тела в чаще — войду по пояс в трясину и застрелюсь. Она поглотит мое тело навеки. Так я очищусь. Я плохо верю в душу. Но если она есть — трясина отдаст ее небу, а Локиса удержит в пучине. Так ведь?
(Мария серьезно кивает головой. Пастор попрежнему нем.)
Граф. А если так, Мария, то, как причастие, ко всему чистому перед смертью и после исповеди — потому что я во всем исповедовался пастору — дайте мне прикоснуться своими страшными губами — не к вашей руке. Вы вздрогнули… А к краю вашего платья.
Мария (подходит к нему). Нет, Михаль, не надо этого, но я поцелую Ваш лоб. Он уже чист (и целует его в лоб). Благословляю Вас. Благословляю человека, который хочет убить зверя.
(В это время за окном раздается сильный собачий лай и мужской голос. Окно освещается снизу факелами. Вдруг раздается громкий звук охотничьего рога.)
Пастор (поднимая обе руки). Как труба последнего суда.
Граф (вскакивая на окно). Облава, (бросается в комнату). Здесь отступления нет. Мария, уйдите, иначе придется осквернить ваш взор зрелищем кровавой смерти.
(В двери бурно врывается Брэдис в охотничьем наряде.)
Брэдис. А, ты здесь, изверг. Мария, убегайте… Чудовище растерзает вас (схватывает охотничий нож. Граф с растущей злобой смотрит на него, готовясь к обороне и нападению).
Пастор. Доктор, доктор, неужели вы хотите?…
Брэдис (задыхаясь от гнева и торжества). У меня тоже были предки. Они умели ходить с ножем на медведя.
Граф. А, ты хочешь получить меня живым или мертвым. Ты травишь собаками графа Шемета. Мечтаешь стать хозяином в замке затравленного тобой. Ты… Ты женишься на Марии. Ты хочешь победы. Я умру, но ты прежде меня.
(Стремительно бросается на Брэдиса, выбивает у него кинжал и в страшной короткой борьбе обрушивает его на пол. Боковая дверь содрогается и открывается. Старая графиня в шлафроке, всклокоченная, визжит на пороге.)
Старая графиня. Медведь!.. убивайте!
Брэдис (задушенным голосом). Зверь… Зверь… Он зубами.
Мария. Пастор, помогите же, помогите!
Пастор (бессильно топчется над борющимися, умоляюще). Друзья мои… люди, опомнитесь!
(Мария хватает со стола пистолет графа и стреляет. На мгновение все замолкает. Мертвая пауза. Она откидывается назад, опираясь на письменный стол, и в ее руки впиваются его края, она стоит с лицом, поднятым вверх и с закрытыми глазами до конца сцены.)
Брэдис (подымается, его куртка разорвана на груди, на рубашке кровь). Убит? (Оглядываясь.) Мария, о, вы спасли мне жизнь! (Наклоняется над графом.) Убит, зверь убит наповал! (В дверях появляются егеря и вооруженные крестьяне.)
Молодой крестьянин. Где зверь?
Брэдис. Убит! Паненка Мария Ивинская убила его, когда он уже держал зубами мое горло. Убит! Кончен. Победа!
Крестьяне. Убит! Убит! Ура!
Пастор (выступает вперед, протянув дрежащую руку). Стойте! Он убит. Да, в нем жил зверь… Но он был благороден. Вот завещание в пользу крестьян. Он пришел сюда подписать его. Да, он для этого вернулся сюда.
Брэдис (хватает завещание и жадно пробегает его глазами). Верно. Мы вырвали у него и завещание. (Крестьянам.) Братья, пусть не болтают вам о благородстве последнего Шемета, потомка облитых вашей кровью тиранов, дьявола, загрызшего свою красавицу–невесту в брачную ночь. Это лежит последний плод шеметовского сладострастья. Это мы, это я — ваш передовой — вырвал у него девятилетней работой вот этот клочок бумаги, через тысячу лет возвращающий вам то, что вам всегда должно было принадлежать. Зверь убит, земля ваша. Ура! Ура!
(Крестьяне кричат: ура! Старая графиня подкралась к мертвому телу и с торжествующей улыбкой смотрит на него.)
Старая графиня. Конечно, он похож на человека… Но подумать, что это мой сын!.. (Улыбается, поднимает голову и смотрит на всех.) Теперь княжна Адель станет снова молодой и прекрасной.
Брэдис (к крестьянам). Идите же, скажите там внизу обо всем, что случилось. (Некоторые уходят.) Мария! Спасительница! Мы победили. Добро победило, Мария. Гордись, гордись! Добро победило твоими и моими руками. Теперь мы будем счастливы.
Мария (все в той же позе). Я — никогда. (Брэдис отступает в тревоге.)
Старая графиня (протягивая руку к Марии). Смотрите, смотрите, как бледна эта девушка! Медведь уже успел выпить кровь ее сердца. (Снизу взрыв ликующих криков ура.)
(В комнату шумно входят рабочие и крестьяне.)
ЗАНАВЕС.