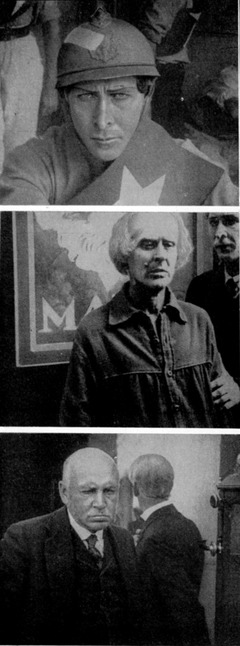КАРТИНА ПЕРВАЯ.
Кабинет канцлера, графа Карла Дернбах–фон–Турау. Очень строгая комната, деловая обстановка, над столом портрет императора. При поднятии занавеса комната некоторое время пуста. Потом входит курьер, отодвигает немного кресло от стола, передвигает на столе кое–какие Вещи и вытягивается. Канцлер входит чопорно и задумчиво. На нем длинный черный сюртук, кладет на стол цилиндр, медленно снимает перчатки и кладет их в шляпу. Делает едва заметный знак курьеру, который почтительно берет шляпу и уходит. Канцлер садится в кресло. Некоторое время сидит неподвижно, глядя прямо перед собой. Затем медленно берет какую–то бумагу, читает ее, подписывает. Курьер входит и останавливается в дверях. Канцлер вопросительно смотрит на него.
Курьер. Коммерции советник, граф Курт Гаммер.
(Канцлер наклоняет голову, курьер уходит. Канцлер погружается в бумагу.
Входит Гаммер, очень толстый и очень лысый человек в пенснэ.
Любезно кланяется и улыбается. Канцлер сух и величав. Жестом приглашает сесть.)
Гаммер (садясь). Графу, конечно, известно, что первые месяцы войны внесли большую разруху в хозяйственную жизнь, чем предполагали далее пессимисты.
(Канцлер медленно поворачивает к нему голову и смотрит на него.)
Гаммер. Затяжная война может разрушить все расчеты. Игра может оказаться нестоящей свеч.
Канцлер (едва заметно улыбаясь). Le vin est tire!
Гаммер. Faut le boire!.. Мира не вернуть нам никакой силой…
Канцлер. Мира, который выпустили из рук вы.
Гаммер. Не надо валить на нас. Кто же не знает, что западни были расставлены нашими соседями? Разве у Нордландии был выбор?
Канцлер. Господин советник, вы хорошо знаете, что был. Худой мир мы во всяком случае могли бы предпочесть доброй ссоре.
Гаммер. Граф, если мы не сделали этого выбора, то благодаря вашему высоко авторитетному влиянию.
Канцлер. Будто? Не заметь я, что в кругах магнатов торговли и промышленности настроение так же воинственно, как в генералитете, я никогда не высказался бы за конфликт с Европой.
Гаммер. Ну, так скажем: такова была воля его величества, принявшего в расчет все козни врага.
Канцлер. Скажем так. Что вам, собственно, угодно?
Гаммер. Лучшие головы промышленности, в виду огромных тягостей, выпавших на долю коммерции и индустрии, желали бы установить формально, хотя бы и секретно, соглашение о включении меня, как их доверенного лица, в наиболее интимный совет государства.
Канцлер. В государственный совет? В генеральный штаб? На доклад его величеству?
Гаммер. О, нет, нет. В ту тройку, пятерку, с которой вы совещаетесь, чтобы облегчить бремя всесокрушающей ответственности, легшей на ваши плечи, граф.
Канцлер. У меня нет такой тройки или пятерки.
Гаммер. Но не вы же один…
Канцлер. Кабинет… Совет министров… Государь… Парламент…
Гаммер. Постойте, господин граф. Это все декорация, которую, конечно, приходится сохранять даже во время всеоголяющей войны. Подлинные решения, которые там проводятся, принимаются в другом месте.
Канцлер. Конечно, решения, которые я предлагаю перед государственными учреждениями, раньше рассматриваются и взвешиваются.
Гаммер. Где?
Канцлер. В моем черепе.
Гаммер (улыбаясь). Нельзя ли между этим высоким местом и официальными органами вдвинуть еще одну интимную инстанцию?.
Канцлер. У меня нет политического секретаря… У меня нет политической любовницы… У меня нет друга…
Гаммер. Небольшой кружок людей государственного опыта и бесспорного веса…
Канцлер. Вы и генерал Беренберг? Этого мне не нужно.
Гаммер. Но государству?..
Канцлер. Дело идет о моем мнении. Я провожу свои мнения конституционно, а предварительно устанавливаю их персонально.
Гаммер. Прикажете понимать это, как отказ от предоставления капиталу реального влияния на ход войны?
Канцлер. 3¼. — Я должен приготовить множество дел к 4½ — час моего доклада его величеству.
Гаммер. Быть–может, вы все–таки переоцениваете ваш авторитет?
(Канцлер молчит.)
Гаммер. Капитал не может позволить игнорировать себя.
Канцлер. Ах, вы же знаете, что мы ведем вашу политику. Слишком вашу. Волею неба… Ибо сейчас национальные интересы, худо или хорошо, рисуются нам, государственным людям, совпадающими с интересами капитала. Вы же знаете, что фактически — мы ваши агенты. Хотя я вовсе не желаю служить кому–нибудь, кроме бога, государя и народа, но именно они повелевают моей совести вести политику максимального развития капитала. Чего же вам еще?
Гаммер. Мы сами хотим следить за тем, как делается наше дело.
Канцлер. Простите. Ведя политику торгово–промышленных интересов страны, государство бросает на карту кровь и кости граждан. За это может отвечать лишь бескорыстный человек, смеющий сказать перед богом и совестью, что для него нет на земле ничего дорогого, кроме общего интереса родины…
Гаммер. Но мы…
Канцлер. Вы — промышленники!.. и должны ими быть. Нордландия была бы слаба, если бы ее заводами и торговым флотом правили государственные люди. Но горе ей, если бы ею самой правил купец или фабрикант
Гаммер. Все это мистика…
Канцлер. Государственность. Вы не понимаете и не поймете ее, как глухой — музыку. (Встает и сухо кланяется.) Я извиняюсь…
Гаммер. Вы рискуете вызвать…
Канцлер. Нисколько. Промышленники имеют прессу, связи, гражданские права… Пусть проявляют максимум жизни и настойчивости. Ваше требование стать элементом моего разума и моей совести — химера. Это недостойно такого реалиста, как вы. И не ссорьтесь со мной. Мы на краю пропасти, сидите тихо, — или вместо богатой добычи вас ждет падение в бездну.
Гаммер. Имею честь кланяться, господин граф!
(Канцлер чопорно кланяется. Гаммер уходит. Канцлер встает, подходит к окну. Прямой и неподвижный рисуется некоторое время на его фоне.
Входит курьер.)
Курьер. Господин граф, я бы не осмелился, но это молодой граф фон–Турау…
Канцлер (быстро оборачивается). Лео? Просите.
(Курьер отворяет дверь, быстро входит Лео фон–Турау, блестящий кавалерийский офицер. В его лице и движениях есть какая–то гармония, превышающая ладность чисто военной выправки. Он очень красив.)
Лео. Здравствуй, друг отец!
Канцлер. Здравствуй, дружище сын! Что за появление в неурочный час?
Лео. Хочу удержать тебя от ошибки.
Канцлер (поморщившись). Ба, ты уже перерос мой ум.
Лео. Этого не будет со мной и во сто лет. Но и мой скромный ум уже умнее твоего романтического сердца.
Канцлер. Это еще что такое?
Лео. Петлиц сказал мне, что ты прямо потребовал, чтобы Роберт был принят в армию.
Канцлер. Да, само собой. У отцов отнимают детей ради войны. Надо начинать с меня.
Лео. Но Роберта надо освободить по всей справедливости. Я не говорю о справедливости высшей: жестоко нежного поэта гнать на кровавое дело; но по простой чиновничьей и военной справедливости он недостаточно здоров для военной службы. Ведь ему нельзя же служить в строю. Все равно он будет корпеть в каком–нибудь штабе.
Канцлер. Он поступит в пехотное юнкерское училище, а потом прапорщиком в строй.
Лео. Романтика начинает становиться свирепей… Не играй в Брута, отец.
Канцлер. Я никогда не играю, Лео.
Лео. То–есть ты и есть настоящий Брут. Так что ты хочешь, повидимому, крови Роберта в доказательство твоей праведности?
Канцлер (вздрагивает). Я надеюсь, что бог пронесет мимо меня такую горькую чашу. Но если бы можно было спасти эту кровь только ценою возбуждения сомнений в принципиальности государственных мероприятий, — я бы не мог ее спасти.
Лео. Это пуританская гордыня.
Канцлер. Канцлер обязан быть пуританином. Война, Лео. Бог должен послать народу в такое время настоящего канцлера. Или ты хочешь, чтобы я оказался какой–то ошибкой божией? Война, Лео. У тебя есть рыцарское легкомыслие. Ты умеешь воспринимать войну, как технику, как упоенный боем муж. Благо тебе. А я вижу войну во всем величавом безобразии. Надо быть достойным ее, иначе это хуже самой подлой подлости и самого зверского преступления.
Лео. Я тебе обещаю пасть.
Канцлер. Что? Что?
Лео. Я обещаю тебе пасть, отец. Или для сохранения всей чистоты твоей репутации не довольно могилы одного сына?
Канцлер. Лео! Лео! Ты — мой красивый, храбрый, честный витязь! Ты — любовь моя и восторг мой! Для таких, как ты, живут красавицы, гремит музыка, земля рождает вино… Быть–может, для таких, как ты, для тех, кто умеет наслаждаться даже наслаждением, купленным страданиями других, быть–может, для таких существует весь мир… Лео…
Лео. Ну, да, друг отец, твой бог — да он и мой — сказал тебе: Авраам, возьми Исаака и т. д… Но, отец, у Авраама был один Исаак, а у тебя их двое. Обоих ты любишь. Придется пожертвовать одним. Но для чего же, безо всякого зова божьего, а только из какого–то кокетства, самого колоссально–кантианского порядка, бросать на костер и другого? На костер войны я иду с маршем. Мне всегда рисовалось так: война — победа. Теперь чаще: война — смерть — победа. Я хочу жить, но — крепко. Если крепкая жизнь, требует смерти, а иначе будет расслаблена, — умрем. Я сумею жить, я сумею умереть. Роберт сумет только мечтать. У меня много женщин. Они прекрасно поплачут на могиле героя. И среди них милая мама. У Роберта только Лара и вся мама… Его смерть — их смерть! Всему есть мера, старый друг. Ты начинаешь чудить.
Канцлер. Это тяжелый разговор, Лео. И ты тяжело повернул его. Я должен итти к государю.
Лео. Воля. Ай, ай, друг отец. Со своим культом воли ты, пожалуй, доведешь себя и других до беды. Бранд с портфелем канцлера. Я это немножко предвидел. «Здесь стою я, иначе я не могу». Немецкая верность. Все это затвердело под влиянием военного пожара. Ах, как я тебя понимаю и как не одобряю. Мне кажется все это твое величие каким–то деревянным, даже просто, правду сказать, мещанским.
Канцлер. Я — граф милостию императора. Душа и тело у меня мещанские. Твоя мать — венгерская княгиня. Может–быть, у нас уже разная кровь.
Лео. Все это мелодрама. Будем драться — будем убивать, умирать, светло, прямо, а потому красиво, но без клерикализма, кантианства, фихтеанства, чорт побери!
Канцлер. Ты начинаешь забываться.
Лео. Я сегодня уезжаю на запад, туда, где готовится большая атака.
Канцлер. Иди туда с моим благословением и сознанием ненарушенного уважения к твоему отцу.
Лео. Не возмущайте меня. Моя совесть кричит против вас. Губите мать, Лару и Роберта, но не с таким видом, я чуть не сказал — Тартюфа, но вспомнил, что Тартюф не был дюпом своего ханжества. Лучше ханжа, лицемер, чем настоящий каменносердый святой.
Канцлер. Таким тоном я не позволю тебе говорить.
Лео. Как горька эта минута… Друг отец, друг отец!
Канцлер. Перед вами канцлер Нордландии, господин капитан.
Лео. Так… Ну, отбросим. Я ничего не говорил, дай поцеловать твою руку, отец.
(Канцлер быстро идет к нему и целует его голову, в то время как Лео целует его руку. У обоих слезы в глазах.)
(Входит седой чиновник, он очень взволнованы.)
Чиновник. Его величество.
Канцлер. Как! Его величество ко мне, сюда?
(Двери широко распахиваются, входит император, молодой, долговязый, с маловыразительным белокурым лицом, с ним толстый шикарный флигель–ад’ютант, гремящий саблей и шпорами.
Канцлер глубоко кланяется.
Военные отдают друг другу честь.)
Канцлер. Чему я обязан счастью?..
Император. Несчастью, граф. Сядем.
Лео. Ваше величество позволит мне удалиться? Сегодня я выезжаю на запад.
Император. Вернитесь с победой, Турау. Ступайте.
(Лео щелкает шпорами и уходит.)
Канцлер. Как я вижу, случилось нечто экстраординарное и притом неизвестное мне.
Император. У меня был Беренберг с экстренным докладом. Дела идут плохо. Беренберг выяснил, что у нас нет настоявшего правительства.
Канцлер (улыбаясь). Государь…
Император. Я говорю не о монархе, не о канцлере, а о правящем материально, непосредственно центре. Генеральный штаб — по себе, финансово–экономическое ведомство — отдельно, общая административная и иностранная политика — все это идет слишком сепаратно, все это только координируется вами. Между тем в такое время все это должно руководиться единым центром непосредственно.
Канцлер. Может–быть, вашему величеству угодно предложить мне подать в отставку?
Император. Полноте. Я вас понимаю… все это об’единяем мы, — я и вы. Но этого недостаточно. Нам необходим центральный комитет всех крупных сил, составляющих господствующие группы государства. У Беренберга прекрасный план. Тайный военно–политический совет: председатель — я, члены — вы, он и этот гениальный капитан индустрии, коммерции советник Гаммер. Что вы скажете?
Канцлер. Боюсь лишних споров…
Император. Я очень в вас верю, в ваш политический талант, в ваше государственное чувство, но время трудное, надо застраховаться со всех сторон. Такая четверка вывезет Нордландию.
Канцлер. Позвольте быть откровенным.
Император (ад’ютанту). Барон, выйдите на минутку. (Ад’ютант щелкает шпорами и уходит.) Я вас слушаю.
Канцлер. Генерал от кавалерии Эбергард–фон–Беренберг понимает, что одно честолюбие не дает шансов стать главнокомандующим, когда у нас есть старый Лютофф. Да и рискованно. Фон–Шведе во главе штаба он тоже не в силах заменить. Военный министр Вульпиус слишком очевидно на своем месте. Честолюбец придумывает неответственное место для своего влияния. Но что будет он делать в Совете? 12 планов блестящих интриг в одну неделю? На каждом заседании по устному фейерверку, который сделал бы честь парижскому Фигаро? Да, Фигаро… Ведь в сущности Эбергард–фон–Беренберг — нордландский Фигаро в эполетах. Не увлекайтесь болтунами, ваше величество. Не очаровывайтесь фразами. Когда–то кто–то носил прозвище Бомбы, а Беренберг — генерал–ракета. Эффектные люди гибельны в войне, как красивые мундиры в ярких красках и блестящих побрякушках. А Гаммер? Я отдаю честь ему, как купцу, но мне кажется кощунством поставить его на святое место у руля государства.
Император. Вы ревниво охраняете ваше канцлеродержавие, дорогой друг. Когда я шел сюда, я твердо решил не поддаваться вашим увещаниям. Тут двух голов не хватит.
Канцлер. Больше голов — больше неладов. Государь, я отвечаю за все перед вами, народом, историей и самим богом. Я чувствую в себе силы быть вашим ответственным помощником. Доверьтесь мне. Государи не отвечают перед народом. Государи не отвечают и перед провидением, ибо их личность слишком высока, она парит даже над историей. Вы — символ. Вы непогрешимы, ваше величество. Если моя политика потерпит крах, — погибну я телом, душой, совестью и именем, а вы будете только царственны. Царственность блестит одинаково в счастьи и в несчастьи. Рискуя всем, всем, я — старый строгий человек — не могу же совершить какое–либо легкомыслие. Нет часа в дне и ночи, когда я не совещался бы в сердце своем с богом. Поверьте, государь, Гаммер и Беренберг мне не нужны. Они не нужны вам, ваше величество.
Император (громко). Барон. (Канцлеру.) Будет по–вашему, канцлер. Но никогда ваша ответственность не казалась мне столь грозной.
Ад’ютант (входит). У канцлера препикантный визит, ваше величество. Проходя мимо через приемную, вы увидите пресловутого некоронованного короля рабочих Франка Фрея.
Император. Франк Фрей у вас? Вождь социал–демократов? Понимаю. Господа социалисты ведь образумились. Нордландская кожа зачесалась и у них на спине при мысли о славонском кнуте. Товарищи оказались патриотами, а Франк Фрей сидит в передней канцлера. Действительно, пикантно. Я видел его только на портретах. Постойте. Мы сделаем это еще пикантнее. Примите его передо мною. Это замечательно. Во–первых, как он будет себя держать? Во–вторых, какой шум в Европе. Это надо будет опубликовать. Я настаиваю, зовите Франка Фрея.
Канцлер. Государь, вы говорили мне о высоких государственных дарованиях Гаммера и Беренберга. Ваше величество, если я встречал в Нордландии политического гения, то это адвокат Франк Фрей — руководитель пролетариата.
Император. Продемонстрируйте его нам. Зажгите мою сигару, барон. Постойте, я хочу сесть на это кресло, оно удобнее. Барон, вы садитесь около меня на стул и, конечно, сохраняйте серьезность и молчание. Итак, мы начинаем.
Канцлер (звонит. Входит секретарь). Попросите г–на Франка Фрея.
Секретарь (отворяя дверь). Господин адвокат, вы удостаиваетесь исключительной чести быть допущенным к его величеству, императору Нордландии.
(Франк Фрей, крепкий человек лет 35-ти, слегка под Лассаля, входит, почтительно кланяется императору, подходит к канцлеру и жмет ему руку.)
Франк Фрей. Это очень счастливое обстоятельство.
Канцлер. Г–н адвокат, вы можете изложить все то, что собирались, перед самим императором.
Франк Фрей. Каким количеством времени я располагаю?
Канцлер (вопросительно смотрит на императора, который ничего не выражает, но довольно нагло смотрит на Фрея, нисколько, однако, не смущающегося). Время его величества весьма ценно.
Франк Фрей. Будем сжаты. В последнюю четверть века рабочее движение заняло первое место на арене социальных явлений. Нордландская социал–демократическая рабочая партия насчитывает ½ миллиона членов и 6 миллионов избирателей; считая женщин, не имеющих у нас избирательного права, количество наших сторонников доходит, думается, почти до 10 миллионов, — четвертая часть граждан. Подобной организации в стране больше нет. Я осмелюсь утверждать, что нет подобной на всем земном шаре. Тот самый дух дисциплины, который сделал первым в мире нордландский штат чиновников и неподражаемой нашу армию, который сказался на рабочем классе страны в деле производства, мощнее всего отразился на партии. Это — настоящая армия, верная своей идее, своему знамени и своим вождям… Идея этой армии — международный социализм, ее знамя — классовая борьба, ее вождь… в настоящий час ее признанным вождем является ваш скромный слуга, Франк Фрей. Наши алчные соседи вынудили нас начать грозную войну. Ее исход зависит от нордландской социал–демократии. Займи она сейчас враждебную позицию к правительству — и оно рухнет через несколько недель. Наоборот, если мы, вожди рабочих, приведем под ваши знамена весь этот огромный и организованный поток человеческой энергии, — никакая сила не устоит против об’единенной Нордландии.
Канцлер. И вы сделали то, что предписали вам благоразумие и патриотизм: в тяжелый час вы отодвинули идеи, которые я считаю химерами, а вы — идеалами, и заняли в рядах сограждан место, которое указывал вам долг.
Франк Фрей. Не думайте, что это легко было сделать. Да, в нордландских рабочих был еще жив патриотизм, непосредственный, нерассуждающий, иные оценили, какие результаты для рабочих будут иметь и победа и поражение. Но многие толковали иначе: правящие подрались, говорили они, угнетенные должны об’единиться и скинуть их в одну яму. Если позиция вождей подготовлялась десятилетием практического строительства, то революционный интернационализм вытекает из основных учений научного социализма и подтверждается всей митинговой и газетной фразеологией партии, наконец, поддерживается озлоблением некоторой части масс, действительно непомерно эксплоатируемых.
Император. Вы еврей, господин Фрей?
Франк Фрей. Религии я не имею, по национальности я нордландец, но мой отец и моя мать исповедывали иудаизм.
Император. Я заметил, что вы выставляете ценность вашей заслуги, и подумал, что вы, вероятно, запросите плату за нее.
Франк Фрей. Моисей и пророки, Маймонид и Спиноза, Маркс и Лассаль мало интересовались платой за свое служение. Разве быть единоплеменником Христа значит навлечь на себя подозрение в корыстолюбии?
Император. Задавая мой вопрос, я думал не о Христе, — скорей, об Иуде,
Франк Фрей. Ваше величество говорит совершенно так, как Эдуард Биссель, коммунист, который считает меня предателем революции. Нет, я не предал ее, я даже не перешел к вам, даже не сделал для этого ни одного шага. Франк Фрей остается революционером и социалистом. Но он ищет разумного пути. Социализм должен быть подготовлен экономически. Только цветущий капитализм может стать почвой, на которой вырастает этот высший цветок человечества. Поражение Нордландии есть поражение капитализма в его лучшей форме и в стране наивысшего расцвета рабочего движения. Это — поражение социализма. Я хочу бить врага с вами вместе и на этом перекрестке, а дальше мы раз’единимся. Мало того, когда мы поразим Европу, пролетариат ее восстанет против своих правителей и политически Европа сделает огромный шаг вперед. Мои расчеты верны, как часы. Моя мысль доминирует над веком. Все будет так, как я предвижу. Мне смешны слова о какой–то плате. Какую плату можете вы дать человеку, который сильнее всех в Европе потому, что яснее всех видит ее будущее, и потому, что ему повинуются миллионы лучших среди лучших не ради его рождения, не ради его назначения свыше, а в силу его гения? Ваше величество простит мне мою прямоту и не сочтет ее за хвастовство. Вы хотели унизить еврейчика, адвокатика, а я показал вам, кто перед вами.
Император. Передо мною во всяком случае весьма самоуверенный человек. Но что же вы стоите, граф и доктор? Садитесь, пожалуйста.
(Оба кланяются, садятся.)
Канцлер. Продолжайте, господин Фрей.
Франк Фрей. Я сказал, что в рабочей среде есть мятежное начало, и оно крепнет, его необходимо парализовать. Аресты и т. п. только подливают масло в огонь. Несмотря на трудное время, надо что–нибудь сделать для рабочих…
Канцлер. Я того же мнения. Но государство так стеснено в средствах…
Франк Фрей. Кто этого не понимает! Но надо показать, что наступают новые времена, что заслуги рабочих признаны, что пролетариат действительно является элементом государственности.
Канцлер. И как именно предполагаете вы это сделать?
Франк Фрей. Назначьте меня министром труда. (Пауза.) Мне хочется думать, что вы поймете, как мало руководят мною честолюбие или властолюбие. Наоборот, я лично страшно рискую. Вы представляете себе все филиппики желчного Бисселя, все отравленные стрелы «Социалистической Правды». Но это нужно.
Канцлер. Я уже думал об этом. Пожалуй, рассмотрев это предложение с разных сторон, оно разумно.
Император. Но г–н адвокат заявил нам, что остается нашим заклятым врагом, что после победы начнет борьбу с нами. Что же мы будем пускать такого крупного козла в наш бедный правительственный огород?
Франк Фрей. После победы… Но, ваше величество, прежде всего надо победить. Вы сильны. Вы должны верить, что, победив, сумеете сломить меня, как щепку. Неужели вы уже не верите в это?
Канцлер. Правительство не боится никого, кроме бога.
Франк Фрей. Ну вот…
Император. Но у вас свой расчет.
Франк Фрей. Пока наши цели сходятся, и для победы я нужен. Только слепой не увидит этого, а потом…
Император. Потом либо вы низвергнете нас, победителей, либо мы сломим вас? Тут что–то не выходит. Как? Неужели г–н Фрей не понимает, что победа даст привилегированным классам, и прежде всего короне, неслыханную силу? Вы явно проигрываете, г–н адвокат.
Франк Фрей. Тем лучше для вас, государь. Видите, как выгодно принять мое предложение! Все шансы на вашей стороне.
Император. Но мне хочется знать ваши расчеты.
Франк Фрей. Я уже сказал. Громадный индустриальный расцвет Нордландии. Твердое требование рабочего класса иметь в этом расцвете свой пай, закрепление коалиционного правительства с постепенным преобладанием рабочего элемента, рост профессиональных союзов, медленный, но верный переход к нам промышленных заведений, превращение капиталистов в чиновников и управляющих от профессиональных союзов и т. д., и т. д. Я тоже уверен, мне кажется, что я уверен больше вас.
Император. Вы очень умны, г–н адвокат. А мне все–таки кажется, что вы не победите нас, да и ломать вас нам не придется. Мы вас купим.
Франк Фрей. Опять?
Император. Вы сами не заметите, как станете нашим душой и телом.
Франк Фрей. Вы меня мало знаете, ваше величество.
Император. Я молод, но я император. Это дает кое–какой опыт. Кроме того, я страстный игрок и спортсмен. Вы тоже игрок. Я стараюсь не вносить игорного начала в государственные мои обязанности. Ваша политика — вся азарт. Я знаю моих Папенгеймеров. Вы не проиграете. Но если социалистическая доктрина действительно ваша душа, то душу вы потеряете.
Франк Фрей. Как приятно видеть на троне такого обворожительно умного молодого человека. Вам не хватает только хорошей социологической и экономической подготовки. Тогда вы видели бы, что моя игра, как вы выражаетесь, император, есть только верная линия к неизбежному, при правильной тактике, торжеству социализма.
Император. Что же вы молчите, г–н канцлер?
Канцлер. Сочувствие рабочего класса нам необходимо. Нам необходимо также разбить басню о нашей реакционности. Предложение г–на Фрея должно быть принято.
Франк Фрей. И отлично.
Канцлер. Подробности мы обсудим завтра.
Франк Фрей. Я не отниму у вас больше ни минуты.
(Раскланивается и уходит.)
Император. Не рискованно?
Канцлер. Нет. Если рабочие пойдут за нами — мы освобождаемся от тяжелой болезни — революционного брожения. Если нет — мы лишаем их и приобретаем сами очень умного человека.
Император. Кто хитрей — мы или он?
Канцлер. Всеми нами владеет бог.
ЗАНАВЕС.
КАРТИНА ВТОРАЯ.
Бедная комната в рабочем квартале. Справа кровать, полог которой откинут. На кровати лежит больной старик Макс Штарк. Сильно кашляет. У стола с лампой, окруженного ветхой клеенчатой мебелью, вяжет старая Эмма Штарк. Юлиус Штарк, мальчик 14-ти лет, только что вернулся из школы и выкладывает книги из ранца. На стене висит Древо социализма в рамке и портреты Маркса, Энгельса и Лассаля. Маркс очень сильно раскашлялся; старуха медленно откладывает работу, встает, подходит к нему, поправляет подушку. Медленно наклоняется, целует его в лоб и возвращается на свое место.
Макс. Юлиус!
Юлиус. Папа!
Макс. Что нового на белом свете?
Юлиус. Ничего, кроме того, что мы читали в газете.
Макс. Ученики?
Юлиус. Мы все теперь патриоты. Защита отечества. Мы молоды, нам не к лицу заниматься мудрствованиями.
Макс. Учителя?
Юлиус. Все уроки заменены призывами к обороне Нордландии и ее культуры.
Макс (кашляет). Олухи. Но чего ждать от щенков и педантов, когда изменили рабочие? Проклятое время, проклятое время! Дай–ка, старуха, мне сесть повыше: я хочу рассказать что–то Юлиусу.
Юлиус. Тебе вредно, папа.
Макс. Зато тебе полезно.
(Старуха подходит, усаживает старика на постели, целует его в лоб.)
Эмма (тихо). Лучше бы не говорил.
Макс. Надо исполнить долг. Юлиус почти гражданин уже:
Эмма. Говори, говори. Только проповеди твои не действуют как раз на твоих детей.
Макс. Поди сюда, сядь подле меня, Юлий.
Юлиус (подходит и садится). Ну?..
Макс. Скучно меня слушать?
Юлиус. Не весело.
Макс. А слушай. Ах, слушай, Юлиус, слушай меня. Неужели упадет факел? Неужели молодые руки не подхватят светоча? (Кашляет.) Слушай. Мне было лет 25… Хозяин отправил меня в Лондон присмотреться кое к чему на большом заводе Лесли и Компания. Там служил хороший техник, нордландец Бехер, собака капитала, но знаток своего–дела. Он должен был по соглашению с г. Кроником, моим хозяином, посвятить меня в детали и секреты производства. Завод был в предместьи Лондона. И как раз набралось человек 18 нордландцев. Все больше молодежь. Ты слушаешь?
Юлиус. Да, хотя ты это мне уже рассказывал.
Макс. Слушай, ах, слушай, Юльхен. Это надо рассказывать много раз, часто. Мы сидели в пивной «Gambrinus», ели рыбу плесс и запивали портером, как вдруг входит наш приятель, секретарь союза Томас Вигант, а с ним высокий видный мужчина в шинели. Густая седая борода, большие усы. А когда он снял шляпу — высокий белый лоб и чудные, молодые, молодые глаза. Незнакомец спросил: «Нордландские партийные товарищи?». А у меня уже колотилось сердце. (Кашляет.)
(Старуха подходит, наклоняется, старается помочь жестами, прикосновениями, целует лоб. Остается близко.)
Макс. А у меня сердце колотилось. Спрашиваю: «Кто вы?» — «Я Фридрих Энгельс». Я схватил обеими руками руку, писавшую Манифест, и жал ее и все хотел сказать, и не мог… и слезы… А все рабочие закричали: «Да здравствует наш альтмейстер Энгельс!» (Вытирает глаза.) Он подсел к нам и просидел с нами три часа. Он поучал нас ласково и мудро. Он пел с нами наши песни, революционные и народные. Я спросил его: «Вы не скучаете по Рейну, товарищ Энгельс?». Он ответил: «Наша родина всюду, где живут и борются пролетарии». Тогда Ганнеман, древообделочник, тоже задал вопрос: «А что будет с нами, если разразится война?». Он сверкнул глазами: «Мы будем единой армией труда против грызущихся буржуазных гадов». Так думал старый вождь. И это стало азбукой для сознательных рабочих. — Откуда у тебя, Юлиус, у моего славного Фрица вдруг взялся самый юнкерский шовинизм? О, тупая природа человека, о, пошлое, отвратительное рабское клеймо, как ты глубоко и сильно!
(Дверь распахивается. На пороге Фриц Штарк, веселый, страшно возбужденный, с красным платком вокруг шеи поверх блузы. Машет кепкой.)
Фриц. Юхге! Генза! Старые и малые, веселитесь! Все идет хорошо. Атака славонцев в Грейских горах богатырски отбита. И я тоже устроен.
Эмма (робко). Освобожден?
Фриц. Зачислен. Иду в бой, 4 месяца выучки, а потом стрелок его нордландского величества! К чорту его величество! Да здравствует Нордландская республика! Да здравствует социалистическая республика Нордландии! Да здравствуют Социалистические Соединенные Штаты Европы и их Красное знамя! Юль, хорошо жить, хорошо умереть! Капитал не выстоит. Он не справится с грозой, которую вызвал. Наступают грозные дни, отец.
Макс. И ты встретишь их под командой какого–нибудь барончика, проливая свою и чужую кровь ради барышей отечественных крокодилов.
Фриц. Я встречу их, как рабочий солдат. Я понесу в армию истинный социализм.
Макс. И протянешь братскую руку славонцу, галиконцу, альбионцу?
Фриц. Когда мы победим их.
Макс. Кто — мы?
Фриц. Нордландия, чреватая социализмом.
Макс (выпрямляясь на постели, глаза его сверкают). Да будет проклят адвокат Франк Фрей, да будет проклят еще и еще раз.
Фриц (бросаясь к нему). Не волнуйся… Ты ужасен. Лицо бледно и багрово, пот на щеках… Как кашляешь… Успокойся, дорогой учитель мой, дважды родитель мой… (Укладывает его.) Приляг. Успокойся. Верь мне: твои Фриц и Юлиус не опозорят социализма. Дай нам поступать согласно совести нашей и сознанию. Если я ошибусь, я признаю свою ошибку. Мама, закрой занавес на окнах. Опусти полог. Усни, отец. Выпей ложку. Хочешь, я сыграю тебе, я спою тебе?
Макс. Интернационал?
Фриц. Охотно бы, но я хочу успокоить тебя, усыпить тебя. Я спою тебе: «Колыбельную песню моему отцу». Хочешь?
Макс (кивая головой). Когда ты сочинил ее?
Фриц. Почем я знаю?
(Макс закрывает занавеску, задергивает полог постели. Фриц садится на стул в углу, Юлиус приносит ему гитару. Старуха вяжет у стола. Юлиус уставился в учебник. Фриц перебирает тихо струны и поет вполголоса.)
Ты устал работать, дорогой отец…
Опустились руки, утомлен кузнец.
Много силы выпил золотой кумир.
Скоро ль, скоро ль отдых, тишина и мир?
Спи, седой младенец матери земли,
Твои руки, твое сердце людям помогли.
Улыбнись, старик, и сладко, сладко засыпай.
Ты вспахал и ты засеял для потомков рай…
Юлиус. Фриц.
Фриц. Что тебе, братишка?
Юлиус. Мама плачет.
Фриц (подходя к ней). О, как много приходится плакать бедным мамочкам… Право, не надо. Мамочка, жизнь горька. Надобно всю ее переделать. И, кажется, наступает подходящая пора. Я еще жив. Не надо киснуть. Знаешь, мама, я торжественно дал себе слово быть всегда веселым, во что бы то ни стало. Долго ли, коротко ли, но я работаю для вечности, смертный солдат бессмертного войска, а потому отсвет бессмертной победы лежит на челе моем. Ха–ха–ха. Смейся и ты.
Юлиус. Я охотно пошел бы в армию.
Фриц. Бьюсь об заклад, что тебя так и прельщает мундир!
Юлиус. Дурак…
Фриц. Ах, гадина милитаризм. Туда же, кокетничает, хочет быть красивым и обаятельным.
Юлиус. Теперь каждый должен быть патриотом.
Фриц. Каждый, по–моему, должен желать победы Нордландии, как самой передовой по существу страны. Но, видишь ли, — это ради блага всего мира.
Юлиус. Я бы рад был сражаться рядом с тобой. И сказать только: всего на 4 года родись я раньше и был бы уже готовым солдатом! А так… мне жаль тебя… или себя, я уж не знаю. Будет страшно думать о тебе… читать газеты… получать письма… будет страшно.
(Входит Анна Клейнбауэр.)
Анна (отворяет двери). Можно?
Фриц и Юлиус. Можно, можно.
Анна (входя). Здравствуйте, фрау Эмма. Товарищ Макс Штарк спит? Я буду говорить тихо. Фриц, как же? Идешь?
Фриц. Конечно, иду… Уж не станешь ли и ты плакать, красная гвоздичка, фабричный цветок?
Анна. Я не стану плакать, потому что я довольно плакала уже да и еще придется. (Пауза.) У меня есть кое–что рассказать тебе.
Фриц. Сядем. Послушаем. (Садятся.)
Анна. Дело в том, что я, наконец, пошла–таки к Клерхен.
Фриц. Так. Это давно надо было сделать. Худо, когда пролетарка выходит замуж за буржуа, но этот Кеппен молод, хорош собой. Клерхен не продалась, а просто влюбилась.
Анна. Слушай. Прежде всего, у них обстановка самая шикарная, какую себе вообразить можно. Все эти гостиные, картины, ванны, ковры и пальмы, и фарфор. Сколько лишних пустяков и чего все это стоит нам!
Фриц. Так… Ну, а господин Кеппен?
Анна. Вот тут и начинается самое нелепое. Мы сидели на каких–то шелковых диванчиках и пили чай с бисквитами. Вдруг является элегантный и с какой–то пружинной походкой господин Кеппен. Входит, останавливается и хлопает глазами, как какой–нибудь деревенский пентюх. Клерхен смеется, кидается ему на шею, он ее целует и говорит: «Я думал, что нет на свете женщины красивее тебя, но твоя сестра — это что–то волшебное!». Целует мою руку, пользуясь минутой моего смущения. Клерхен говорит: «Так что ты жалеешь, что не познакомился раньше с Анной?.. ты сделал бы другой выбор?». Тогда я крикнула: «Я не давала права г–ну Кеппену выбирать!». Бедная Клерхен! Я уверена, что она была огорчена. Я сейчас же ушла. Кеппен сидел, как вареный. Ноги моей больше не будет в этом доме.
(Фриц и Юлиус смеются.)
Юлиус. Бедная Анна, тебе некуда деваться с твоей красотой.
Анна. Это мое проклятие. Ты знаешь, Фриц, что я говорю совершенно серьёзно. Работница, когда она красива, пренесчастнейшее существо. Чувствовать себя лакомым куском для всей мужской погани, не иметь возможности видеть в мужчине человека, а только волокиту и козла.. Фриц, Эмма, у меня были чудные волосы, уверяю вас, золотистая коса до колен! И я любила ее, но я ее отрезала. Я одеваюсь так скупо, что иной раз мне стыдно перед подругами. В конце концов, я выколю себе глаза, или, по крайней мере, вырву себе передние зубы.
(Фриц и Юлиус хохочут. Снаружи раздается песня:)
Пение.
Да здравствует союз рабочей молодежи,
Да здравствует пурпурная заря.
Мы на весеннюю грозу похожи,
На тело отрока–богатыря.
Хор.
Небесный бог — одна химера,
А жизнь без веры — канитель,
Социализм — вот наша вера.
Социализм — вот наша цель.
Фриц (бежит и раскрывает двери). Якоб, Венцель, Альбрехт! Дружищи, здорово.
(Молодая компания вваливается. шум молодых голосов.)
Якоб. Идешь?
Фриц. Иду, а ты?
Якоб. Иду, и Альбрехт идет. Мумм не идет, бедняга.
Мумм. Да, потому что, видишь ли, у меня чахотка.
Якоб. И все мы немножко пьяны и пошли звать тебя в «Красный Колпак».
Макс (раздвигает полог около своей кровати). А, орлята! Здорово!
Все. Здравия желаем, товарищ Штарк.
Макс. По–солдатски. Что же, патриоты?
Якоб. Социалисты! Но прежде всего надо жить и не подпасть под иго Альбиона!
Макс. Отравленный юноша, отравленный юноша.
Фриц. Отец, не спорь! Верь, у нас горячее сердце, мы добрые пролетарии. У нас нет ни капли нордландской гордыни, мы — люди! Сейчас нам кажется, что дело так называемой родины и дело нашего класса — едино.
Макс. Кажется! Но это не так! Ваше дело — борьба со своим правительством и мир с соседними тружениками!
Анна. Как прекрасно, как ясно все, что говорит старик! Вы идете, куда вас гонят! Я знаю, что жестоко говорить это вам в такой час, но это так…
Эмма. Анна, не огорчай их в такую минуту.
(Вбегает Зепперль.)
Зепперль. Товарищи, я из лазарета! Там лежит наш милый Лотар Шульц… без обеих ног и без одной руки. Он уже разговаривает после операции… он уже разговаривает. Знаете, что он говорит? — Проклятие войне, проклятие родинам всех цветов!.. и около него плачет его Эмма. (Пауза.)
Макс. Проклятие войне. Проклятие родинам всех цветов. Проклятие изменникам, лжеучителям Фреям. Пусть бы калечили вас, пусть бы убивали в святой революционной борьбе, а не так.
(Голос его прерывается рыданиями, он страшно кашляет и падает на подушки.
Мрачная пауза.
Снаружи разносятся «Адлермарш» и шум шагов проходящих отрядов. Марш затихает, а молчание все царит в комнате. Кашляет Макс Штарк и всхлипывает Эмма.)
Фриц. Да… Но я поклялся быть веселым. Товарищи, в «Красный Колпак». Что вы носы повесили? Главное, быть честным рабочим! Главное — не быть трусом и нытиком. Подойдем к делу ближе и разберемся. Дружно!
Да здравствует союз рабочей молодежи
(С пением молодежь уходит.)
ЗАНАВЕС.
КАРТИНА ТРЕТЬЯ.
В доме канцлера. Большая гостиная, рядом со столовой. Богатая, но довольно аляповатая мебель. Не очень светло горит одна электрическая лампа на одном из столов в углу. Дверь в столовую открыта. Там смех, шум, звон посуды, очень светло. Видны дамы в декольте и мужчины во фраках, смокингах и разнообразных военных мундирах. Лакеи прислуживают. В гостиной около стола с лампой сидит и курит Кеппен, против него молодящийся граф Леопольд фон–Гаторп и секретарь канцлера Петлиц.
Кеппен. Это очень просто.
Петлиц. Как же иначе?
Кеппен. В законе божьем сказано: шесть дней трудись, а седьмой — богу, и, правда, я делю свое время приблизительно в этой пропорции. Я работаю титанически, колоссально. Теперь я спрашиваю себя: как можно лучше организовать мое наслаждение, мою субботу?.. Искусство? Но это же чепуха. Все мы притворяемся, что будто оно нас интересует. Конечно, я за хорошую обстановку, но вот и все. Стол? — грубо. Вино? — вредно. Игра, спорт? — утомительно и похоже на работу. Итак — любовь! Как? — Разврат? — вреднее вина и приедается. Ухаживание за светскими красавицами? — Монотонно, пресно. Брак?.. — Да… Брак для наслажденья… Стало быть, жена, которая жила бы для меня, для моего наслажденья… Но тут уже на сцену выступает индивидуальный вкус. Мой вкус: чувственная, но скромная, полная возможностей, но неопытная, похожая на ангела девушка блондинка. Фауст был прав. Я нашел очаровательную Гретхен и женился.
Гаторп. Счастлив?
Кеппен. Очень долго был доволен. Теперь пришел к мысли, что брак хороший, абсолютно моногамный, должен длиться от 8 до 20 месяцев, но не дольше. (Пауза. Взрыв хохота доносится из столовой.) Я выбрал прелестную женщину из числа приказчиц моего магазина. Одну из красивейших, каких я встречал в жизни. Но вообразите мое удивление: я недавно познакомился с ее старшей сестрой, представьте, простой работницей с какой–то перчаточной фабрики. Она во сто раз красивей моей жены. Это нечто ослепительное.
Гаторп. Вот вкус. После приказчицы — работница! И ты собираешься жениться на ней? Переменить сестер?
Кеппен. Эта, кажется, довольно неукротимая лошадка, которую не так легко оседлать. Наверно, к тому же она уже имеет свое сокровище в образе какого–нибудь наборщика или аптекарского ученика.
Гаторп. Кеппен, ты все–таки из народа. Чтобы я унизился до таких браков! Органически не могу. Не из предрассудка, — органически… Я должен чувствовать голубую кровь… Манеры… Как она носит платье… как она говорит по–французски… малейшая вульгарность — очарование исчезло.
Кеппен. Ну, графиня Митси, твоя очаровательная супруга, хотя и аристократка, даже не с голубой, а индиговой кровью, держится как сверхкокотка!
Гаторп. Ах, у тебя нет чутья. Когда женщина умеет, понимаешь, умеет носить платье, парижские туалеты, то, она может позволить себе хоть перекинуть шлейф через плечо…
Петлиц. Или даже совсем снять с себя этот туалет!
(Смеются.)
Гаторп. Митси очаровательна. Ее дерзость принята всюду. Это — жанр, который, в единственном экземпляре, столь необходим большому свету столицы.
Петлиц. Граф Лео и графиня Лара. — Пойдемте в курительную.
(Граф Лео и графиня Лара входят из столовой. Он закрывает за собой двери, становится тихо. Три собеседника уходят в боковую дверь.)
Лео. Вовсе не хочу вас пугать. Но я знаю, что буду убит очень скоро. И это мне нравится. О, не подумайте, что я устал жить. Ничего подобного. Жизнь — браво! отлично! браво!.. Это красиво, любопытно, сильно.. Вот я (смотрит в зеркало) молодец. Настоящий нордландец… Все на своем месте, ха–ха–ха! от холодной синевы глаз до пуговиц мундира, от усов до темляка. Ха–ха–ха!.. И вот помчаться в один из близких дней в карьер, в атаку, крикнуть всей грудью: бог войны, в руки твои предаю дух мой! И вдруг — бац! Страшным ударом быть разбитым… Кануть в вечность… А красивый труп подберут. И будут править тризну… И в скольких женских сердцах останусь я жить молодым богом в таком сиянии, какого нельзя достигнуть при жизни ни в чьем сердце.
Лара. Конечно смерть… это ужасно интересно… Я никому не советую жить. Мне 19 лет, но я уже не могу ждать неизведанного. Все слишком прозаично. Хочется другой земли и другого неба. Я тоже была бы рада умереть. Я даже говорила Роберту: «Не думает ли он, что хорошо бы умереть вдвоем, вот как отправляются в Каир?».
Лео. А он?
Лара. Он меня сразил. Почем ты знаешь, что мы там будем вместе? Земля почти ад, но тут ты моя. И он так испуганно смотрел на меня. Роберт тоже не любит жизни. Никто не любит жизни. Но он любит меня.
Лео. Больше, чем вы его?
Лара. Нет… Он — самое лучшее на свете. Лучше его и его стихов ничего нет. Но когда вы написали мне сейчас, я почувствовала, что и вас я страшно люблю… (Читает записку.) «Через два часа еду, чтобы не вернуться. И ни разу не поцеловал страстно, как хотел бы, эти тонкие губы, эти темные очи». Через 2 часа? Что же… хотите вы поцеловать меня здесь? Сюда каждую минуту могут войти.
Лео. Слышите? Там тихо. Кто–то говорит речь. Ха–ха–ха! Дай мне поцеловать тебя, только поцеловать тебя, чтобы я сказал себе, что и тебя я целовал, и чтобы ты вспомнила мой поцелуй, когда я умру. А делать тебя неверной брату моему миннезингеру я не хочу, если бы и мог.
(Обнимает и целует Лару.)
Лара. О! какой поцелуй… Так целовал севильский обольститель.
Лео. Это вкус смерти делает мой поцелуй таким пряным.
Лара. Пряный, пряный поцелуй, как далекий остров.
Лео. Будто!? Хочешь еще? (Опять целует.)
(Дверь открывается и входит Роберт.)
Роберт. Лео, барон Рейх говорит о тебе… не совсем удобно, что тебя нет. (Всматривается в них и быстро зажигает электрическую люстру. Яркий свет.) Что тут? (Сейчас же гасит люстру.) Разве это нужно, Лео? Такое прощание? (Принужденно смеется.) У тебя стадо тучных телиц, но ты вожделеешь к овечке бедняка. (Круто поворачивается и уходит.)
Лара. Это неприятно.
Лео. Нет ничего неприятного на свете. Вы так думаете потому, что не умираете. Война — чума! Да здравствует пир во время войны! Мы — morituri. Не сметь отказывать нам! Да еще в такой малости. Да еще в такой малости…
Лара. Пойдемте туда.
Лео. Конечно.
Лара. Лео, Роберта не возьмут на войну?
Лео. Нет, Лара, нет… Я надеюсь, что не возьмут.
Лара. Разве есть хотя малейшая возможность?
(Лео ничего не отвечает и уходит в дверь, в столовую. Она хочет спросить его о чем–то, но не успевает и идет за ним.)
Гостиная остается минуту пустой. Потом сбоку входит канцлер, подходит к двери, и издали смотрит в нее. Делает еще шаг вперед, потом отходит в угол. Задумывается, взяв в руку бороду. Взглядывает на светящуюся дверь, откуда слышен смех и говор. Медленно уходит, откуда пришел.
Два лакея входят, зажигают люстру, расставляют чай, открывают рояль.
Входят графиня Митси, Гаторп, виртуоз Радефи и флигель–ад’ютант императора.)
Митси. После шампанского хочется чего–то особенно бравурного. В pendant к Лео. Вы знаете, графиня Турау — венгерка, как и вы.
Радефи. Она урожденная княгиня Ванольи. Знаменитый род.
Митси. Если бы Лео умел импровизировать — вы сыграли бы что–нибудь сверх’естественное, страстное, а он бы нашел слова бесстыдные и острые, как жало осы.
Радефи. Я люблю самозабвенную вакхическую музыку Листа, переложенного на Скрябина…
Митси. Но бедный Роберт… он, конечно, — гений, но он же кролик! ха–ха–ха!.. Боже мой, как мне хочется танцовать!.. Не наши надоевшие танцы, не танго даже, а безумие любви перед глазами смерти. Вот! чтобы сидела смерть с пустыми глазами, а мне «обнаженной» об’яснить бы ей без слов, что такое упоение страсти. Вы могли бы сыграть такое?
Радефи. Почему же нет? Я все могу.
Флигель–ад’ютант. Ха–ха!.. Фокусник персидского шаха, который оказался евреем из Волочиска, хотя действительно имел орден Льва и Заходящего Солнца, когда император спросил его, может ли он, как делают факиры, прекратить дыхание на 24 часа, сказал: я все могу.
Митси. И смог?
Флигель–ад’ютант. Нет.
Радефи. Уверяю вас, все, что выразимо на рояли. — мне покорно.
(Входят все гости.)
Лео. Чай? Бог с ним. Еще шампанского. Мы будем слушать с бокалами в руках.
Гаторп. Но надо же быть уверенным, что это действительно импровизация?
Петлиц. Да ведь мы делаем это так: Радефи играет и уже в ритм его музыки мелодекламирует граф Роберт.
Гаторп. И на заданную тему?
Лара. Вы хотите связать поэта и чужой музыкой, и чужой темой. Я не люблю, когда Роберт так импровизирует.
Митси. Это напоминает еврея из Волочиска, который получил орден Льва за фокусы.
Лео. Тс! Будьте веселы, но серьезны. Мы предоставим поэту известный выбор и известную свободу. Роберт, ты импровизируешь на тему: самое замечательное твое переживание сегодняшнего дня.
Роберт. Да… охотно…
Голоса. Браво!!
Радефи. Но мне надо же знать, что это такое? Веселое? грусть? страсть?
Роберт. Всякое… Это скажется под всякую музыку.
Голоса. Браво!!
Лео. Тс! Играйте, Радефи.
(Радефи играет. Роберт стоит возле него. Сдержанный говор, немного смеха.)
Митси. Музыка не банальна. Это с огоньком.
Гаторп. И все–таки это не шампанское, а токайское. Это сладко.
Петлиц. Но вместе с тем немного терпко. Это–то и хорошо.
Лео. Тс…
Роберт.
Сегодня, сегодня.
Пришло и пройдет…
Бокалы с тоскою…
Смерть — хитрая сводня,
С когтистой рукою
Хвостатый Эрот.
Бледна полумаска…
То снег или шелк?
Бледнее окраска
Испуганных щек.
Всё лампы рентгенны,
Все кости наружу,
А сердца все нет.
Я тленный, я пленный,
Тесней себя сужу
И буду я — только поэт.
Дайте мне другую тему, другой темп, Радефи. Ну, хоть так.
(Пауза.)
Ты, уходишь в смерть, я знаю,
Но туда идем мы тоже.
Все живет так близко к краю,
Всем нам бездна строит рожи.
Призрак ты. И я — виденье.
В царство теней видел нить.
Люстра вспыхнула. Мгновенье
Средь мгновений. Оборвалась…
Ариадны нить порвалась…
Надо жить…
Призрак ты. Да, юный воин,
Призрак. Сгинешь. Нет тебя.
Ты спокоен. Я спокоен.
Ты мертвец. Покойник я…
Довольно, Радефи, я не в духе сегодня.
Голоса. Браво!!
Митси. Это туманно, но остро и оригинально. Хотя мы уже пережили полосу этого символизма. Радефи, сыграйте какой–нибудь сверхдемонический вальс.
Гаторп. Роберт Дорнбах, несомненно, талантлив, но… скучноват.
Лео (тихо Ларе). Лара… Вы плачете? Это хорошо. Подите к нему с этими слезами в глазах. Они лучше ваших бриллиантовых серег.
Кеппен. Графиня Митси, бьюсь об заклад, тоже хочет с’импровизировать.
Флигель–ад’ютант. Своими ножками… своим восхитительным телом.
Гости. Просим, просим, графиня Гаторп… потанцуйте нам. Митси, Митси! Что–нибудь новое, что–нибудь острое. Она прелестно танцует. Колоссально.
Митси. Я согласна.
Радефи. Итак, дьявольский вальс.
Митси. Лео, Роберт, сядьте сюда. Я буду танцовать для вас.
(Радефи играет. Митси танцует страстный и несколько разнузданный танец.)
Голоса. Браво!!
Митси. А если браво, то, ради бога, пить.
Голоса.{
Шампанского для Митси!
Ее танец пьянее всякого шампанского.
Но в отличие от вина он только возбуждает жажду.
Шампанского! Шампанского!}
Лара (подходит к Петлицу). Петлиц! скажите, разве Роберт в безопасности?
(Петлиц пристально смотрит на нее)
Лара. Почему вы так смотрите? Петлиц, вы меня мучаете? Петлиц, Петлиц, вы смотрите так на меня, словно палач на жертву, которую он пытает.
Петлиц (с искренним наслаждением). Вопрос о зачислении графа Роберта фон–Турау по настоянию его батюшки решен. (Лара хватается за ближний стул.)
Лео (хватает в об’ятия Митси). Как она великолепна! (Целует ее.) Без всякого позволения вашего и Гаторпа. И вы должны приехать на позиции и танцовать там.
Митси. Под грохот орудий! Непременно приеду.
Лара (опирается на кресло Роберта и наклоняется над ним). Мне надо говорить с тобою, сейчас, сейчас!
Роберт (вставая). Мне не надо. Далее нельзя. (Отходит.) Кеппен, почему вы не приведете жену? Она, говорят, красавица у вас?
Кеппен. Она робка.
Гаторп. Кеппен ревнив, как султан!
Митси. Моя настоящая жизнь, — танец.
Лео. Будто? И никакой другой настоящей жизни?
Митси. Уверяю вас, я никогда не испытывала столько сладострастия в другие моменты, как в моменты удачного танца.
Лео. О, это заметно. Я бы сказал, что в вашем танце вы как–то изумительно приближаете к себе каждого, кто на вас смотрит.
Офицер. До вакхической интимности.
Другой офицер. До своеобразного обладания.
Лео. У вас есть один или два жеста, которые в этом Отношении — шедевр.
Митси. Я знаю. Вот это. (Принимает одну из своих поз. Все окружающие аплодируют.)
(Входит канцлер. Все раздвигаются. Он идет прямой, чопорный, черный.)
Канцлер. Господа… Сожалею. Понимаю потребность молодости повеселиться перед делом. Но в доме канцлера в этот час не должно быть музыки и огней. Господа, 7 армия, под напором превосходных сил, непрерывно сражаясь 38 часов, отступила, оставив на поле битвы 30 тысяч нордландских юношей. (Пауза.) Лео и Роберт, пройдите к вашей матери. Она очень нездорова. Извиняюсь, господа.
ЗАНАВЕС.
КАРТИНА ЧЕТВЕРТАЯ.
Через 6 месяцев. Ставка начальника кавалерийской дивизии графа Лео Дорнбаха фон–Турау. Обстановка военно–походного времени. Довольно близко к позициям. Лео сидит на стуле у стола и пишет. Два других офицера работают за другим столом. Вестовой у дверей.
Лео (бросая перо). Так… Фу, ты, боже, сколько на меня навалили канцелярщины. Прескучная война, Пфеффер. Какая–то математическая бойня, где коробки с консервами играют главную роль и где люди убивают друг друга, не видя врага. (Потягивается.) Тандер, сегодня я буду пить. Не очень много, но очень хорошее вино. В этом чортовом гнезде нет никаких развлечений и все мне надоело. К чорту! Скорей бы мир или смерть. Судьба начинает издеваться надо мною.
(Телефонный звонок. Молодой офицер подходим к телефону.)
Молодой офицер. Да… ставка 4-й конной дивизии… да… так… сейчас доложу. (Кладет трубку.) Ваше превосходительство, неприятельский летчик перелетел форпост и направляется сюда. Если его не задержит 142-я батарея, то он будет здесь через один час с небольшим.
Лео (слегка зевая). Чепуха, его не пропустят так далеко.
Старший офицер. А в прошлый четверг?
Лео. С тех пор приняты меры.
(Входит полковник фон–Окрейц из штаба.)
Окрейц. Ваше превосходительство!.. Полевой жандармерии удалось накрыть главного виновника братания с галиканами. Согласно распоряжению вашего превосходительства, ввиду несомненной необходимости применения высшей меры наказания, преступник доставлен сюда для личного допроса вашего превосходительства.
Лео. Ну, вот. Слава богу. На это уйдет полчаса. На войне ты вечно занят и вечно скучаешь. Если суб’ект мало–мальски интересный — мы поговорим, по крайней мере. Введите.
(Вводят Фрица Штарка под конвоем.)
Лео (они смотрят некоторое время друг на друга). Имя? Фриц. Фриц Штарк, унтер–офицер 66 стрелкового
Лео. Коммунист?
Фриц. Да.
Лео. Хочешь домой? Струхнул? Или ум за разум зашел?
Фриц. Прояснился.
Лео. Да. В ваших головах прояснилось с такой быстротой, что нам приходится тратить порядочно патронов для вашего успокоения, господин «товарищ».
(Пауза.)
Болван! Ведь у тебя интеллигентное лицо. Что тобою руководит, когда ты предаешь родину? Болван!
Фриц. Довольно. Вы унижаетесь до ругательств. Улики налицо. Расстреляйте. А слушать глупости не заставляйте,
Лео. Молчать!
Фриц. Кажется, вы граф Турау. У вас есть брат поэт. Ваш отец человек своеобразного высокого настроения, хотя и слепец. А вы, ведете себя как бурбон с умным и честным юношей, которого собираетесь хладнокровно и без борьбы убить.
Окрейц. Ваше превосх… Ввиду того, что суб’ект сознался, можно отвести его на гауптвахту до утра. А потом, после короткой процедуры…
Лео. Полковник Окрейц, я дам вам приказания, когда найду это нужным. Обыскали его?
Окрейц. Да, ваше превосходительство… Вот его записная книжка и пара писем к нему, повидимому, от любовницы.
Лео. Дайте сюда. (Перелистывает книжку.) Философ. «Даже самому счастливому не стоило бы жить в рамках личности». «Самое большое счастье все–таки мелко. Его достаточно разве на то, чтобы испытать удовольствие, бросая его в горнило, где создается будущее». — Это недурно… Вы студент?
Фриц. Слесарь.
Лео. Стихи… Окрейц, Тандер, Пфеффер, пожалуйте–ка сюда, послушайте–ка, какие он пишет стихи:
И я поверил вам. И на минуту
Под общим флагом выступил с мечом.
Какой позор! Нет, Цезарю и Бруту
Союза нет. Быть вашим палачом —
Моя мечта! О, палачи народов,
Уроды, деспоты своих рабов уродов!
Гм… Окрейц, какая пламенная риторика!
Фриц. Да… Это немного риторично, но ведь это писалось под шрапнелями. Нервы бывают натянуты.
Терпи, солдат, веди в тиши подкоп
И утешайся знанием их краха,
Рабочий мир положен в грязный гроб
Под панихиду боли, злобы, страха.
Но встанет он!.. А он ведь это — ты же.
Умри, но мести день придвинь, солдат, поближе!
Окрейц. Я все же думаю, ваше превосходительство, что пора кончить.
Лео. Да… И вы, конечно, декламируете такие вещи, и разбрасываете их всюду? Хорошая работа. Ба… Тут и лирика. Какая хорошенькая головка. Это рисовали вы? (Молодой офицер подходит и смотрит.) Посмотрите, Пфеффер, какая великолепная головка. У него талантливый карандаш. И тут подписаны стихи.
Вся эта жизнь мне как–то странна,
Живем в преддверии чудес.
Чего–то ждет под снегом лес
И в снах моих ждет чуда Анна.
М–м… Смотрите, как он выразил ожидание в глазах, в повороте этой головки. И, как он набросал эти сосны!.. Да… Так–то, молодой человек. (Встает и ходит по комнате.) Да… Вы не достойны носить оружие!.. Полковник, распорядитесь отправить его сейчас же в тыл. В нестроевую роту! Метлу ему вместо ружья!
Окрейц. Но, ваше превосходительство…
Лео. Довольно! (Звонок по телефону.) Уведите его. Отослать его в сопровождении бумаги… За недостойное поведение на фронте. Идите.
Молодой офицер (у телефона). Да… я доложу… Ваше превосходительство, неприятельский летчик пролетел над 142-й батареей. Надо распорядиться о тихой тревоге. Надо погасить огонь. Надо приготовить зенитные орудия.
Лео. Ну, конечно. Отправляйтесь, любезный, и берегитесь! (Уводят его.) Что за чепуха на самом деле: стану я нордландской пулей убивать такого юношу. Ведь это же прелесть!
Окрейц. Простите, ваше превосходительство. Но я протестую всем сердцем. Театр военных действий не место для сентиментальностей.
Лео (громко). Но и не для непослушания, господин полковник. При мне вы не имеете права иметь своего мнения.
(Входит вестовой.)
Вестовой. Прибыл верхом какой–то уланский корнет. Просит срочно передать, вам записку. Престранный юноша, если осмелюсь так выразиться, ваше превосходительство.
Лео (читает). Это еще что. «Я тот, кто танцовал танец смерти и наслаждения. Примите наедине. Не раскаетесь». — О, какая романтика. Вероятно, сумасшедший. Ну, оставьте меня с ним на минуту. Сегодня романтический вечер.
(Входит изящный корнет в шинели. Отдает честь и щелкает шпорами. Все уходят.)
Корнет (сбрасывая плащ). Не узнали?
Лео. Женщина. Да?.. Как!.. Митси. Браво, браво!
Корнет. В женском платье сюда не пускают.
Лео. Да так еще прелестней. Эй, егерь!
(Входит вестовой.)
Лео. Разве я не приказал подать сегодня шампанского? Разве не пора уже ужинать?
Егерь. Сию минуту, ваше превосходительство. (Уходит.)
Лео. Ну, Митси, поцелуемся. Ах, какой прелестный мальчик! Плутовка. Мордочка. Но тебе только в шинели удается скрыть, что ты женщина. И даже очень.
Митси. Но, с другой стороны, мне не стыдно показаться в рейтузах. Доктор Эмзе, который видал меня так, сказал, что у меня линия керамического шедевра!
(Денщики быстро накрывают на стол, ставят блюда и бутылки.)
Лео. Прошу вас, г–н корнет. (Они садятся.) Пошли вон! друзья мои. У нас секрет с молодым героем.
(Денщики уходят.)
Лео. Ну, чорт побери твой авантюризм! Ты знаешь, что сегодня здесь даже опасно? Приближается неприятельский летчик.
Митси. Сюда?
Лео. Да.
Митси. Зачем вы пугаете меня. (Кашляет.) Я даже поперхнулась вином. Вы солгали.
Лео. Солгал, солгал…
Митси. Не надо пугать меня. Петлиц сказал мне, что здесь совершенно безопасно.
Лео. Стреляют только твои глаза и… смертельно ранят. Супруг?
Митси. Кто о нем спрашивает? Не спросите ли вы и о моем поваре?
Лео. За их здоровье! (Пьет.)
Митси. Чье?
Лео. Графа Гаторпа и твоего повара! Все это ужасно весело. — Ты знаешь, — ведь дела у нас опять поправляются.
Митси. О, скорей бы мир! Как я закружу тебя!
Лео. Но я–то буду убит, я с тем и шел на войну.
Митси. Бомбой вот такого летчика?
Лео. Никогда. В этом–то я могу быть уверен. Я умру красиво. Героически. Как умирали герои Илиады. Это я знаю. Это единственная моя мистика: что я умру скоро и умру красиво. Я удивляюсь, что жив до сих пор. Это судьба хранила меня для той ночи, которую мы проведем вместе. Вот бокал, он у губ. Его–то судьба уж не сможет отнять.
(Отдаленный гул взрыва. Быстро входит молодой офицер.)
Молодой офицер. Неприятельский летчик над квартирой. Я должен доложить вам, ваше превосходительство, что, к сожалению, у нас не все благополучно, заметно некоторое смятение.
Лео (ставя бокал на стол). Чертовщина! Иду. Митси, 10 минут. Мы с Гарровиусом спустим этого летчика на землю в одну минуту. (Берет бинокль и выходит.)
Митси (одна). Я боюсь. Никого нет. (Гул взрыва совсем близко.) Ах! Господь мой! (Выстрел из пушки один, потом другой. Затем снова гул взрыва очень сильный.) Господи, Иисус, Мария… Господи… Только не меня, только не меня… только не меня!.. О, Господи! Ах! Как мне страшно. (Новый выстрел из пушки.) Помогите, помогите, страшно!
Окрейц (быстро входит в комнату). Большое несчастье, генерал фон–Турау убит.
(Входят еще несколько офицеров с довольно растерянным видом.)
Окрейц. Что же, пусть его несут сюда.
Молодой офицер. Господин полковник, что вы хотите, чтобы они несли? От него ничего не осталось.
(Митси вскрикивает и падает в обморок.)
Окрейц. Офицерик — баба!
Молодой офицер. Это — женщина молодая, полковник!
Окрейц. Бедный Турау… Он любил пожить…
Молодой офицер. Галицийский летчик, вероятно, тоже. Мы ловко спустили его. От аппарата и людей осталась только куча дребезгов.
Старший офицер. Жизнь за жизнь. Надо позаботиться о дамочке. (Брызжет водой в лицо Митси.)
Пришедший офицер. Какое лишение! Какая потеря! Вы видели лицо Турау? Какой ужас застыл на нем. А ведь он был храбрец.
Окрейц. Разве лицо сохранилось?
Пришедший офицер. Да. Солдаты нашли голову… Страшную голову. Словно он увидел в последний момент что–то более жуткое, чем бомба и смерть!
(Грохот барабанов. Труба играет сбор.)
Митси (приходя в себя). Где я? Где он? О, домой, домой!
(Офицеры переглядываются, пожимают плечами и уходят.)
(Митси остается одна. Барабан. Сигналы горнистов. Митси горько плачет, как ребенок.)
ЗАНАВЕС.
КАРТИНА ПЯТАЯ.
Кабинет канцлера. Большое распятие над столом. Пуританская строгость обстановки. Канцлер и Петлиц. Горят электрические лампы.
Канцлер. Да… Повидимому, надо во что бы то ни стало воспользоваться этим очевидным поворотом успеха в нашу полосу и вырвать у них мир. Надолго нас не хватит. Мы не сумели, не смогли опрокинуть их с первого натиска и уж тогда стало ясно, что они доймут нас голодом. О, этот голод, Петлиц. Кусок застревает в горле. Когда на обеде у Беренберга начали подавать блюдо за блюдом, — я делал героические усилия, чтобы не встать и не уйти.
Петлиц. Но император был так весел. (Пауза.) Главный враг — коммунист. Это червь, который гложет…
Канцлер. Петлиц, я ненавижу этих фанатиков. Я знаю, какой у них грязный хвост. Сколько шкурников и проходимцев привязали свои лодки к этому партийному пароходу. Но, Петлиц, когда вчера на обеде… О! Этот обед. Император мог бы пощадить меня, хотя бы вспомнив о моем горе…
Петлиц. Но посланники Атлантиды?
Канцлер. Да… на этом обеде… да… когда я видел эти лица сытые и пьяные!.. слышал эти шутки… шум… О, Боже! Они не думали, они забыли окопы, лазареты, могилы… Забыли матерей, плачущих над голодными малютками…
Петлиц. Граф очень сердоболен. Ах, канцлер, вы — христианин. Много ли таких?
Канцлер. Я сердоболен? Я шел на войну, зная, что придется брести в крови по губы. Именно потому, что верю. О, я произносил почти ту же фразу, что изувер, приказавший убивать правых и виноватых. Господь разбирает своих. Да. Согласно Бхагават Гите! Строится великое! Нельзя жалеть смертных тел, а душам ведет счет отец наш небесный.
Петлиц. Редкий, редкий дух. Сохранить в наше скептическое время рядом с университетами, обсерваториями, лабораториями такую детскую веру.
Канцлер. Петлиц, вы хитрый человек. Вы от дьявола. Вы любите мучить людей и издеваться над ними!
Петлиц (испуганно). Что с вами, граф! О, как вы меня напугали… сказать такую вещь про вашего Петлица? Проверного Петлица, вашего поклонника? Про честного Петлица? Разве виноват бедняга Петлиц, утлый сосуд, что он не сумел сохранить веры в своей слишком плоской душе? Не все глубоки, г–н граф, не все велики, О! как вы испугали меня.
Канцлер. Сохранить детскую веру?.. Да, я пронесу через скорбь и радость, величие и падение, если угодно будет богу низринуть меня, — веру угольщика.
Петлиц. Граф горд. Христианской гордостью, конечно. Если бы тайна тайн разверзлась и всем видно стало, что на дне мира никого и ничего нет, — вы бы и тогда упорно повторяли: вижу господа миров!
Канцлер. Может быть, Петлиц. Может быть… Но когда я шел так прямо на гибель сотен, тысяч, миллионов ради, казалось, так хорошо рассчитанной победы, я делал это торжественно и свято. А эти шуты!
Петлиц. Император умен и сердечен, но легкомыслен.
Канцлер. Государь… Государь император… Монарх… Хотелось бы произносить это слово с благоговением, как слова «боже, господи… Спаситель рода человеческого. Судья грядущего суда»… Самое страшное в мире то, что бог позволяет существовать царям и первосвященникам, пятнающим трон и алтарь.
Петлиц. Император все больше вовлекается в игру и любовные интрижки.
Канцлер. Что делать? Он — дитя.
Петлиц. Да… Конечно… Ведь его величеству всего 30 лет. Графиня Гаторп, знаменитая Митси, вернулась почти больной после трагической смерти молодого графа, и император принялся утешать ее.
Канцлер. Петлиц… Тут донесения тайной полиции. Вы отметите все интересное.
Петлиц. Они утешают друг друга, его величество и Митси. Время теперь тяжелое, а императрица больна.
Канцлер. Гм… Не забудьте отдать распоряжение об ускорении выдачи дополнительных пайков вдовам павших.
Петлиц. Говорят старик профессор Ласвиц, учитель императора, осмелился сказать ему, что пошли слухи о слишком шумных ночах в Герцен–фриде…
Канцлер. Оставьте, Петлиц…
Петлиц. Я хотел только рассказать, что государь ответил старику: «Это от горя. Я и графиня Гаторп ведем войну с нашей тоской!» После обеда у Беренберга, так называемые рыцари круглого стола с одной только дамой, графиней Гаторп, уехали в Герцен–фриде и там, говорят, шло что–то ужасное… Трудно поверить… Передают такие подробности…
Канцлер. Петлиц!
Петлиц. Виноват… Да, дополнительные пайки для вдов?.. Слушаюсь…
Канцлер. Никогда не говорите мне мерзостей!
Петлиц. Это донесения полиции… Да, я размечу… Граф, к вам идет графиня фон–Турау. Я удаляюсь.
(Собирает всякие бумаги в портфель и уходит. В ту же минуту входит графиня Турау в глубоком трауре. Садится около канцлера. За окном сильно воет ветер. Кажется, что кто–то большой и больной рыдает.)
Графиня. Карл…
Канцлер. Ну?.. Вы опять возбуждены, моя милая. У вас опять очень нездоровый вид.
Графиня. Карл… Я прошу вас выписать мне Шеделя.
Канцлер. Но это шарлатан.
Графиня. Выпишите мне Шеделя… Мне надо поговорить с Лео. Мне надо поговорить.
Канцлер. Надо верить богу и церкви, а не спиритам.
Графиня. Но он, говорит… Слышите, как плачут души? Слышите? Я видела его опять… Это второй раз. Он ужасно смущенный… Все словно припоминает что–то… Как они плачут, души… вы слышите? Я его спросила: «Лео, — сказала я ему, — Лео, ты теперь там, скажи мне, скажи маме, ведь Роберт будет жить? будет жить долго? до моей смерти?» А он… ничего… молчит… и вдруг сделал жест, что ему очень хочется курить… вот так… и жалко улыбнулся… (Вытирает глаза.) Вы слышите, как плачут души?
Канцлер. Вы больны… Утешьтесь, я просил Лютоффа отпустить Роберта в редакцию «Солдатской Чести» сюда, в Махтштадт… Успокойтесь… он скоро будет с вами. Успокойтесь и лечитесь.
Графиня. Да? Вы распорядились? Как это мило, как это мило. Наконец–то! Я знаю, что это было вам трудно… Карл, какие мы чужие! Я понимаю вас, но так издали, издали. И мы всегда были такими чужими. У нас есть дети, трое детей… Двое там, один здесь… А мы такие чужие… Карл, ветер воет? Сегодня вьюга… Надо сделать светло… Нет не надо… все равно. Может быть, Лео здесь, может быть, много света ему не нравится… кажется, он теперь не любит, когда много света. (Пауза.) Карл, вы сделали меня очень несчастной. Вы мне подменили жизнь. И вы (вытирает глаза)… отняли у меня Лео… Но, Карл, Карл, помните, — если вы отнимете у меня Роба, помните — этого я не прощу вам. Я стану тогда вашим проклятием. Нет, вы не смеете отнять Роба!.. (Отдаленные звуки рояля.) Слышите? Это Лара. Она играет последний акт Тристана… Слышите?.. У нее всегда одна мысль. О, как мы будем вас ненавидеть, если вы отнимете у нас Роба.
Канцлер. Он вернется… он будет через четыре дня и больше не уедет.
(Игра внезапно прерывается.)
Графиня. Почему она прервала игру? Так сразу? Она заплакала… Она, наверно, заплакала… Надо пойти утешить ее… Надо сказать ей, что он вернется через 4 дня… Через 4 дня. Вы так сказали.
(Канцлер кивает головой. Она уходит.)
Канцлер (один). Господи боже, ты видишь, я начинаю спасать, что могу, от крушения. Боже крепкий, поддержи. Караешь за зло неведомое… Помоги верить до конца.
(Молодой секретарь входит.)
Канцлер. Что такое?
Молодой секретарь. Срочная бумага от г–на министра труда.
Канцлер. Дайте сюда… (Просматривает.) Все для популярности… Но умно… Скажите, что я подпишу… Но завтра. Надо прочитать внимательно.
Молодой секретарь. Чиновник министра труда говорит, что это очень спешно.
Канцлер. Министр г–н Фрей не дает никому подумать. Я подпишу завтра.
(Читает бумагу.
Секретарь колеблется, потом уходит.
Входит Петлиц. Что–то странное в его походке. Лицо имеет острое и хищное выражение.)
Петлиц (стоит за канцлером и говорит после долгого молчания). Граф… Граф… Посмотрите на господа вашего сердца, на распятие и призовите мужество…
Канцлер (глухо вскрикивая). А! Что такое… что еще, Петлиц?
Петлиц. Крушение поездов. Воинский поезд № 84а столкнулся с товарным около Дильтау.
Канцлер. Да… Какое несчастье… Много жертв?
Петлиц. 8 убито, около 30 раненых, иные тяжело.
Канцлер. А, Петлиц, Петлиц, кто поймет вас? Вы меня так напугали своими тяжелыми введениями, что у меня до сих пор бьется сердце. (Вытирает лоб.) Виски в поту. Конечно, это большое несчастье: 8 убитых, 30 раненых… Но ведь, к несчастью, мы привыкли считать не такими цифрами наши горькие потери.
Петлиц. Да, но в поезде 84а ехал сюда граф Роберт.
Канцлер. Петлиц! Петлиц! Неужели… Что? Что? Говорите!
Петлиц. Да… граф.
Канцлер. Ранен? Тяжело?
Петлиц. Скончался.
(Канцлер опускается в кресло и смотрит перед собой.)
Петлиц. Иов… Иов…
(Входит Лара, за нею графиня.)
Лара. Папа, дайте мне поцеловать вас. Так это верно? Он вернется? Более, какое счастье! Вы очень расстроены, папа? Да? Опять дурные вести?
Графиня. Карл, у вас совсем измученный вид. Отдохните с нами сегодня вечером. Будем говорить о Роберте. Лара прочтет нам его стихи.
Канцлер. Да… Я смертельно… смертельно устал… Подите. Я приду…
(Входит молодой секретарь.)
Молодой секретарь. С вашего позволения, г–н министр труда звонит по телефону и очень просит немедленно подписать бумаги.
Канцлер. Что? Бумаги! После!
Молодой секретарь. Г–н министр труда говорит, что это мероприятие необходимо для прекращения стачки.
Канцлер. Уйдите! У меня большое несчастье!
(Секретарь вздрагивает и уходит.)
Лара. Какое у вас несчастье, папа?
Канцлер (встает во весь рост). Карл, Карл, терпи!
Графиня. Карл, да что с вами? Я никогда не видала вас таким. Вас так мучит, что вы вернули нам Роберта? Не может быть? Или опять делает вам неприятность легкомысленный монарх? Нет, сегодня, несмотря на все скорби, мы должны быть немного веселей, сегодня Роберт спасен.
Канцлер. Карл! терпи!
(Входит молодой секретарь.)
Молодой секретарь. С вашего позволения, ваше высокопревосходительство, г–н министр труда спрашивает, может ли он телеграфировать по линиям дорог и сообщить его величеству, что мера, необходимая для пресечения стачки, не может быть принята ввиду личного несчастья в семействе г–на канцлера?
Канцлер (поворачивается к нему и смотрит на него. Секретарь пугается). Протелефонируйте г–ну министру труда, что я сейчас подпишу бумаги и пришлю ему. Юлия, Лара, идите к себе. Я приду. Я приду скоро. Оставьте меня… Надо… Надо подписать бумаги для министра Фрея… Иначе он не так скоро сделает свою головокружительную карьеру… Надо… Надо облениться мне с ним. Идите.
Графиня. Как он странен, Лара! Лара. Он переутомлен.
Графиня. Пойдем. Слышите, как воют… У нас, в Венгрии, говорят, что это плачут души. И это верно… Но мы будем думать только о Робе, о том, что он вернется через четыре дня.
(Обнимает Лару и уходят все. Канцлер остается один. Некоторое время он сидит неподвижно. Потом быстро поворачивается к распятию.)
Канцлер. А если я не вынесу? Ведь этого нельзя вынести?.. Но за что?.. Вознаградишь. Чем? Ничем не сможешь… Сказать им? Бог, бог, есть вещи, которые превышают силы своих тварей… Силы даешь ограниченные, а горе посылаешь беспредельное… Бог!.. Или все не так… Я растерялся… Я как слепой… Дай мне опять стать твердым… Я как слепой… Сказать… сказать им. (Садится к столу.) Напишу. Что? Только: «Роберт скончался». Только… Я трус… Заснуть вдруг… Умереть… (Звонит. Входит молодой секретарь.) Эту записку вы отнесете графине, когда я уеду… Скажите, чтобы подали автомобиль… Я еду… Я еду за город.
Молодой секретарь. Г–н граф, очень дурная погода. (Пауза.) Г–н граф, позвольте выразить мое соболезнование, все в доме омрачены глубоко.
Канцлер. Уже знают? Может быть, и они знают? Скорей автомобиль… Я уезжаю… Скорей.
(Молодой секретарь уходит.)
Канцлер. Знают… (Прислушивается.) В доме тихо… И ветер воет… Еще радуются, или… или уже? (Хочет уйти и останавливается.) Бежать… Бежать тебя. Тебя, который служит причиной этого океана скорби над землей. Не смей! Иди, иди к ним. Пей, пей чашу! Идут. Идут. Залог.
(Входит Лара.)
Лара. Простите, папа… не случилось ли чего–нибудь очень плохого, чего нельзя говорить маме?
Канцлер. Да… Надо скрыть от нее… Ты должна следить, чтобы она не узнала. Ты должна беречь ее, Лара. Все знают, но она не должна знать.
Лара. Что?
Канцлер. Тихонько. Она не должна знать. Понимаешь? Напряги все силы, следи, чтобы она не узнала. Ты должна беречь ее, Лара. Все знают, что она не должна знать.
Лара. Что?
Канцлер. Дело в том, что Роберт погиб во время крушения поезда. Тс!.. чтобы она не узнала… Тс… Хочешь плакать? Запрем дверь… Запрем дверь, Лара… (Подходит и запирает дверь.) Хочешь плакать? Плачь, если можешь… Видишь ли, я не могу плакать.
(Лара плачет.)
Вот так. Потому что ты не виновата… Роберт не виноват. Юлия не виновата… Лео не виноват… Норландия не виновата.
(Стучат в дверь.)
Кто там? Если она — надо скрыть. Лара, скрыть. Кто там?
Молодой секретарь. Г–н министр труда напоминает о бумаге.
Канцлер. Я подпишу их.
ЗАНАВЕС.
КАРТИНА ШЕСТАЯ.
Через 3 месяца. В доме Кеппена. Весна. Окна открыты и за ними сирень. Много солнца. Изящно сервированный чайный стол. Еще рано. Клерхен в капоте с полураспущенными волосами, перехваченными лентой, хлопочет у стола. Фриц очень грязный и оборванный, улыбаясь, смотрит на нее.
Фриц. Я предпочитаю, чтобы вы спровадили меня до пробуждения «самого», милая Клерхен.
Клерхен. Но это же не важно… Я вовсе не настаиваю на том, чтобы вы остались до тех пор… но это не важно. Неужели же вы думаете, что мой муж способен вас предать?
Фриц. Этого я не думаю… но он способен рассердиться на вас за ваше гостеприимство, а на меня — за мое нахальство.
Клерхен. Нахальство? Наоборот, это так мило с вашей стороны, Фриц, что вы подумали обо мне…
Фриц. За мною следили. Я едва отделался от подозрительных теней. К вам я не привел никаких хвостов. Но итти к ним на квартиру, значит опять зацепить ищейку. Они, наверное, караулят там.
Клерхен (ставит перед ним чай, наливает сливки, кладет сахар, намазывает бутерброды). Ужасаюсь, когда подумаю о вашей жизни.
Фриц. Ничего! Я успел сделать очень много за эти 3 месяца. Революционный под’ем растет. Клерхен, мы уже накануне переворота. Впрочем, я не знаю, рады ли вы этому, ведь ваш муж капиталист.
Клерхен. Я попрежнему — социалистка.
Фриц. Ха–ха–ха. Ну, ладно, все урегулируется. Клерхен, все урегулируется. Восхитительный завтрак. Теперь я еще раз настоятельно повторяю обе мои просьбы: поторопить Анну и дать мне переодеться.
Клерхен. У Анны нет телефона, вы же знаете это. Я послала за ней нашего посыльного мальчика. А переодеться вы можете хоть сейчас.
Фриц. Великолепно. Куда я должен пойти для этого?
Клерхен (звонит. Входит горничная). Мари, милая, проведите этого господина в угловую комнату и принесите туда серую пару г–на Кеппена, — знаете, серую, которую г–н Кеппен носил прошлой весной?
Горничная. Слушаю… Знаю. (Она очень удивлена и слегка шокирована. Уходит с Фрицем.)
Клерхен (пьет чай и качает головой). Анна–то как будет счастлива. Ведь мы уже совсем думали, что он расстрелян. (Пауза.) Все–таки лучше, если бы Адольф подольше не просыпался.
(Входит слуга.)
Слуга. Графиня Лара фон–Турау.
Клерхен. Что вы? Так рано?
Слуга. Прикажете принять? Графиня, собственно, к г–ну Кеппену.
Клерхен. Г–н Кеппен еще спит. Если графине угодно, я, конечно, приму ее.
(Слуга уходит.)
Клерхен. Зачем она так рано? Ведь еще только 9 часов.
(Входит Лара в глубоком трауре.)
Лара. Я прошу извинить меня.
Клерхен. О, графиня, мы всегда к вашим услугам. Садитесь, пожалуйста… Не хотите ли чаю?
Лара. Нет… mersi… Мне надо было бы экстренно видеть г–на Кеппена. Только на несколько минут.
Клерхен. Адольф встает поздно… Но я сейчас распоряжусь, чтобы его разбудили. (Звонит.)
Лара. Я ужасно сконфужена… Но мне трудно выйти из дому в другое время. Я всегда занята с несчастной графиней.
Клерхен. Как ее здоровье?
Лара. Очень плохо. Она часто бредит… Очень тяжело с нею. Врач говорит, что она не проживет долго.
Клерхен. Сколько несчастий упало на вашу семью. Г–н канцлер здоров, по крайней мере?
Лара. Кажется.
(Входит слуга.)
Клерхен. Разбудите г–на Кеппена. Скажите ему, что графиня Лара фон–Турау здесь и хочет сейчас видеть его.
(Слуга уходит.)
Лара. Право, мне так неловко.
Клерхен. Ничего. Вчера он уснул довольно рано, часа в 2–3… Он обыкновенно много спит.
(Входит Фриц, переодетый в серую пару.)
Клерхен. Это, господин… (Смотрит на него.)
Фриц. Рихард Вайншток, родственник фрау Клерхен… Коммивояжер, с вашего позволения.
(Лара сухо кивает головой.)
Фриц. Помешал разговору? Позволите удалиться? Клерхен, я только подожду Анну.
Клерхен. Милый Фриц… т.–е. Рихард, посидите в угловой комнате и почитайте что–нибудь. Там есть шкап с книгами.
Фриц. Это удобнее всего. (Уходит.)
Клерхен. Мой родственник… Коммивояжер… да… очень порядочный человек… Угодно вам чаю?
Лара. Нет, г–жа Кеппен.
Клерхен. Вы так грустны всегда, графиня.
Лара. Мне странно было бы быть веселой. У меня столько горя и, может быть, ни одного друга. Я надеюсь только на вашего мужа. Он был хорош и с Робертом, и с Лео… И мы часто (вытирает глаза платком) беседовали с ним о многом высоком и глубоком…
Клерхен. Он сделает все для вас.
(Входит Кеппен. Он сумрачен и недоволен.)
Кеппен. Бог знает что такое. Я извиняюсь, графиня Лара, я очень извиняюсь… Я сию минуту буду к вашим услугам. Клерхен меня будит. Конечно, это правильно, раз уж графиня выбрала такой ранний час для беседы. Я просыпаюсь, вижу, какая погода, требую весеннюю пару, серую, и мне говорят, что ее «надел уже другой господин». — «Какой другой господин?» — «Господин, который пришел к госпоже Кеппен, очень грязный, в щинели, и которому приказано было дать вашу серую пару». Что за чертовщина? Вы простите, Лара, но ведь это не каждый день бывает! Нет, Клерхен, не говорите ничего. Что? Мы будем устраивать семейную сцену из–за пиджака? Налейте мне чаю. И графине тоже.
Клерхен. Графиня отказалась.
Кеппен. Она сделает мне удовольствие выпить со мной чаю. (Клерхен наливает чай.) Графиня, я вас слушаю.
Лара. Мне хотелось бы поговорить с вами абсолютно наедине.
Кеппен. Отлично. Клерхен, можете пойти занять того господина, которому понадобились мои брюки.
(Клерхен сконфуженная уходит.)
Бог знает, что такое. Пожалуйста, не думайте, Лара, что у нас часто бывают такие явления. Клерхен при всей красоте очень неумна, плохо воспитана, но она довольно корректна. Ах, милая Лара, вот вам поздняя молодость, чрезмерно долго сохраняющаяся свежесть чувства. В 35 лет жениться на приказчице за красоту. А теперь вместо жены я имею старшую прислугу. Извините мне этот лирический порыв. Я слушаю вас со всем вниманием. Но прежде всего, как здоровье ваших?
Лара. Адольф. Слушайте меня… Мне невыносима гибель прекрасного Лео, которого я никогда не забуду, и гибель моего бога — Роберта; сумасшествие графини, которая осталась на моих руках… Наш мрачный дом… Я так одинока… Целые дни, целые дни с нею. А она все раскладывает карты в каком–то бессмысленном порядке и говорит все о них, все о них… такие дикие речи. Мой день пуст, моя ночь кошмарна. Пустота и кошмары в самой душе моей. Адольф, зачем мне жить здесь? Что может удержать меня? Все мои надежды на том берегу.. Адольф, вы ведь наш друг, вы мужественный человек, вам понятны трагические, героические переживания… Мне надо умереть, Адольф.
Кеппен. Лара…
Лара. Мне надо умереть. Вы видите, я не плачу. Мне надо умереть. Мне нужен благородный яд, чтобы заснуть для пробуждения в мире ином. Кто мне даст его? Они не понимают… Они считают смерть за что–то роковое, самоубийство — за преступление. Они считают, что удерживать меня в тюрьме, значит любить меня и делать мне добро. Но вы поймете, Кеппен, вы умный — и большой человек.
Кеппен. Лара, я, конечно, отлично вас понимаю. Но вы молоды. Наступили серые дни, осень, — поверьте, — вернется лето, вы полюбите, будет радость.
Лара. Зачем? Там, там…
Кеппен. Никто не знает, что там. А здесь — вы красавица, очаровательная, поэтичная. Бросьте мысли о смерти.
Лара. Вы не вникаете во всю глубину моей тоски.
Кеппен. Постойте, Лара. Хотите, я сам помогу вам жить, я, лично.
Лара. Чем же вы собираетесь помочь мне?
Кеппен. Хотите… Хотите, Лара, займемся изданием книги о Роберте. А, как вы думаете? Биография, которую напишет кто–нибудь из друзей литераторов. Ваше воспоминание, мое. Его стихи, письма, дневник. Посвященные ему статьи, поэмы, рисунки. Великолепная книга… роскошная тема. А, Лара? Под заглавием: «Граф Роберт Дорнбах–фон–Турау»…
Лара. Конечно, это превосходно… но я так устала жить.
Кеппен. Полноте. Надо только освободиться от большей части ваших забот о графине. Я это устрою.
Лара. Вы добрый, прекрасный человек… А не думаете ли вы, что книгу лучше назвать «Диоскуры»?
Кеппен. А… Так… Посвятить ее и Роберту и Лео?
(Лара кивает головой, она немного повеселела.)
Лара. Диоскуры. Венок цветов на могилу героев.
Кеппен. И подписать: «Лара и друзья».
Лара. Этому я могла бы, кажется, отдаться.
Кеппен. Моя проклятая торговля оставляет мне слишком мало времени, но все мое свободное время — вам.
Лара. Им, Адольф, — они улыбаются в эту минуту.
Кеппен. Вы тоже. И вы так очаровательно улыбаетесь, что одно это должно делать их счастливыми.
Лара. Кто знает, может быть, эта улыбка кощунственна. Вдова не должна.
Кеппен. Вдова должна быть счастлива. Счастье ваше — радость для них.
Лара. Вы думаете?
Кеппен. Чувствую.
Лара. Но мое счастье — в них.
Кеппен. Моя трогательная красавица. Как тускла Клерхен рядом с такими глазами, полными поэтической скорби, рядом с этой патетикой тонких губок.
Лара. Не говорите так.
Кеппен. Я любуюсь вами в чистоте… И чист мой будет поцелуй, если вы допустите его.
Лара. Кеппен… мертвецы ревнивы. Память о них в моем сердце делает невозможной даже тень живой любви.
Кеппен (целует ее в лоб). Нет, нет… Они благословляют вас и тех, кто вас любит… Лара, я помогу вам жить.
Лара. Адольф, Адольф, лучше мне умчаться в страну смерти.
Кеппен. Лара, вы еще поплывете на остров Цитеры.
Лара. Вы думаете, что я должна пережить еще один акт на земле? Вы думаете?
Кеппен. Да… Лара… Да… Мы переживем его вместе.
Лара. Книга…
Кеппен (целует ее). Книга… книга…
Лара. «Диоскуры».
Кеппен (целует ее). Какое очарованье исходит от вас.
Лара (тихо). Кеппен… Я отдам себя вам… Отдам то, что от меня еще остается. Но будьте святы. Помните, что я жрица в храме Диоскуров.
Кеппен. Помню, моя обворожительная, изящная, поэтическая подружка… (Целует ее.)
Лара. Я никогда не думала, что это кончится так. Я шла на смерть.
Кеппен. И нашла любовь.
Лара. Как грустно вернуться к бреду старой графини.
Кеппен. О, я вас освобожу от этого ужаса.
Лара. Вы будете моим рыцарем. Они — моими ангелами.
Кеппен. Вот так…
Лара. Прощайте…
Кеппен. Мы скоро увидимся.
Лара. Я условлюсь с вами по телефону.
Кеппен. Я провожу вас.
Лара. Не надо… Останьтесь… (Подходит к зеркалу и поправляется.) У меня странно блестят глаза и я раскраснелась. Это нехорошо. Я чувствую, как грех вьется вокруг моих висков…
Кеппен. Целовать…
Лара. Нет… ни за что… Мы скоро увидимся. Ну, вот, я, кажется, спокойна. Я не хотела бы, чтобы люди видели…
Кеппен. А, конечно… Люди грубы…
Лара. Не провожайте… (Она опускает траурную вуаль на лицо.) Прощайте, Адольф!
Кеппен. Прощайте, Лара.
(Лара уходит.)
Кеппен. Сентиментальная дурочка. (Садится к столу и кладет сахар в свой кофе.) В сущности, легкомысленная головка… Ха–ха–ха!.. Какую–чепуху мы тут пороли. Ах, женское горе… Ха–ха–ха!.. Башмаков она еще не износила… Шекспир знал… Ха–ха–ха!.. (Пауза.) Леди Анна… но изящна… Но ножки… Но ручки… Да, Кеппен, ты приобрел по случаю прелестную любовницу.
(Входит слуга.)
Слуга. Какая–то Анна Клейнбауэр… Вероятно, родственница г–жи Кеппен.
Кеппен (быстро оборачивается). Анна… Зови ее. (Слуга уходит.) Ах, чорт возьми, ведь это та фея с золотыми волосами, Валькирия с сигарной фабрики. Махтштадтская Кармен. Кеппен, на охоту. Десять раз крест над Ларой, если возможна Анна.
(Анна входит.)
Анна. Здравствуйте. Где Клерхен?
Кеппен. Не знаю… Чем мы обязаны?
Анна. Я не к вам, г–н Кеппен.
Кеппен. О, я чувствую, прекрасная пролетарка, вас просят посидеть минуточку, пока придет Клерхен. Смею предложить вам чаю.
Анна (садясь). Тут был мужчина, молодой человек?
Кеппен. Я — мужчина и еще не стар.
Анна. Оставьте шутки… Я очень волнуюсь.
Кеппен. Я тоже.
Анна. У меня… у меня умер близкий человек… я думала, что он умер…. но вот есть надежда, что он здесь.
Кеппен. Гм… я думаю, что он жив. У меня даже есть основание предполагать, что он носит серый пиджак, какой я носил год тому назад.
Анна. Не мелите вздор, — скажите, где он?
Кеппен. Нет его здесь. Он ушел куда–то с Клерхен.
Анна. Тогда уйду и я…
Кеппен. Нет, вы останетесь…
Анна. Почему, зачем?
Кеппен. Потому, что я хочу полюбоваться вами.
Анна. Нахал!
Кеппен. Вы останетесь потому, что он просил вас подождать здесь.
Анна. Г–н Кеппен. Мне. очень надо увидаться с этим человеком. Но я все–таки уйду, если вы не согласитесь выйти из этой комнаты, или, по крайней мере, сидеть и молчать.
Кеппен. Почему? Я хотел бы вам сказать немногое. Анна, вы красивы сказочно, непомерно, преступно…
Анна. Очень рада слышать…
Кеппен. Дико забрасывать такую красоту…
Анна. О, конечно, мне нужны кружева, шелк, меха и бриллианты. Но, увы, — где все это взять?
Кеппен. Анна!
Анна. Да, конечно, вы будете очень счастливы предложить мне все это и, кроме того, виллу на море, автомобиль и т. д., и т. д. Тогда я выйду в большой свет. Никто даже не спросит, откуда я взялась. Ведь я же не Клерхен. Сумею быть царицей в бархатах и горностаях. Я сумею так улыбаться, что за одну улыбку готовы будут признать во мне хоть царскую кровь. Ха–ха–ха! Вокруг меня согбенные спины мужчин, как мириады человеческих тараканов, а вы — мой повелитель, мой обладатель… И почему же мне не полюбить вас? Вы молоды, недурны собой. Я могла бы сделать вас таким счастливым моими ласками, что овладела бы целиком моим повелителем и сделала бы его рабом.
Кеппен. Анна, вы…
Анна. Г–н Кеппен, можете ли вы поверить, что я не мечтала об этом давно, давно?
Кеппен. Зачем мечтать, протяните только руку.
Анна. Что же они не идут? Видите ли, Кеппен… Этот человек — мой милый. Это — человек борьбы за наш идеал. Мой герой… А вы смешной, буржуа. Если бы у вас были Голконда и Перу, вы были бы все–таки совершенно несоизмеримы с ним. Никогда… несоизмеримы ни с одним его желанием, ни с одним воздыханием милого… Но ваша Голконда — увы! — она принадлежит не вам. Мы, рабочие, готовимся отобрать у вас «собственность»… Ха–ха–ха! Какой вы имеете злой и жалкий вид. Я знаю, что вы скажете. Бьюсь об заклад, вы хотите сказать: «Я сейчас позову шуцмана»… (Весело смеется.)
Кеппен. Шуцмана. Зачем? Ваш тип, вероятно, честный человек. Конечно, я немножко удивлен, что он в ранний час явился к Клерхен и сейчас же потребовал себе мой пиджак и мои брюки… Но, надо думать, тут нет ничего уголовного. Надо полагать, что политика вашего милого не обяжет меня, как патриота, обратиться к помощи полиции.
Анна (смеясь). Ну, видите, как я угадала. Мы вас знаем. Я знаю даже то, что у вас есть известная доля порядочности, — ну, кокетства перед красивой женщиной, что вы, например, все–таки не позовете полицию, хотя вы понимаете, что в вашем доме переоделся революционер. Я знаю, до каких пор вы гадки. Вы и в гадости не черезмерны. Но из предосторожности я уйду и встречу моего милого на улице у вашего дома. (Встает.)
(Входят Клара и Фриц.)
Фриц. Анна?
(Анна бросается к нему, обнимает и целует его долго. Клерхен почти плачет и улыбается.)
Кеппен. Вы нанежничались, сударь?
Фриц. Г–н Кеппен!
Кеппен. Да, хозяин этого дома, желающий знать, кто пользуется его гостеприимством.
Клерхен. Мы решились сказать тебе все, Адольф… Это Фриц Штарк, жених Анны. Граф Лео спас ему жизнь… Но он был убит… и Фриц должен был бежать из этапа…
Кеппен. Коммунист, конечно?
Фриц. Имею высокую честь быть таковым.
Кеппен. Да… Пожалуйста… Вы проникли в мой дом и в мой пиджак без моего спроса. Продолжайте. (Уходит.)
Анна. Уйдем.
Клерхен. Полно. Вы здесь в совершенной безопасности. Где сможете вы еще повидаться? На улице? Но, смотрите, пошел дождь.
Анна. Сядем, Фриц. Фрицхен… Как ты изменился. Как похудел, возмужал… Эта борода… Мой Фриц… Ведь я думала, что тебя поймали, что ты убит.
Фриц. Слыхала ты про Гракха Рота.
Анна. Еще бы… Я зачитываюсь его прокламациями. О нем говорят у нас все. Папа называет его молодым богатырем, вдохновенным вождем будущего.
Фриц. Это — я…
Анна. Фриц! Фриц! (Задыхается от радости.) О, Фриц! Фриц! (Падает в его об’ятья.)
Клерхен. Только береги себя.
Фриц. Ха–ха. Сколько нужно. Трать себе разум. Рискуй без шику. Эти правила записаны у меня крепко. И я сейчас немного беспокоюсь. Ваш Кеппен… Уйдем… Анна, мы увидимся в кафе де–Пари. Там много народу и можно остаться незаметным. Я сумею еще раз преобразиться и найду тебя без труда. А сейчас, Клерхен, проводите меня через черный ход. Ну… без долгих расставаний, мы увидимся. (Целует Анну и уходит с Клерхен.)
Анна (одна). Люди ужасны… И прекрасны… Такой человек, такой человек, все наше лучшее в нем. Наш рабочий Зигфрид.
(Входит Кеппен и два суб’екта в штатском.)
Кеппен. Анна, милая, эти господа желают видеть г–на Штарка.
Анна (смеясь). Вы позвали полицию. Г–н Штарк ушел. У него много дела. Надо поднять весь Махтштадт в одну неделю.
Полицейский комиссар. Я вас арестую. Г–н суб’инспектор, прошу вас приступить к организации розыска.
Кеппен. Суб’ект в серой паре… с бородкой… Головного убора его не видел.
Анна. Это вам не поможет,
Кеппен. (Смеется.) Вы будете разбиты.
Полицейский комиссар. Следуйте за мной.
Анна. В тюрьму? Ненадолго. Ах, Кеппен, если бы вы знали, как мне весело… ваша досада усилилась бы во сто раз.
(Смеется и уходит за полицейским комиссаром.)
Кеппен. Словно мне надавали пощечин. Отвратительно. Отвра–ти–ттельно.
(Слуга входит.)
Слуга. Графиня Лара просит вас к телефону.
Кеппен. Графиня Лара… да… Скажи… скажи, что меня нет дома. Постой… скажи, чтобы она позвонила вечером. Отвратительно…
ЗАНАВЕС.
КАРТИНА СЕДЬМАЯ.
Кабинет канцлера. Осень. Император в шинели с бобровым воротником и в каске. Генерал Беренберг толстый, с красным лицом в походной форме, держится молодцевато. Секретарь Петлиц.
Император. Предосадно! Генерал, ведь надо совещаться в самом бешеном темпе. Положение ультракатастрофическое. Без канцлера я не могу принять решение.
Беренберг. Придется, ваше величество. Оно просто. Передайте все дело в мои руки. Мы заключим в 24 часа мир и разобьем бунтовщиков в другие 24 часа. Надо только прямо смотреть в лицо правде. Вчерашний враг для нас все же гораздо ближе, чем собственная сволочь. Тех надо задобрить, идя в уступках до конца; этих утопить в крови, идя до конца в жестокости.
Император. Я не могу решить вопрос без графа. Я страшно рискую. Заговор повсюду. Можно ли быть уверенным даже в старой гвардии? Позорный мир заставит отшатнуться от меня всех патриотов. В конце–концов те или иные заговорщики могут даже захватить меня лично. Генерал, вообразите, я ловлю себя на том, что, проходя мимо часовых, я боюсь, не пустят ли они мне пулю в спину.
Беренберг. Простите, ваше величество, это паника.
Император. Наоборот. Честное слово офицера, я спокоен. Но провозгласить диктатуру наобум, значило бы удариться в панику. Да, да, именно теперь время для осмотрительности. Я не стану решать вопрос без графа. Петлиц, неужели граф не знал, что мы едем к нему?
Петлиц. Всенижайше осмелюсь доложить, ваше величество, что канцлер очень хорошо знал это. Но внезапный приступ затмения зрения страшно напугал его. Немедленно был вызван профессор Заяц, который потребовал тотчас перевести канцлера в его кабинет для воздействия электрическим током на глазной нерв. Это крайне опасная болезнь. Временный паралич нерва может превратиться в постоянный, если не будут приняты героические меры. Г–н канцлер волновался все последнее время, он работает нечеловечески. Все произошло на почве нервного истощения. В последнее время, ваше величество, канцлер терял зрение в сумерки. Г–н канцлер, уезжая, сказал: «Доложите его величеству: слепой или зрячий — я буду здесь через час».
Император. Все беды валятся на нас… (Сбрасывает с себя шинель и снимает каску.) Будем ждать… (Садится.) Где это грохочет пушка?
Беренберг. Это мы осаждаем казарму матросов в Клейн–марине, в предместьи столицы.
Император. Катастрофа… Чем все это кончится? Уж скорее бы кончилось.
(Двери отворяются, входит графиня фон–Турау, страшно бледная, в черном платье. За ней испуганная Лара.)
Графиня (подходя к императору). Я узнала, что ваше величество здесь.
Император. Графиня…
Графиня. Я пришла засвидетельствовать монарху свое почтение.
Император. Тронут.
Графиня. У меня есть просьба к вашему величеству.
Император. Чем могу служить?
Графиня. Я прошу откомандировать от их войсковых частей детей моих, графа Лео и графа Роберта Дорнбах–фон–Турау.
Император. Боже… (Петлицу.) Она уже до этого дошла?
Графиня. А, понимаю. Ваше величество намекает на то обстоятельство, что они оба убиты. Ваше величество, это не имеет никакого значения. За множеством государственных дел вашему величеству некогда подумать о других планах жизни, я же имею теперь так много досуга. Могу уверить ваше величество, что смерти никакой нет. Оба живы и относительно здоровы. Я нахожусь с ними в постоянном кон’юнкте.
Император. Как добрый христианин, я верю твердо в бессмертие души.
Графиня. Но вы мало знаете об этом, ваше величество.
Лара. Его величество заняты. Нельзя задерживать его внимание.
Графиня. Ваше величество, эта бедная девушка сильно потрясена потерей в этом плане дорогих ей людей. Не обращайте на нее внимания. Я очень просто изложу вам мое дело. Все павшие в боях этой ужасной войны продолжают схватки и в другом плане. Там они немедленно поступают в соответствующие части своих армий и там эти части все растут, все растут, все растут… Лео служит и там в четвертой кавалерийской дивизии нордландской армии, а Роберт — в 14 стрелковом батальоне имени фельдмаршала Гербарта Готгельфа, который лично командует батальоном, хотя и умер 100 лет тому назад. Так вот я и прошу отчислить их. Они могут быть вторично убиты и я могу потерять кон’юнкт с ними. Я вас умоляю. Вы видите, как я спокойна и благопристойна, но потерять вторично, — о, государь, этого нельзя, этого нельзя! Мой разум мутится при этой мысли! Я умоляю, император, я грожу! Не заставляйте меня пронзить вашу совсем молодую душу материнским проклятием!..
Император. Уведите бедную больную.
(Петлиц и Лара берут ее под руки.)
Графиня (вырываясь). А, так? Так, безжалостный тиран, наместник сатаны на земле? Так? Так вот же тебе! Я тебя проклинаю. Лео, Лео, слышишь? И ты, Роберт? Я его прокляла! Он погиб! Он погиб и не понимает этого!..
(Ее насильно уводят.)
Император. Жизнь стала кошмаром.
Беренберг. Это только введение в настоящий ад.
Император. Вы имеете в виду революцию?
Беренберг. Да… Мировую бойню между пошатнувшейся аристократией и зверями из бездны, каннибалами. Я предвижу серию дьявольских жестокостей с обеих сторон, и степень риска стать их жертвами обратно пропорциональна квадрату готовности самому быть беспощадным.
Петлиц (возвращается). Министр труда г–н Фрей.
Беренберг. Я бы думал, что этот половинчатый господин может помешать нам сейчас.
Император. Нет, нет. Он страшно умен. Я, конечно, не последую его советам, но знать его мнение или, вернее, выслушать речи, прикрывающие его мысли, следует… Прочите.
(Петлиц кланяется и уходит.)
Беренберг. Мы с ним антиподы.
Император. Знаете, у вас есть и сходство. Вы оба красноречивы. Я боюсь, как бы вы не процицеронили мою корону.
Беренберг. Я похож на Цицерона разве только в момент…
Император. По–моему, сейчас момент не для речей, хотя бы решительных.
Беренберг. Дайте мне право поступать, я заговорю голосом пушки.
Император. Молчите. Фрей!
(Фрей входит.)
Фрей (с глубоким поклоном). Я рад найти императора, которого я ищу повсеместно вот уже два часа, — в день, когда потеря минуты имеет роковое значение для человечества.
Император. Мы ждем канцлера. С ним приключился припадок. Он сейчас будет здесь. Вы тоже тут. Таким образом, все в сборе.
Фрей. Коммерции советник Гаммер ждет в приемной.
Император. Пригласите и его.
Фрей. Я бы возразил против этого. Сначала надо решить кардинальный вопрос. Я рад, что нет здесь и канцлера. Я имею намерение сделать предложение, которое взвесить и понять может только гений императора. Да, да, я считаю вас гениальным человеком. Надеюсь, что генерал докажет сейчас свое право быть третьим среди нас двоих.
Беренберг. Г–н министр труда заносчив.
Фрей. Я утверждаю, что в эту минуту, в этой комнате право голоса имеют лишь великие люди.
Беренберг. Я удивлен этим фарсом среди трагедии, ваше величество. В один день вы имеете несчастье встретить двух суб’ектов с помутившимся разумом. Графиня и… Таково время!
Император. Слышите, как грохочут пушки? Будет вам болтать, как двум попугаям, и ссориться, как двум обезьянам. Эта пушка грохочет с другой стороны.
Фрей. Это в лагере военнопленных, где начался бунт. Их истребят, если это будет нужно. Позвольте мне сделать мое радикальное предложение.
Император. Делайте. (Отходит к окну и смотрит туда.)
Фрей (говорит, обратившись к спине императора). Царство шатается и грозит рухнуть. Я думаю, трон не может быть спасен никакой политикой.
Император (круто оборачиваясь). Наглец!
Беренберг. Прикажите арестовать его?
Фрей. Нужно обновленное правительство. Император, слушайте меня внимательно, иначе вы погибли! (Император презрительно меряет его глазами с головы до ног и молчит.) Может быть, вы вернетесь на трон. Это более, чем вероятно. Но для того, чтобы вновь подняться на его ступени, надо сначала сойти с них. Коммунисты держат, в руках половину флота и треть армии, рабочие волнуются, буржуазия в панике, враг наступает. Необходимо заключить мир во что бы то ни стало.
Беренберг. Я это советовал.
Фрей. Вы советовали глупость, г–н генерал! Вы об’явили войну и вы хотите принять унизительный мир? И надеетесь после этого полчаса просидеть в Кронпаласе. Глупый совет, г–н генерал. Мир должно заключить новое правительство. И это в тысячу раз выгоднее для вас. Постарайтесь же и вы думать. Одиум антипатриотизма падет на это новое правительство. Вы можете представляться позднее сторонниками сопротивления до безумия и этим облегчить свое возвращение в лучшие времена.
Император. Меня все–таки восхищает ум этой шельмы.
Фрей. Я рискую больше всех, беря на себя роль президента, заключение мира и задачу сломить шею коммунистам. И я предупреждаю вас: сегодня я могу еще взяться за это, а завтра, может быть, нет.
Император. А я?
Фрей. Вы должны отречься от престола. Нордландия провозглашается республикой. Я становлюсь во главе правительства из промышленников, профессоров и рабочих. Гаммер ведет переговоры о мире.
Император. Петлиц, введите сюда Гаммера.
(Петлиц, слушавший все с тревогой и насмешливо, быстро уходит.)
Беренберг. Умоляю вас, ваше величество, дать мне приказ арестовать болтуна.
Фрей. Я уже понял, что вы ничего не понимаете, генерал.
(Входят Петлиц и Гаммер.)
Император. Г–н коммерции советник, можете вы говорить здесь от лица нордландского капитала?
Гаммер. Да, ваше величество.
Император. Известен ли вам план г–на министра труда?
Гаммер. Да, ваше величество.
Император. Вы присоединяетесь к нему?
Гаммер. Да, ваше величество. Вне республики и коалиции нет спасения от внешнего и внутреннего врага. Мы подружились с г–ном Фреем, как две половины арки: мы давим в противоположные стороны, но разомкните нас — и мы упадем оба.
Император. А я?
Гаммер. В настоящее время ваше величество совершенно бесполезно здесь. Я советую, ваше величество, позаботиться о себе.
Император. Это превосходит всякое вероятие… Генерал, неужели уступить?
Беренберг. Ваши предки устремили на вас очи в эту минуту.
Император. Ну, это из репертуара умалишенной графини. Будь я немного старше, я бы послушался их. Они умны. Коммерции–лиса и Иуда бен–Ахитофель. Но вот я молод и хочу сверкнуть, как настоящий король, моей молнией. Будь, что будет! Генерал Беренберг, я приказываю вам арестовать этих господ, как государственных изменников.
Беренберг. Слава богу войны и мира!
Фрей. В таком случае это я арестую генерала Беренберга.
Беренберг. Фарс продолжается. (Подходит к телефону.) Сейчас я вызову кого–нибудь из комендатуры.
Фрей. Г–н Петлиц, пригласите сюда капитана отряда, взявшего этот дом под охрану. Он ведь тоже прекрасно сможет арестовать генерала Беренберга и покровительствующие ему силы — действующее еще правительство.
Император. Что все это значит?
Петлиц. Я во всяком случае приглашу сюда г–на капитана.
(Торопливо уходит.)
Гаммер. Напрасно, напрасно, ваше величество. Ваша игра сыграна. Ситуация совершенно ясна всем. Ваше величество во всяком случае должны удалиться вместе со зловещим канцлером Дорнбахом.
(Петлиц возвращается с капитаном.)
Беренберг. Ваша фамилия? Какого полка?
Капитан. Капитан Отто Брейтфельд 48-го пехотного.
Беренберг. Зачем вы здесь?
Капитан. По приказу республиканского комитета столичного гарнизона.
Император. Разве Нордландия уже республика?
Капитан. Мы твердо желаем видеть ее таковой.
Фрей. Капитан, именем республиканского комитета предлагаю вам арестовать генерала Беренберга.
Капитан. А генерала Гогенгауфена?
Фрей. Арест бывшего монарха не представляется в настоящую минуту необходимым.
Капитан. Генерал, прошу вас отдать вашу шпагу.
Беренберг (театрально выхватывает саблю из ножен и ломает ее о колено). Вы — изменник, а Беренберг — честен.
Фрей. Без мелодрамы. Героем, достойным фарса, оказались вы.
Беренберг. Я скажу вам…
Фрей. Вы мне ничего не скажете. Капитан, исполняйте ваш республиканский долг.
Капитан. Следуйте за мной немедленно, Беренберг. Возражения не допускаются.
Император. Ты перехитрил, лукавый жид!
Фрей. Вы ругаетесь? Извольте. Можно по–женски злоупотреблять священным правом слабости. Г–н Гаммер, у меня по горло дела. Будьте добры взять на себя высшее руководство за от’ездом бывшего монарха к границам Тифляндии. В хорошем автомобиле через 6 часов можете быть в Польдрехте.
(Низко кланяется и уходит.)
Гаммер. Прикажите отдать распоряжения, ваше величество?
Император. Да… Г–н коммерции советник… да… приказываю. Я хочу уехать подальше от вас и, по возможности, забыть про всех вас.
Гаммер (Петлицу). Можно отдать распоряжение по телефону из вашего кабинета, г–н секретарь?
Петлиц. Конечно, г–н министр.
Гаммер. Я еще не министр.
Петлиц. Вы им будете через час, высокоуважаемый г–н коммерции советник.
(Почтительно идет впереди его. Они уходят.)
Император (один). Молниеносно… Не красивее ли будет? (Вынимает револьвер из кармана.) А?.. Не красивее ли? Нет, чепуха… Я люблю жить. Каждому живому псу лучше, чем мертвому льву…(Запрятывает револьвер назад.)
(Открывается дверь; входит канцлер, которого ведет Лара.)
Император. А граф… Без вас тут совершилось много событий. Что с вами?
Канцлер. Я ослеп, государь. (Идет ощупью к столу и стоит около него согбенный.)
Император. Этого только не доставало. Я вижу, вы все делаете во–время. Впрочем, ваши глаза были бы сейчас не только бесполезны, — они, повидимому, всегда были таковыми, но и безвредны, чего об их прошлом нельзя утверждать.
Канцлер (дрогнувшим голосом). Ваше величество, неужели это тот тон?
Император. Тон… Тон… Я низложен вашим любимцем, жидовским адвокатишкой Фреем, и все сыплется и валится — вся Нордландия, весь мир. И это вы, старый фантаст, виноваты во всем. Утешайтесь, вы не увидите дела рук ваших. Но лучше было бы вам, если бы вы и не слышали о них. Умрите, граф. Умрите. Хотите револьвер? Вот он… (Сует ему свой револьвер в руку.) Я не желаю больше смотреть на вашу униженную, но ненавистную фигуру. (Уходит, гремя саблей и шпорами.)
(Молчание в комнате.)
Лара. Все это. как бред. Мы раздавлены роком.
(Канцлер молчит.)
Папа, вы ничего не видите?
Канцлер. Пока — ничего.
Лара. Но профессор Заяц обещал вам, что зрение вернется?
Канцлер. Нет… едва ли… Но, может быть, я рассмотрю, что же все это значит? Сейчас я слеп и телом и духом. Не говори мне ничего. Возьми револьвер и положи его в стол. Я вовсе не хочу убивать себя. Да будет воля божия.
(Пауза.
Медленно входит графиня фон–Турау. Подходит к нему.
Пауза.)
Графиня. Правда ли, что вы ослепли, Карл?
Канцлер. Да, Луиза.
Графиня. Постарайтесь раскрыть внутреннее око.
Канцлер. Я постараюсь, Луиза.
Графиня. Но вы не верьте, когда они болтают, будто вы слепец; они ведь сплетничают, будто я сумасшедшая… Я умная, даже мудрая. Не верьте им, что вы ослепли.
Канцлер. Лара, уведите же ее. Оставьте меня одного.
Петлиц (входя. На лице его счастливая и насмешливая улыбка). Простите, я должен взять каску и шинель экс–величества. Экс–величество едет в Тифляндию. Его экс–величество изволили телефонировать графине Митси, ха–ха–ха, приглашали разделить изгнание… Но графиня Митси фон–Гаторп ответила, что она надеется на пост министра социального обеспечения при правительстве г–на Фрея.
(Берет шинель и каску. Низко кланяется.)
Г–ну экс–канцлеру и его экс–почтенному семейству. Я перехожу в секретариат г–на президента. Счастливо оставаться. (Уходит.)
Канцлер. Все странно… думал, что отлично знаю людей. Но они еще хуже… Это война развратила их и ожесточила. Лара, позови мне Германа, он проведет меня в спальню.
(Лара звонит.)
Канцлер. Монарх… семья… родина… (Встает через силу.) Графиня. Надо дотащиться до другого плана. Лара (звонит еще раз). Герман не идет.
(Появляется унтер–офицер.)
Солдат. Что вы звоните? Лара. Мы звоним слуге.
Солдат. Они все ушли. Секретарь увел их с собой. А мы поставлены здесь потому, что Турау находится под домашним арестом.
Канцлер (садится в кресло). Развалины… кругом… кругом…
Графиня (садится к письменному столу и раскладывает карты.) Кони… дорога…дорога… и катафалка с гербами и перьями…
Лара (внезапно истерически рыдая). Я не могу, я хочу жить или умереть, но я не могу… не могу…
Графиня (совершенно не обращая на нее внимания). Какие чудесные бубны там… целая музыка колокольчиков и серебряных труб… Роберт под большим широким деревом на синей траве…
Лара (бросается к двери, потом останавливается). Я не могу уйти. За что я гибну? (Рыдает.)
Канцлер. Боже, закрой мой слух… Ты, бог, хочешь мучить меня. Я буду терпеть.
Лара. О, ваша святость… ваш святость… Ах… Я не хочу терпеть.
Канцлер. Уйди, Лара, оставь нас…
Графиня. Под желтым деревом на синей траве…
Лара. Куда? И как жить, зная, что вы здесь… Я хочу умереть.
Графиня (словно сквозь сон). Роберт, ты гораздо красивее, чем Лео. Ты перехорошел Лео.
Канцлер. Лара, думай сама о себе.
Лара. Я не могу застрелиться. Я боюсь оружия.
Канцлер. Молчи… Слышишь, как грохочут пушки. Мне зарево кажется, я слышу крики.
Лара. Зарево…
Графиня (как сквозь сон). Всем дорога, всем дорога… сквозь черное… сквозь красное и голубое…
(На сцене становится темно. Окна горят заревом. Ухает пушка.)
Лара. Страшно мне…
Канцлер. Молчи… Что там поют?
Лара (прислушиваясь). Гимн рабочих — Интернационал.
Канцлер. Ха–ха–ха! Фрей сделал его гимном республики.
Унтер–офицер (входя). На улицах дерутся. Мы можем быть отрезаны от своих. Сюда подходят эти черти–коммунисты, мы вынуждены перевести вас в другое место.
Канцлер. Я готов. Только я слепой. Моя жена — сумасшедшая, а она — больна.
Унтер–офицер. Теперь много несчастных. И вы сами знаете, кто больше всех виноват в этом…
Канцлер. Это так… Собирайтесь. Лара, веди Луизу. Кто–нибудь из конвойных даст мне, вероятно, руку.
ЗАНАВЕС.
КАРТИНА ВОСЬМАЯ
Элегантная комната. Рояль. Накрытый стол, пальмы. Гобелены на стенах. Петлиц и Митси. Она очень шикарно одета, декольте в бриллиантах.
Петлиц. О, великий человек, великий человек.
Митси. Да, я знала… и близко… много великих людей, но президент — величайший среди них и несравненный.
Петлиц. О, вы знали многих… но ведь то не были государственные люди. Все эти артисты, литераторы и т. п., — это ведь что же за величие… Это все равно, что великие повара и маникеры. Люди власти — вот действительно настоящие великие люди. Властный человек может всласть аплодировать актеру, может «поклоняться» писателю, но не позволит себе в чем–нибудь серьезном посчитаться с их мнением… Но целовать ручку, а, может быть, даже ножку своей любовницы он может и все–таки она его любовница, она его раба… И все девять муз — рабы сильного.
Митси. Ах, как вы правы, Петлиц. Я тоже больше всего обожаю силу. Например, императора я любила только за то, что он император. В остальном, боже, он был неглуп, но лучше был бы глуп. Куда деть это неглуп, неумен? Манеры. Смесь казармы с этикетом. Любовь. Какой–то садизм без убеждения, быстрая пресыщаемость. В конце концов что–то ужасное, инертное, постоянно нуждающееся в подогревании и доппинге.
Петлиц. Император? Ему было дано все и он все потерял. А президент? Сын молочного торговца. Мальчишкой бегал без башмаков. В 17 лет отправлен был на исправление в колонию для дефективных. А теперь — президент Нордландии.
Митси. Знаете, Петлиц, я считаю вас крайне лукавым и злорадным человеком. Но мне иногда положительно кажется, что вы искренно полюбили Франка.
Петлиц. Знаете, графиня, я считаю вас за… за очень обворожительную… блудницу, но мне иногда начинает казаться, что вы в самом деле влюблены в президента.
Митси. Я его обожаю. Это — орел. И сколько в нем темперамента… и сколько фантазии… Я говорю о любви… Дайте мне папироску. (Закуривает.) Я его обожаю. Эти наши интимные вечера, разве это не прелесть? И как он разнообразен: то он шалун, то он усталый рыцарь, то он аналитик сладострастья… экспериментатор, изобретатель в области эротики. А иногда он просто полон допотопной похоти здорового самца.
Петлиц. Действительно, есть за что любить его. Но все–таки ни вы, ни я его не любим.
Митси. Опять парадоксы.
Петлиц. Вы не замечаете, во–первых, что мы — его прислуга.
Митси. Вы любите какие–то грубые и пошлые определения.
Петлиц. Когда они верны… А прислуга с таким уровнем развития не может любить барина. Служить же ему, пока барин он. Свались Фрей, разве мы пошли бы за ним в изгнание, как не пошли бы за императором и канцлером?.. (Пауза.) Будьте откровенны.
Митси. Если бы он пал, это значило бы, что он слаб, а я люблю силу.
Петлиц. Успех. Мы с вами — я секретарь–лакей и вы любовница–горничная — представители той части толпы, которая есть добыча преуспевающего.
(Входит Беренберг, красное лицо его сияет, он потирает руки.)
Беренберг. Радуйтесь. Коммунисты добиты. Ах! Чего это стоило. Кавеньяк, Шварценберг, Радецкий, Галлифе — посторонитесь, дайте место рядом с вами Эбергарду фон–Беренбергу.
Митси. Вы выпустили столько коммунистической крови, что если бы каждый день принимали кровавую ванну, вам хватило бы до конца жизни, — проживи вы хоть сто лет.
Беренберг. Конечно, серьезно. Война внешняя почти стушевалась теперь. Я их разил и разил! Они раздавлены. Фридрих Штарк с остатками красных окружен в Граубергене. Его мы раскусим не так скоро, но он почти совершенно отрезан. Все дрожит в стране. Вот что достигнуто честным союзом правых и средних.
Петлиц. А дальше? Дальше, может быть, начнутся некоторые разногласия союзников. Это ведь всегда так бывает, г–н генерал, между победителями.
Беренберг. Пустое. Что будет дальше, о том судить не вам, г–н Петлиц. В политике вы должны быть исполнителем.
(Франк Фрей входит.)
Франк Фрей. Тубо. Никаких политических разговоров. Ни грана политики. Устал. (Потягивается, оглядывается кругом.) Ну–с. Забавляйте меня, в награду и я буду забавлять вас. Петлиц. Заприте дверь на ключ. Все, что относится к вину и кушаньям — за вами. Ни одной лакейской физиономии. Устал. Поставьте столы. (Валится на диван.) Митси! (Митси подбегает к нему и целует его.) Не так бурно, дурочка. Какая у тебя интересная прическа. (Треплет ее по щеке.) Кошка. Петлиц, передвиньте с генералом стол сюда к дивану. (Они делают это.) Так… Митси сделает мне несколько бутербродов. Дайте мне хорошего белого вина для начала. Я устал… (Они ухаживают за ним. Он пьет.) Победа, Митси. А красные черти сломлены. Ну, Беренберг, спасибо, спасибо… (Садится, пьет.) Пить, есть. Митси будет танцовать нам сегодня.
(Пьет во все дальнейшее продолжение сцены, все участники пьют непомерно, чаще и больше всех Фрей.)
Беренберг. Как вы веселы сегодня, президент.
Фрей. Сегодня триумф. Интимный триумф. Я на высоте и без риска оступиться. Уверяю вас, генерал (Пьет.) Пейте. Пейте.
(Все пьют.)
Петлиц. Тост… Первый мой тост в честь дамы. Простите некоторую вольность выражений и обратите внимание на рифмы.
Фрей. Прощаю… И Митси прощает заранее. (Пьет.)
Петлиц.
Приходи ко мне под арки,
Я принес тебе подарки,
Я принес моей графине
Аромат весны в графине.
Ты вздохнешь, и вот вдруг розы!
Позабудь зимы угрозы.
Люций Петлиц страсти полон,
Чтит в тебе красу и полон.
Песни пой под рев, о, Люций,
Усмиренных революций.
Фрей. Ха–ха–ха… Какой превосходный шут вышел бы из Петлица.
Берегись, другие спишут.
Береги стихи, не спи, шут!
(Вся компания хохочет.)
Фрей. Ну–ка, ну–ка, попробуйте и остальные дать экспромтом и с полными рифмами. Ну–ка, Беренберг, импровизируйте,
Беренберг. Отчего ж нет? Никто еще никогда не говорил о Беренберге, что он лезет за словом в караман.
В преизбытке жизни — споры,
Меч решает жизни споры,
Жизнь исправит смерть косьбою.
Жизнь берется только с бою.
Фрей. Отлично! — Митси!
Митси. Отказываюсь. Я считаю все стихи глупостью. Я не фокусница на слова. Нашли занятие — утруждать себя игрою слов. Я буду танцовать, когда совсем опьянею.
Фрей. Шампанского! Пробки в потолок, Петлиц.
(Петлиц кривляется, откупоривает бутылку с шампанским.)
Беренберг. Сожалею об одном, что с нами нет коммерции советника Гаммера.
Петлиц. И… и… что с нами только одна дама. Но г–н президент делает это нарочно для того, чтобы ему завидовали.
Фрей. Верно! Гаммера нет, потому что Гаммер вьючное животное. Он должен всегда работать. Зачем отдыхать Гаммеру? Он рабочий скот собственного капитала. Он ничего не понимает в жизни. Здесь, где я веселюсь, я презираю Гаммера. Там — в моем рабочем кабинете, я чту его… Да… А женщин нет, потому что я ненавижу женщин. Это — куры… Это — дрянь. Фи. Я и тебя–то едва переношу, Митси. Но ведь эта бутылка еще глупее тебя. Ты здесь — обстановка: вина, фрукты, мебель, стены, свечи, люди… Существую только я. Я… Франк Фрей… Ха–ха–ха… Мой единственный недостаток, что я быстро пьянею… Призраки. Друзья мои, верьте мне. Верьте моему честному слову. Вы три призрака… Ха–ха–ха… Мир стал, как тесто, которое я могу месить, и все это только потому, что я очень умен. Я единственный по настоящему умный человек на свете… Поэтому все вы стали тестом. Тени… Мои рабы… Европа… Америка… (Встает — пошатывается.) Провозглашу тост… За самодержавие… (Смех.) А сам держаться на ногах не могу… (Садится.) Петлиц, каналья! Ты что–то подмешал мне… Я никогда не пьянел так быстро. Песню. Петлиц, пой.
Петлиц (садится за рояль).
Я вам спою, друзья, я конкурентом
Здесь выступаю Ме–фисто–фе–ля.
Меня вознаградите комплиментом.
Я начинаю. До–ми–фа–соль–ля.
Как Мефистофель о блохе
Пою я… Эх–хе–хе–хе–хе.
Конечно, короля блоха
Была из рук вон как плоха.
Но ведь и в век демократичный
Для блох есть ход и — преотличный.
Фрей. Ну, так. Кажется, собираешься сатирить на мой счет?
Петлиц. Я вас забавляю.
Фрей. Смотри… Иначе я брошу тебе бутылку в физиономию. Петлиц.
Жила была одна блоха,
А, ха–ха–ха. А, ха–ха–ха.
Проворна, сметлива и зла,
Водилась в бороде козла.
Фрей. Я воспрещаю эту песню. Цензура.
Беренберг. Президент в пьяном виде выдает, что у него на уме.
Фрей. А ты, генерал, дружище! Ха–ха–ха. (Тянется к нему.) Поцелуемся. Ты… помалкиваешь, Цицерон в эполетах, не умеешь помолчать. Генерал–ракета. Я тебя знаю. Ты воображаешь, что ты ужасно хитер… Я все знаю про вас. Ха–ха–ха… Устраиваете заговорчик справа? По низвержении коммунистов начнете мечтать о прошлом. (Машет пальцем под самым его носом.) Ни–ни–ни. Франк Фрей великий человек. Все видит. Все знает. Вы мне не опасны.
Беренберг. И все–таки такие нелепые подозрения мог породить только страх, друг президент. (Треплет по его плечу.)
Фрей. Когда вы сделаетесь опасным, я свое знаю. (Свистит.) И где ты, Беренберг, — вас слишком ненавидят. Ты вымок в рабочей крови.
Беренберг. Вместе с вами, президент.
Фрей,Нет… я держался в стороне. Отвечают исполнители. Беренберг, борзой пес — пиль. И ты терзал. А у меня белые, чистые руки… (Поднимает руки.) Видел, Беренберг? Довольно о политике. Митси будет танцовать. Она… Тс… Это мистерия начинается. Она будет танцовать нагая… Да… Я позволю ей сохранить только подвязки. Петлиц у рояля. Я пью с какой–то жадностью сегодня. И все пьянею… Свечи мне мигают, мигают… Но я и без них все знаю. И про вас все… И все–таки и — отдыхаю. Я могу это потому, что я победил. Я могу спать. Я могу пить… Вокруг меня нет опасности. Триумф! Раздевайся, Митси. Я сам буду танцовать с тобою… И Беренберг… Танец женщины, медведя и обезьяны. Я еще мальчишкой необыкновенно хорошо представлял обезьяну. (Кривляется и представляет обезьяну. Вся компания хохочет.)
(Все пьяны и пьянеют еще сильнее.)
Петлиц. У меня уже все пошло кругом… (Садится за рояль и играет фальшиво гротескный марш.) Хором. Я запеваю.
Когда свободным можно быть
И все приличия забыть,
И все заботы вдруг избыть,
И пить, и пить, и пить, и пить:
То торжествует наше Я,
Че–человеко–ко–свинья.
Хор. Да… да…
Тут торжествует наше Я,
Че–человеко–ко–свинья.
Петлиц.
Тут выскочка и царь на час,
Об’единил, как свиту, нас,
Квартет, медведь, генерал–бас,
Шут — секретарь и свистопляс,
И женщина — молчу о ней,
Квартет свободных сви–свиней.
Хор. Да… да…
И женщина — молчу о ней,
Квартет свободных сви–свиней.
Петлиц.
Мы ненавидим, но пустяк,
Сегодня каждый будь дурак,
Спрячь камень, разожми кулак.
О, братья, в свинстве пойте так:
Мы победили смысл земной,
На час нам рай дан сви–свиной.
Хор. Да… да..
Мы победили смысл земной,
На час нам рай дан сви–свиной.
(Танец.)
Митси. Ведь это чрезвычайно глубокая песня. Понимаете ли вы, какая глубокая песня? Ведь его песня раскрывает сущность мира. Она выражает смысл бытия. Все дозволено. Я все согласна сделать сейчас. Да здравствует разнузданность!
Фрей (поднимается с бокалом). Я очень пьян и мне трудно сказать речь… Язык мой плохо повинуется мне. Клянусь, я был искренним демаго… демократом… Ха–ха–ха… демократом, социал… Нет, не демагогом… Я рассчитывал и рассчитал лучше старика Турау, и тебя, и всех. И этих коммунистов… фанатиков… И, я так рассчитал… так победил, что попал в президенты. Говорю: я свинья, и вы свиньи. И вы можете ими быть, потому что я вам это позволяю. А я смею быть свиньей, потому что я победил. Отсюда следует, что Петлиц — мудрец.
Тут торжествует наше Я,
Че–человеко–ко–свинья.
(Митси вдруг пронзительно вскрикивает.)
Беренберг. Что с вами?
Митси. Вы не слышите, какой стон раздался… Страшно. Как будто миллионы проклятий… Из прошлого… Из настоящего… Из будущего…
Фрей. Ха–ха–ха… Она допилась… Она допилась до романтики. До романти… романти…ских галлюцинаций. Мене–Текел–Фарес. Ха–ха–ха… Раздевайся и танцуй, Митси! Хором!
(Все четверо обнимаются и выходят на авансцену, пошатываясь.)
Да… да…
Мы победили смысл земной,
На час нам рай дан сви–свиной…
ЗАНАВЕС.
КАРТИНА ДЕВЯТАЯ.
Грауберген. Город занят коммунистами. Большая зала в бывшем губернаторском доме. Один длинный стол приспособлен для обедов, другой — для канцелярской работы. Обстановка бивуачная, неуютная. Утро. Фриц Штарк сидит в старом кресле. Он очень утомлен и бледен. Даже как будто дремлет по–временам. Анна сидит на сундучке, перевязанном веревкой, перед ней стоит Зепперль. Он и Фриц в военной форме. В комнате много винтовок по углам. Пулемет около двери.
Зепперль. И надежды терять нечего. Я сразу догадался, когда увидел стариков и тебя, что вам пришла в голову романтическая мысль погибнуть вместе с нами. И вот на зло вашему пессимизму вы будете свидетелями нашей победы.
Анна. Я никогда не отчаиваюсь. У старого товарища Штарка действительно, так сказать, героически похоронное настроение.
Зепперль. Все пустяки. Галликания накануне революции. Я буквально каждый час жду радио из Лютеции об образовании социалистической галликанской республики. Затем и здесь у нас повсюду связи. Вплоть до войск генерала Грехта.
Фриц Штарк. Анна, это все правда. Зепперль говорит правду. И в победе нашей в конце концов никакого сомнения быть не может. Но нам нечего обманывать друг друга и готовить себе разочарование. Если какое–нибудь чудо выручит нас, будет время радоваться. Но лучше быть готовым к худшему, т.–е. к временному разгрому дела и к окончательному уничтожению лиц. И сейчас моя забота, чтобы мы умерли агитационно, плодотворно… (Пауза.) Зепперль, нечего тешить Анну вероятностями. Она — храбрая девушка. Я страшно устал, это мучит меня больше всего. Надо откуда–то почерпнуть сил… Но я рад Анне и старикам. Надо, чтобы все знали, что наши старики, наша подруга не бегут отсюда, а собираются сюда страдать и умереть. Теперь наш реализм и наша трезвость в романтике. Пришел час быть героями. (Пауза.) Хочется спать. Но если я засну, то — крепко, а кто знает, что может случится. Что, Зепперль, дружище, не думаешь ли ты, что я могу заснуть хотя на минуту, хотя в кресле?
Зепперль. Все тихо. Спи. Я разбужу тебя, как только будет в том малейшая надобность. Пойдем, Анна.
Анна. Я посижу здесь. Спит старик. Пусть поспит и Фриц. А я побуду около него. Я так долго его не видала. И так скоро, быть может, не буду в состоянии его видеть.
Фриц (улыбаясь, почти сквозь сон). Хорошо сказано, Анна, моя любовь! Моя красавица. Меня фатально клонит ко сну. Приснись мне… (Опрокидывает голову в кресло.)
Анна. Зепперль, неужели нельзя устроить его поудобнее?
Зепперль. Чепуха. Нам не до комфорта. Пусть поспит хоть так, последние 4 суток он ведь ни минуты не спал. Я пойду наружу. Чуть что, я его разбужу… (Уходит.)
(Анна встает, подходит к окну. Смотрит. Возвращается. Берет винтовку, взвешивает ее на руке, осматривает замок. Прицеливается. Ставит ее опять в угол. Подходит к карте и рассматривает ее.)
Фриц. Анна. Я не сплю. Давай говорить. Я думаю, Анна, что мы погибли. Ты думаешь — это усталость? Нет, усталость может только попытаться помешать мне показать, как надо умереть смертному солдату бессмертной армии. Но ей не удастся это. Я знаю, что в какой–то тайной пороховнице у меня сбережен еще последний запас пороха.
Анна (подходит к нему и крепко его целует). Мой… наш Зигфрид.
Фриц. Ну, так ты наша Валькирия. Как ты красива! Ты не должна достаться им. Непременно убей себя, когда увидишь, что нет спасения. Все–таки плохо, что вы пробрались в нашу мышеловку. Ты могла бы жить и работать для партии. Ну, в сторону, кто здесь — должен думать о борьбе до смерти, о смерти, как акте борьбы. Анна, пуще огня боюсь, чтобы кто–нибудь не струсил. Надо, чтобы защита Граубергена стала по меньшей мере рядом с защитой Парижа в 1871-ом.
Анна. Спи, милый. Фриц. Хочется говорить с тобой.
Анна. О каком чуде ты говорил?
Фриц. О чуде?
Анна. Что чудо могло бы выручить нас.
Фриц. А! Не то, чтобы чудо, а одна чудовищная глупость, которая, впрочем, возможно могла бы нас спасти.
Анна. О каком чуде ты говорил?
Фриц. Если бы Беренберг и его генералы, не дожидаясь нашей гибели и проникшись верой в ее неизбежность, устроили бы переворот в Махтштадте.
Анна. Я слыхала немало о такой возможности от товарищей.
Фриц. Да… мы имеем маловато сведений, но вероятность есть. Говорят, будто Фрей начинает бояться офицерства и даже принимает меры. Обезьяна. Меры, которые он может принять теперь, могут только ускорить взрыв. Всю силу он отдал им… Этот вьюн обречен на то, чтобы попасть в генеральскую уху.
Анна. А Европа?
Фриц. Ну, она подремлет еще годика два, если мы не победим. Восток кипит тоже. Но все это длительный процесс. Восток и Запад подадут друг другу руки над нашими головами.
Анна. Неужели ты думаешь, что кто–нибудь сможет дрогнуть? Я чувствую в себе такую неизмеримую гордую готовность умереть, что мне почти сладко.
Фриц. Нет, пусть будет грустно и горько. Жизнь хороша. Ты… одна ты чего стоишь, моя невеста, пояс которой я не развязал. Пусть будет велика жертва перед сердцем каждого — но пусть твердо и серьезно принесет он эту жертву, не я, не ты, а мы.
Я буду я, но лишь отчасти
И не хочу я в «я» тюрьмы.
Пусть в «я», как в центр, сплотятся страсти,
Но я, как в центр, — вольется в «Мы».
Анна (целуя его). Твои призывы и песни не умрут. Только все ли ты записываешь?
Фриц. Некогда, Анна. Некогда и думать об этом.
Анна. Не правда ли, ты и о любви думаешь мало? О нашей.
Фриц. Думаю мало. Что тут думать, но она, как солнце летом, все собою пронизывает в моей жизни. Анна, половину силы я черпаю из моего счастия. Моего собственного, только моего. Я этого от тебя не скрываю. Когда товарищи говорят: «Фриц Штарк у нас молодец», я посмеиваюсь. Менее всего это заслуга Фрица Штарка. Разве его заслуга, что его любит самая лучшая девушка Нордландии? Ну, целуй меня!.. (Целуются.) Вот так. Анна, золотая, крепкая, опьяняющая, желанная, вот так. Подумай, какое блаженство дала бы мне победа. Как мне не бороться за нее с бешенством? Вот тебе еще пара строк из песен моего сердца, которые сами у меня растут за делом:
В даль смотрю — она туманна.
Но плыву наверняка,
Ведь в руке твоя рука,
И на жизнь и на смерть, Анна.
Стой! Слышишь сигнал? Что–то случилось…
Зепперль (вбегая). Несомненное наступление со стороны Альтклостера.
Фриц Штарк. Лошади готовы? Собери–ка поскорей 3–4 человека из центрального военного совета, мы поедем туда сами. Сеть блокгаузов и заграждений там недурна, но парни оставляют желать лучшего. Ну, все преобразуется, Анна… (Целует ее в лоб.) Прощай, на всякий случай. Покорми стариков. Скажи каптенармусу, чтобы он не пожалел картошки и даже соли. Старикам не говори, что я в бою, особенно маме. Если появится Юлий, — сказки, что сегодня он в отпуску на 24 часа… (Уходит с Зепперлем.)
Анна (стоит, слегка ошеломленная). Нельзя примириться… Он изумителен… Он должен жить… Тысячу раз умру за него… Но разве это его спасет?..
(Входит старик Бибер.)
Анна. Кого я вижу. Товарищ Бибер! Старость не помешала вам быть в рядах бойцов? Поздравляю.
Бибер. Видете, тут был мой сын… мой Петер… он ведь у меня был один… всю войну я дрожал за него. Уберегся. Тут пошел за Штарком. Был ранен… я получил весточку. И так, как вы теперь, отправился в путь–дорогу и пробрался сюда. Трудненько было. Прихожу. Где Петер? Во втором госпитале. Иду. Петер Бибер умер 2 дня тому назад. Похоронен в общей могиле. Над общей могилой я постоял. Вот и все. Сейчас служу при кухне. Помогаю. Жду смерти. Жить не хочу и не могу. Сломался. Узнал, что старик Штарк приехал сюда, — пришел проведать.
Анна. Да, товарищ Макс Штарк придет сейчас сюда.
Каптенармус. Ну, товарищи, подавать, что ли?
Анна. Давайте, товарищ,
(Каптенармус уходит.)
Бибер (садясь). Да… я с ними поговорю насчет сына. А с вами, если позволите, поговорю о деле живых.
Анна. Я вас слушаю, товарищ Бибер.
Бибер. Вам не жаль всех наших молодцов и, в частности, Фрица?
Анна. Ну, еще бы, товарищ Бибер!
Бибер. Ах, товарищ Анна, посоветовали бы вы им бросить это дело. Не пришли сроки, зачем им погибать?
Анна. Если они погибнут, товарищ Бибер, то именно потому, что не пришли сроки.
Бибер. Уговорите их, Анна. Ведь я знаю, что многие из них держатся ложным стыдом: стыдятся друг перед, другом и перед своим новым молодым вождем.
Анна. Неужели?
Бибер. Несомненно. В память сына, я хотел бы спасти их. Стоит сказать слово, чтобы мы сдались на хороших условиях, — и дело в шляпе. Солдаты Гехта — ведь это наши же товарищи, им жаль и себя и нас, и хочется мира. А Фрей? Ведь это же социал–демократ. Ну, есть у него, так сказать, рен направо… а что бы вы сказали о министерстве, в котором Биссель и Фриц Штарк и, может быть, и старый Макс, получили бы портфели рядом с Фреем? Вот тогда бы взошло солнце над Нордландией. (Пауза.) И так думают многие. Потому что это мудро… Это жизнь. Остальное — упрямство и смерть. (Пауза.) Вы такая красавица и умница, Анна. Вы должны иметь неизмеримое влияние на товарища Фрица. Пустите это влияние ваше в ход. Иначе, право, вы будете тоже косвенной убийцей и его, и всех молодцов… Поверьте, о себе я не думаю. Мне хочется смерти… Но они… они, как мой Петер, для жизни… (Плачет.) Все ослепли, что ли? Мир так близок… Помогите, Анна!
Анна. Нет, товарищ Бибер.
Бибер. Нет?.. Вы не хотите тихонько отвести их от могилы?
Анна. Нет.
Бибер. И вы в плену у того же демона гордости?
Анна. Товарищ Бибер… другого я бы презирала за такой совет. Но вы даете его от доброго сердца. Только, поверьте мне, вопрос стал так: победить или умереть! Товарищ Бибер, умереть — значит помочь грядущей победе, а сговориться — значит убить победу во имя своего личного спасения.
(Входят Макс и Эмма.)
Макс. Где же Фриц?
Анна. Занят. Скоро придет. Ба! Бибер, старый друг! Присаживайся. За стол, друзья мои! Вот товарищ каптенармус несет миску.
(Каптенармус ставит на стол большую суповую чашку.)
Каптенармус. Картошка, вода и соль, больше ничего. Да и того не вдоволь.
Макс. Мы не пировать приехали… (Садится за стол.) Как живешь?
(Во время дальнейшего разговора все едят.)
Бибер. Плохо. Потерял сына.
Макс. Где?
Бибер. Здесь. Умер от ран, полученных при защите Граубергена.
Макс. Старина, ты не потерял сына, ты его обрел. У меня два: Фриц и Юлиус. Если они падут, как твой — буду горд. Нам всем не житье. Настоящая жизнь придет ценой наших страданий. Кто промаялся и подох на кровати — пожалеть надо, кто боролся и пал в поле битвы за будущее — порадоваться! Сейчас до победы счастливым может быть только негодяй.
Бибер. Я давно знаю, что ты хорошо разговариваешь, Штарк, я не желаю тебе моего горя, но желаю, чтобы красивые слова помогли тебе пренести его легче, чем я несу свое. (Входит Юлий.)
Юлий. Мама, папа!
(Об’ятья, поцелуи.)
Макс. Возмужал. Молодец, Юлий. Анна… Поцелуемся?
Анна. Конечно… (Целует его.) Между прочим, Фриц сказал, что тебе дан отпуск на 24 часа.
Юлий. Какой отпуск? Я хочу сейчас же итти к Альтклостеру. Фриц лично командует там, а это значит, что дело рискованное.
Эмма. Как, Фриц сражается сейчас, сию минуту?
Макс. Всегда, старуха. Юлий, беги к брату, беги, не теряй ни минуты!
Юлий. Конечно. Я много раз бывал ему полезен в таких переделках. Я несу службу связи. Но мое главное дело — распространять литературу в рядах белой армии. (Целует мать и быстро уходит.)
(Эмма вдруг плачет.)
Макс. Видишь, Бибер? Это старая женщина, хорошая работница и моя подруга жизни. Она плачет, горюет, как ты. Я не фарисей. Я не осужу тех, кто кричит от боли, причиняемой им их ближними. Но сам я хочу и буду стоять выше этого. Мы творим историю. Мы всю, жизнь готовились к таким дням. Мы — старые ученики Маркса и Энгельса.
(За окном раздается музыка. Все бросаются к окнам. Музыка.)
Голоса (за сценой). Урра!
Анна. Фриц возвращается и Юлиус с ним. Какая радость!
(Входит Фриц, Юлиус и несколько вооруженных коммунистов.)
Фриц. Ха–ха–ха! Этот раз мы их отбили. Юлий опоздал к хорошей стычке. Руку, отец! Ничего, полк Энгельса дрался на этот раз недурно.
Макс. У нас есть полк Энгельса?
Фриц. Есть. Это были плоховатые ребята. Туда набрались случайно довольно дряблые товарищи. Один раз они побежали с железнодорожного моста и чуть не отдали его. Надо было их подтянуть. Сначала я думал было расформировать полк, а потом вдруг догадался рискнуть, выставил их и говорю: «Отныне ваш 4-й красный пехотный полк будет называться полком имени Энгельса. Неужели кто–нибудь из вас осмелится посрамить такое имя?» Действительно, они сильно подтянулись.
Макс. Браво, браво, Фриц!
Фриц. А заметили вы, товарищи, что сегодня непосредственная атака была очень слаба! А ведь это 141-й шел против нас, чисто кулацкий полк.
1-й коммунист. Несомненно, они слабеют.
Фриц. Но мы тоже. Якоб рассказывал мне, что вчера было даже какое–то тайное собрание насчет мира с Фреем. И там было несколько сот человек. Вот это худо. Митинговать нам теперь, конечно, некогда. Но я считал бы необходимым сейчас же собрать сюда представителей от всех частей. Да не комиссаров, а по два от каждой части по особому выбору. Поговорим хотя с ними.
Макс. И я скажу парням пару слов.
Фриц. Непременно, отец.
Юлий. В сущности, мы ведь все кормим товарищей надеждами. В это перестали верить.
Макс. Перестали верить? Вот как?
Фриц. Не кипи, отец. Они правы. И я повернул руль. Я последнее время не говорю о надеждах. Я говорю прямо, что нас ждет гибель. Это действует гораздо лучше.
Макс. Но самая гибель должна быть чувствуема, как радостный подвиг.
Юлиус. И я уверяю тебя — большинство из нас именно так живет теперь.
Эмма. Фриц, какой у тебя усталый вид.
Фриц. Я уже не устал. Бой встряхнул меня.
Анна. Тут все имеют усталый вид.
1-й коммунист. Отдыхать некогда.
2-й коммунист. Скоро успокоимся все.
Юлиус. Дни и ночи идут, жуткие, громовые и величественные.
1-й коммунист. Кто действительно свыкся со смертью и не потерял рабочей совести — тот начинает расти. Я утверждаю, если кто переживет эти дни — выйдет крепким и будет вспоминать осаду Граубергена с благоговением.
3-й коммунист. Я уже привык смотреть на себя, на нас, как на историю. Я иной раз чувствую себя, словно на сцене. На ней убивают вправду, но держаться надо красиво: века смотрят.
Фриц. Если бы все думали так.
(Во время этого разговора комната наполняется солдатами. Входя, они отдают честь, рассаживаются по лавкам, группируются в кружки.
Слышен сдержанный говор. Настроение сумрачное, серьезное.)
Юлиус. Почти все собрались. Скажи им, Фриц.
Фриц. Товарищи, мне говорят, что несколько слабых из наших рядов толковали сперва на частном собрании о каких–то условиях сдачи.
(Пауза.)
Голоса (неохотно). Слыхали.
Фриц. Сходные условия. Уж не согласен ли Франк Фрей на провозглашение власти Советов? Может быть, в самом деле, не победив в бою, мы победам всю банду наших врагов переговорами? Не воображаете ли вы, что настоящий господин в лагере врагов — капитал — вдруг добродушно согласится, что ему пора умирать и завещает нам, своим наследникам, весь мир? Нет, борьба между нами и ими непримирима! Сдаться — значит не только перенести величайшее унижение, но и совершить предательство всех темных, которые еще колеблются, и, быть может, целого ряда грядущих поколений. Быть может сходными условиями те парни, что толковали в «Золотом Кольце», считают спасение жизни ценою предательства? Но если презирают труса, не умеющего отстоять грудью свою жену и детей, то во сколько тысяч раз презреннее трус, изменяющий такому идеалу, как наш: мировому, горящему, дающему смысл всему бытию? Какую жизнь дадут вам эти «сходные» условия? — жизнь, омраченную сознанием своей подлости! Неужели есть кто–нибудь, считающий ее лучше смерти. Если есть такой, то он хуже скота, он не человек для меня и, надеюсь, для вас!.. Я смотрю на ваши суровые лица, я вспоминаю все, что мы пережили и спрашиваю себя: ужели есть среди вас хоть один, кто, получив на грошик такой надорванной и унылой жизни, продаст за нее все, чем мы любовались и гордились, все, для чего умерло столько дорогих нам людей?
(Все слушают молча и напряженно. В этом месте кто–то неожиданно срывается криком: «Никто этого не сделает». И сейчас же со всех сторон поднимаются крики: «Никто, никто, никто», «Умрем все», «Долой изменников».)
Фриц. Их нет! Товарищи, я вас не обманываю. Все говорит за то, что мы погибнем, но все, что можно сказать об этой гибели, старался я вложить в те слова Интернационала, который вы называете Интернационалом смерти. Споем их, товарищи, и пусть сегодня их будут повторять во всех частях нашей армии. Итак…
Хор
Вперед, герой войны священной.
Черна, как ад, над нами твердь.
Вперед с душою неизменной…
Герой, ты обречен на смерть!
Надежды для детей сияют,
Ты грудью им проложишь путь!
Для нас могилы лишь зияют,
Герой, надежды позабудь…
Ждет нас скоро смертельный
И решительный бой.
Уйди же из жизни,
О, брат мой, как герой!..
И если ночь сомкнет над нами
Свою тяжелую волну
И меж отцами и сынами
Проложит не одну весну —
Пускай цветет до новой сечи
Рабочей славы красный мак
И будет чист, и свят, и вечен
Омытый нашей кровью флаг.
Ждет нас скоро смертельный…
Молодой коммунист (вбегая). Товарищ Штарк, товарищ Штарк! Радио! Радио! Огромной важности.
(Подает ему лист бумаги. Все дрожат от волнения.)
Фриц. Слушайте: «В ночь на 12 августа по моему приказу Махтштадт об’явлен на военном положении. Бывший президент Фрей и его министры арестованы».
Голоса. Поделом Фрею!
Фриц. «Во главе временного правительства становлюсь я — генерал Беренберг».
Голоса. Долой Беренберга!
Фриц. «Пришло время восстановить честь Нордландии и порядок. Все добрые граждане будут приветствовать правительство честных патриотов».
Голоса. Бей честных патриотов!
Фриц. «Генерал–от–кавалерии Эвергард фон–Беренберг».
(Сразу множество криков. Одни полны бешенства, другие громко смеются.
Чувствуется смятение.)
Голоса.{
Долой Беренберга!
Так я и ждал.
Разве мы не предсказывали торжества реакции?
Не надолго.
Поделом Фрею.
Волки пожирают лисиц.
Бей честных патриотов!}
(Смех.)
Фриц. Это не все. Вот другое радио от представителя американских журналистов в Махтштадте. «Президент Франк Фрей бежал за границу. В Махтштадте распространяются его прокламации с призывом бороться против реакции. Положение правительства генералов — шатко. Электричество, газ, водопровод, трамваи остановились. Рабочие баррикадируют предместья».
Голоса. Ага!
Фриц. «Войска разбились на партии. Дисциплина военных частей стремительно падает. Очень возможно, что распря умеренных социалистов с представителями господствующих классов окажется крайне выигрышной для крайне левых».
Голоса (громко). Ура! Ура!
Фриц. Знают ли они там об этом? В армии Гехта многие поймут теперь, куда их вели.
Юлиус. Товарищи, сейчас же надо напечатать это радио и наши воззвания. Я сам разбросаю их с аэроплана.
(Убегает.)
Фриц. К частям! Осведомить их! На работу!
Макс. Это не так неожиданно.
Фриц. Старик, кажется, мы победили…
Зепперль. Стойте, товарищи. Теперь, прежде, чем вы разойдетесь, надо пропеть Интернационал победы.
Хор.
Вперед, рабочий. Те, кто седы
Увидят красную зарю,
И юный смеет в день победы
Сказать: и я тебя творю.
Уж солнца всходит щит пурпурный
Над обновленною землей
И после рева битвы бурной
Под’емлет радость голос свой.
Ждет нас скоро победа.
Старый мир, догорай!
В пожарах родится
Земной, цветущий рай.
(С ликующими криками расходятся.
Остаются Макс, Эмма, Анна и Фриц.)
Фриц. Ну, старина! Ну, Анна! «Чудо произошло». Они наглупили. Никаких сомнений, все, что колебалось, все, что верило в середину — качнется к нам!.. Напрасны надежды Беренберга на штыки. Много ли их у него? Развал начинается преждевременно. Шансы колоссально выросли.
(Входит Зепперль.)
Зепперль. Фриц Штарк, повидимому, в лагере Гехта узнали о перевороте. Наблюдается смятение. Со стороны Катценгаузена приближаются парламентеры, как передают оттуда по телефону.
Фриц. Парламентеров, конечно, принять.
Зепперль. Должен сказать вам, что Юлиус устроил сумасбродство: так как свободного аэроплана не оказалось, то он поскакал на лошади прямо к ним. Он словно с ума сошел. Рвался рассказать им о перевороте. У него там связи. Он знает кое–кого, кто шатался.
Фриц. Экий мальчишка. Ведь может пропасть зря.
Макс. А мне нравится эта горячность.
(Входит летчик.)
Летчик. Товарищ Штарк, я только что прибыл сюда, и только что узнал, в чем дело, а я недоумевал до крайности. На позициях белых явный разлад. Огромные митинги. Только что кое–где началась перестрелка. Я совсем снизился: никто не обратил на меня внимания.
Фриц. Все это великолепно.
Зеппель. Не двинуть ли нам генеральную вылазку?
Фриц. Боже сохрани! Это будет в руку генералу Гехту. Не надо нервничать… Мы не будем мямлить, но надо, чтобы положение выяснилось…
(Входит первый коммунист.)
Первый коммунист. Товарищ Штарк. Комендант Катценгаузена сообщает, что прибыли парламентеры от саперов и артиллеристов восточных позиций неприятеля. Они предлагают перемирие и переговоры об об’единении сил против коалиции.
Фриц. Во имя Фрея?
1-й коммунист. Нет, ничуть. Они согласны на создание чисто рабочего правительства. Мы тут сидели без известий, а там, повидимому, уже давно видно было, как растет заносчивость Беренберга и каким шутом оказался Фрей. Ребята все яснее видели и куда их толкают, и для кого они таскают каштаны из огня…
(Под самым окном поют «Интернационал».)
Фриц. Пускай идут сюда. Собери центральный совет, дружище.
1-й коммунист. Сию минуту.
Макс. Этого я не ожидал… Мы идем к победе… Сейчас. Вот тут, при моей жизни.
Анна. Предсказания Зепперля сбылись. Торжественно–похоронное настроение было не к месту: хотели умереть, а приехали!..
Фриц. На свадьбу, Анна. Правда? Уже теперь то мы урвем часочек для личных дел.
Анна. Вы как будто чем–то обеспокоены, мама?
Эмма (улыбаясь). Ничего, ничего, я только немножко беспокоюсь за Юлиуса.
2-й коммунист (входя). Товарищ Штарк. Чудесные вести: на западном фронте братаются. Гехт с несколькими батальонами отступает к своему Беренбергу. Огромное большинство армии против реакции. Идут митинги и переговоры между умеренными, которые теряют, и сочувствующими нам, которые растут. Какая перемена!
Фриц. Я приму парламентеров, а потом сам пойду туда, в армию Гехта.
2-й коммунист. Пожалуй, что будет уже время.
3-й коммунист (входя). Товарищ Штарк, я с глубокой скорбью сообщаю вам, что товарищ Юлиус Штарк убит выстрелом неприятельского секрета в то время, как он ехал для переговоров к позициям врагов сообщить о событиях.
(Минута молчания. За окнами в отдалении поют: «Вперед, рабочий! Те, что седы»…)
Макс (обнимает жену). Старуха… Старуха… Не урони этот час… Горько… горько, но он умер прекрасной, молодой смертью. Радуйся победе, старуха, которая… которая… (Улыбается.) Плачешь? (Плачет сам.) Это потому, что мы стары и любили очень… (Плачет.)
Анна (Фрицу). Бедный, бедный Юлиус! Скажи им что–нибудь, Фриц!..
Фриц. Отец сам все скажет.
Макс. Мы только немного поплачем. Мы — люди, этого нечего стыдиться, но мы не ропщем, мы согласны. Слышишь, слышишь, старуха? Победа. Их много, Юлиусов, как наш, и все они будут счастливы скоро, большим, благородным братским счастьем — и он послужил этому. Да, старуха?
Эмма. Да, мой милый, да… (Целует его, обнимая дрожащими руками и заливаясь слезами.)
1-й коммунист. Парламентеры здесь, парламентеры здесь.
Фриц. Отец, выйди в ту комнату, успокойся, утешать тебя я не хочу. Ты сам все понимаешь.
Макс. Нет, я не уйду, я хочу слышать, что они скажут. Ты думаешь, я слаб? Да разве мой Юлиус простил бы мне, если бы я был слаб в такую минуту?
3-й коммунист. Парламентеры прибыли.
Фриц. Введите парламентеров.
ЗАНАВЕС.
КАРТИНА ДЕСЯТАЯ.
Курорт в теплых краях. Пальмовый сад. Справа столики кафе. Налево одинокая скамья под большим платаном. В глубине сцены лестница, спускающаяся к городу. Вдали море и небо. В саду мало народу. Толстяк сидит за столиком. К нему подходит гарсон.
Толстяк. Что так мало народу сегодня?
Гарсон. Начинает пустеть и у нас, мосье. Господа эмигранты проелись… пропились… К тому же у нас в городе неспокойно. Ведь и у нас есть рабочие.
Толстяк. Неужели и у вас неспокойно?
Гарсон. Уверяю вас. А вот недели три тому назад было еще очень весело, даже так весело, как никогда. Пир во время чумы, мосье!.. Но костер догорает, мосье. Взгляните туда, вы видите этого молодого человека в смокинге? Вы узнаете его?
Толстяк. Неужели это император Нордландии?
Гарсон. Это он, мосье. Как он прожигал жизнь, а сейчас, видите… пасмурен. Он слишком тратился и транжирил. Извиняюсь, мосье. Он садится за столик. Я иду к нему. Что вам будет угодно?
Толстяк. Вермут и сельтерской.
Гарсон. Слушаю… (Отходит.)
(Входит император в элегантном костюме с пальто, перекинутым через руку. Садится за столик кафе, зевает и закуривает сигару.)
Гарсон. Вашему величеству?
Император. Никаких величеств. Финь.
Гарсон. Газету?
Император. Никаких газет.
(Гарсон уходит. Франк Фрей проходит мимо в пальто с тросточкой, которой он развязно помахивает.)
Император. Президент?
Франк Фрей. Император?
Император. Позвольте угостить вас коньяком?
Фрей. Охотно… (Присаживается.) Как сегодня игралось?
Император. Проигрывалось. Вы тоже играли?
Фрей. Ничтожно. Никаких рессурсов. Я ведь не мог увезти с собой, как вы, чемодана с золотом, и текущих счетов у заграничных банкиров у меня нет.
Император. А у меня…были. Если бы вы знали, какой я теперь пролетарий. Просто хоть в профессиональный союз записывайся.
Фрей. Неужели?
Император. И нисколько не унизительно. Старый осел канцлер когда–то говорил: вы и при поражений будете царственны. Желал бы я видеть, как это делается. Но я нахожу своеобразное утешение в легкомыслии самого высокого полета. Пожалуйста, смотрите: вы, вероятно, скоро увидите императора в заплатанных сапогах, императора, ночующего на скамье бульвара. Императора, который даже у проститутки должен просить поцелуй из милости.
Фрей. Разве Дорнбах не был прав? Вы и в таком виде будете эффектны. А я? Когда я проем мемуары, чем мне заняться? Мелкой адвокатской практикой? У меня одна надежда, что Нордландия оправится, выйдет на дорогу, и они позовут меня, ну, хотя товарищем министра юстиции или что–нибудь в этом роде…
Император. Сделайте им поскорее предложение. Видите — вот этого утешения у меня нет. Попадись я в их руки — они сделали бы со мной то же, что с беднягой Беренбергом.
Фрей. О, это поделом! За его расстрел я способен многое простить этим эфиопам.
Император. Итак, скоро мы умчимся в Махтштадт? Почему нет. Рабочее правительство в Лютеции, рабочее правительство в Гритпорте… и все там вроде вас, Фрей, они будут для вас посредниками.
Фрей. Это не так невозможно. Но отнюдь не сейчас. Сейчас они так оклеветали и осмеяли меня, что, кажется, нет в Нордландии имени, позорнее имени Франка Фрея.
Император. Ха–ха–ха!.. Простите, но это доставляет мне некоторое, довольно приятное удовольствие.
Фрей. А между тем, я все–таки великий человек.
Император. Когда–то этому почти верили.
Фрей. В этом сомневаются только поклонники успеха.
(За сценой раздается вальс).
Император. Слышите, какой милый вальс? Ах! Как, хотелось бы, чтобы все было снова… Чтобы все было по–прежнему. Но это синее небо, услужливость гарсона, сигарный дым, коньяк и вальс не могут скрыть, что действительность кошмарна и что кошмар все растет.
(Мимо проходит Митси с двумя пожилыми господами. Они смеются и болтают.)
Император. Подождите, мои глаза не обманывают меня? Это Митси… Митси Гаторп. Митси!
Митси (вдруг останавливается в своем хохоте. Всматривается в него. Император быстро подходит). Мой милый друг! (Целует его. Своим провожатым.) Это император Нордландии, мой друг. Видите, как мы запросто с ним. А вы не хотели мне поверить, что я графиня? Они принимают меня за обыкновенную кокотку.
Император. О! (Приподнимает котелок.) Уверяю вас, мосье, что это кокотка необыкновенная.
(Господа смеются, раскланиваются и удаляются.)
1-й господин. Неужели это император?
2-й господин. Да. Он ужасно полинял и облез.
Император. А г–н президент? Ты не узнала его, Митси?
Митси (оборачиваясь к нему). Боже, Франк. Какое свидание друзей. Прикажите и мне подать коньяку. (Садится.) Как поживаете, Франк?
Фрей. А как ты попала сюда, Митси?
Митси. Где же мне быть? Понемножку все с’езжаются сюда. Я расскажу вам премилую историю, мои дорогие. Когда Франк бежал и бедный Беренберг стал править — я была ужасно зла. Мне жаль было Франка. Ведь вас обоих я любила. Что Беренберга, то при всех его фразах и щегольстве культурой — это был морж и больше ничего.
Император (смеясь). Стар… толст…
Митси. Но, мои дорогие… Я стала чем–то вроде атрибута власти в Нордландии. Я, так сказать, официально не могла отказать ему… Ха–ха–ха!.. Кто даст мне покурить? Ты, президент, ну, спасибо. (Курит.) Так вот… Это было скучно. Вдобавок он ревновал… Да… Этот Отелло, представьте себе, ревновал меня к моему кучеру, даже к моему мужу, наконец, даже к че–че–человеко–ко–свинье, к Петлицу!
Император. Все это забавно. Гарсон. Еще финь, живо!
(Гарсон подает).
Митси. А коммунисты все ближе. Вы помните, как было дело. Все переходили на их сторону, потом выборы в Альбионе, рабочее министерство. Признание социалистического правительства в Нордландии, взятие Махтштадта коммунистами. Мой генерал выходил из себя, расстраивался, бушевал и… опоздал бежать! Когда же все железные дороги были перехвачены и повсюду были красные — он вдруг приглашает меня уехать. И я ему ответила, как в сказке: я была с императором, он бежал, я не уехала. Я была с президентом, он бежал, я не уехала. Неужели с тобой уеду? Тогда это чудовище стало меня бить. Да. Да! Он бил меня… прямо кулаками. Он ускакал, был пойман, его судили и — пиф–паф.
Фрей. Прекрасно сделали.
Митси. Я не плакала.
Император. То же сказал бы он, если бы это сделали с вами обоими.
Митси. Я осталась в Махтштадте. Но вот в Кронпалас переезжает председатель Совета Народных Комиссаров: молодой, хорошенький, эффектный, кумир народа, поэт, полководец, слесарь, журналист, оратор, новый человек, универсальный представитель истинно–рабочей интеллигенции, наше чудо–юдо — Фридрих Штарк. Милые мои! Я старалась похорошеть всячески. Наконец, надев скромное черное платье и взяв в руки просьбу о снисхождении и помощи, я отправилась к нему. Правдами и неправдами, слезами и улыбками — я у него на приеме. Сердце мое бьется. Я помолодела на 5 лет.
Фрей. Ну, ну, Митси. Хорошо бы и на все 15,
Митси. Грубиян. Слушайте, император. Вхожу. Он не в вашем кабинете принимает, а в каком–то бывшем экзекуторском, что ли…
Официален сначала. Официален до ужаса, как председатель коронного суда, Я говорю, говорю… А он прерывает: «довольно, по правде сказать, я не принял бы вас, но хотелось на вас взглянуть. Я распоряжусь, чтобы вас пустили за–границу. Может, вы там кому–нибудь пригодитесь».
(Император и президент хохочут.)
Митси. Да. Да. Мне это прямо понравилось. Я всегда любила, когда мужчина резок и даже немножко презрительно жесток… Может–быть, там вы кому–нибудь пригодитесь…
Я бормочу: «я надеюсь быть еще здесь полезной». А он: «кто там еще ожидает, товарищ секретарь»?
Фрей. Так что не выгорело?
Император. Митси вымели, как и вас.
Фрей. Как вас тоже, ваше величество…
(Мальчик газетчик пробегает мимо).
Газетчик. «Европейский курьер»! Интервью с председателем Совета Народных Комиссаров Нордландии Фридрихом Штарком! Фридриф Штарк о будущем Европы! «Европейский курьер»! Всеобщая стачка в Бельмарине! «Европейский курьер»! (Пробегает Петлиц.)
Император. Каково!
Фрей. Да, и здесь стачка. (Задумчиво.) Я чуть–чуть не рассчитал… Я, так сказать, немножко перехитрил.
Император. Слушай, Митси, ты давно здесь?
Митси. Нет, я была в разных местах.
Император. Чем ты живешь?
Митси. Нескромный вопрос.
Император. Но у тебя много денег. Я вижу, ты не продала своих бриллиантовых серег.
Митси. Ведь есть еще богатые люди и со вкусом.
Император. Митси, во имя старой дружбы, дай мне взаймы тысяч 20 франков. Но только сейчас же, потому что я хочу играть сегодня вечером.
Митси. В самом деле, помочь тебе отыграться? Ха–ха–ха–ха!.. Нет. Разве за все время нашей близости ты не разглядел, что я не дура. (Встает.) Нет, дорогой друг, тебе — ничего… А Франку… О, Франк, помнишь наши опьянения и восторги… Франк, если ты хочешь их вспомнить, приходи в Grand Hotel № 33… вечером. Ночью даже. Предупреди только заранее по телефону, Франк, я часто слишком занята. И не бойся: тебе это ничего не будет стоить.
(Хохочет и уходит. Император и Франк Фрей некоторое время молчат.)
Император. Сколько у вас есть сейчас в кармане? Притом золотом.
Фрей. Ничего нет. А если бы были, то на игру я не дам вам.
Император. Ну, так заплатите за коньяк.
(Входит канцлер в черной широкой одежде, опираясь на плечо Лары, бедно одетой.)
Император. А вы, господин филин. Это я, император, говорю с вами, проклятие вам! Я никогда не забуду послать вам лишнее проклятие. (Встает, говорит Фрею.) Я люблю дразнить эту старую развалину.
Фрей. У него очень печальный вид. Фрейлен Лара, мое почтение. Пойдемте, император. На них тяжело смотреть.
(Император и президент уходят.
Канцлер и Лара проходят медленно через сцену и садятся на скамью под платаном.
Пауза.)
Канцлер. Кто был с нами? Лара. Фрей.
Канцлер. Так… Лара, ты очень больна, у тебя горячие руки.
Лара. Да. К чему вы говорите это. Я больна. Я, слава богу, скоро умру. Что же из того? Быть вашей Антигоной мне не под силу больше… Надоело… А бросить вас — тоже не хватает духу. Смерть меня выручит.
Канцлер. Лара… Я уверен, что коммунистическое правительство охотно позволило бы тебе вернуться в Махтштадт. Там у тебя друзья… Там…
Лара. Молчите. Будем молчать.
(Подходит Петлиц.)
Петлиц. Я издали заприметил вас. Если не ошибаюсь, г–н канцлер и его Антигона. О, трогательно. О, умилительно. Я — Петлиц, ваш бывший секретарь.
Канцлер. Здравствуйте, вы тоже эмигрант?
Петлиц. Да… Но не совсем. Я собираю сведения об эмигрантах. Надеюсь, что этот товар окажется подходящим для революционного правительства Нордландии.
Канцлер. Вы до того дошли?..
Петлиц. Почему нет! Я и раньше несколько раз служил в полиции. Но вот новое правительство мне не доверяет. Вы знаете, г–н экс–канцлер, я даже записался в коммунистическую партию, но у них произошла какая–то… перерегистрация и они выставили меня. Кроме того, мы все стали циниками. Ведь нас победили, а принципов у нас нет. В поражении же поддерживают только принципы. Мадемуазель Лара, знаете, что Кеппен сейчас представитель распределительного комитета при Махтштадтской коммуне. Недурно? Правда, он интересовался вами. Спрашивал, где вы сейчас? Впрочем, они почти все устроились, эти господа капиталисты. Гаммер — в Главмыле.
Канцлер. И коммунисты не боятся их?
Петлиц. Нет, это они боятся коммунистов. Были случаи, когда они расправлялись довольно круто. О, это недобрые люди, коммунисты, г–н канцлер. Совсем недобрые люди. Ну, а ваша вера, ваша вера угольщика? Вот это интересно было бы знать, как обстоит дело с вашей верой? (Пытливо всматривается в него.)
Канцлер. Господь испытует. Прекратим этот разговор, Петлиц, оставьте нас…
(В кафе входит Митси с прежними двумя провожатыми.)
Петлиц. А, очаровательная Митси, бегу. Надо пристроиться к ней. Она все еще производит фурор. (Торопливо раскланивается и уходит.)
Канцлер. Новый мир рождается, Лара. Это несомненно. Я не понял бога.
Лара. Молчите.
Канцлер. Я много молчу. Не слушай, если не хочешь. Но это должно быть сказано. Я не понял бога. Все эти страшные вещи, которые прошли через мои руки, мой мозг, мои глаза, мое сердце и через столько других тел и душ — они были нужны Провидению. Новый мир рождается в муках.
(Умолкает.)
Газетчик (пробегая мимо). «Европейский курьер»! Интервью с председателем Совета Народных Комиссаров Нордландии Фридрихом Штарком! Фридрих Штарк о будущем Европы! «Европейский курьер»! Всеобщая стачка в Бельмарине! (Пробегает.)
Канцлер. Купи мне газету, Лара. Ты прочтешь мне, что говорит Штарк о будущем Европы.
Лара. Он пробежал. Мне плохо, я не могу гоняться за газетчиком. Пойдем мимо киоска — куплю. Но мне скучно будет читать все это. Умереть скорей…
Канцлер. Это правда. Особенно относительно меня. Есть смысл или нет — все равно, что я тут? Теперь не надобно больше и моих страданий. Да. Я уже давно в стороне от большой дороги.
(Пауза.
Издали доносится Интернационал.)
Ты слышишь. И здесь поют Интернационал.
Лара. Да. И здесь стачка. Они всюду.
Канцлер. Конечно. Всюду есть труд. Без труда нет общества. И всюду труд превозможет. Рухнет иерархия. Справятся ли они? Или в пожарах жажды правды погибнет среди преступлений и катастроф само человечество? Лара, уйдем. Песня все ближе. Это они идут сюда. Я готов пожелать им побед. Ведь назад не вернешься! Но я ненавижу их! Мыслью стараюсь вникнуть, порою понимаю, как мы приготовили их. Порою мне кажется даже, что они победят. Но вся природа моя против них… Уйдем, Лара… Если ты так хочешь умереть, что нам стоит? — мы можем обдумать разные способы смерти. Помнишь ты, как–то мы говорили об этом с моим мальчиком Робертом. Он рассказывал мне. Помнишь, ты хотела умереть с ним и говорила: уедем, как уезжают в Венецию, в Каир. Странный и печальный спутник твоей молодости этот бедный старик. Ну, уйдем же, они все ближе.
(Музыка и пение Интернационала громче. Снизу багровый отсвет от фонарей рабочего шествия.
Канцлер и Лара уходят направо, как тени.
А снизу от лестницы, словно звезды, выплывают фонари рабочих и работниц, играющих отсветами на красных знаменах. Под рабочую песню опускается занавес. Рабочие поют:)
Хор.
Весь мир слился одним об’ятьем,
Гремит торжественный призыв,
И трубит весть благую братьям
Победа над раздольем нив.
И в глуби шахт, и по заводам
Звенит сверкающая весть,
Теперь склоняется природа
Отдать труду людскому честь.
Скоро ждет нас победа.
Старый мир, догорай!
В пожарах родится
Земной, счастливый рай…
ЗАНАВЕС.