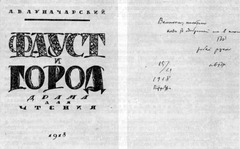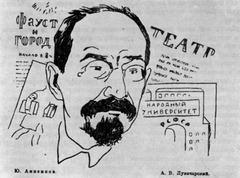От читателя, знающего великого «Фауста» Гете, не укроется, что мой «Фауст и город» навеян теми сценами из второго «Фауста», где герой Гете создает свободный город. Взаимоотношения этого детища гения с ним самим, решение в драматической форме проблемы гения с его стремлением к просвещенному абсолютизму, с одной стороны, и демократии — с другой, — вот что волновало меня долго и звало к работе.
Некоторым лицам, знакомым с моим произведением, кажется, что оно живо отражает опыт нынешней революции. На всякий случай считаю нужным установить, что после декабря 1916 года не произведено ни малейшего изменения.
ПРОЛОГ.
Ночь. Горят ярко звезды. Красный месяц близок к горизонту. На первом плане слева гора, поросшая лесом по склонам, вверху увенчанная голым камнем, острый силуэт которого выдвигается вперед на фоне медного зарева заходящей луны. Внизу долина, где спят невидимые пока город и море.
Мефистофель, закутанный с головой в черный плащ, сидит над самым обрывом. Тишина.
Мефистофель. Мечта! (Вздыхает тяжко.) Мечта. Эта ночь, вся рябая от искр, не преддверие ночи вечной, не возврат к матери, а только поворот земли. В океане эфира ходят, ходят из края в край глупые волны, раскаленные сгустки посылают свет и тепло, зарождают жизнь, чувство, сознание… страдание! Тупая белая корова рожает и рожает и льет в пространство свое молоко, не заботясь о том, что из этого выйдет. Жизнь любит жизнь, хочет жить. Что за парадокс, что за вздорное противоречие, ставящее вечный разум головой вниз! И человек. Его ли не учит ежечасный опыт, что такое их мнимое бытие, эта суета и тревога, эта неустанная судорога, эта неутолимая болезнь. А он хочет жить. Выродок, негодная паршь, недуг земли! Пойди и скажи ему, что истинное бытие есть совершенство и неподвижность, и сон без сновидений, и величавый покой, — и если кто согласится с тобой, знай, что это будет больной ипохондрик, кабинетная крыса, неотведавшая жизни. А остальные станут смеяться. Они даже думают, что умны, эти мелкие черви. Они готовы скалить зубы, слушая вечную мудрость. Посмотрите на Фауста. Разве он не наступил ногою на мою голову, не запряг меня в свою колесницу, этот великий мудрец? Ха–ха–ха! Как ребенок он полоскался в этой луже и строил дамбу из горсти песка и глины, он наставил здесь игрушечных домиков и играет в куклы. Маленький дурак, носящий на плечах пустой орех. Как хочется иногда притопнуть ногой всю эту мелюзгу. Но разве удар стоит самого слабого аргумента? Надо убедить его, убедить этого спесивого и безмозглого карлика. Нелегкая задача. Приходится приседать на корточки, сюсюкать и показывать картинки ради наглядного обучения.
Пусть бы я дохнул на него вечным холодом моим и обратил его в ломкий кусок материи, — разве белая корова не родит нам других Фаустов?
С тех пор, как это произошло, мы — бессильны… Кто знает, когда иссякнет запас мировой тревоги и уходятся волны?
Нет, надо, чтобы Фауст убедился и завизжал от страха, боли и ненависти. Надо, чтобы визг его отравил навеки воздух, которым дышит его племя. Сбрось же черный венец, Мефистофель, иди спорить с кретинами, плети паутину для легкомысленной мошки. Ласкай себя надеждой, что она зажужжит скоро, нудно и беспомощно в твоих сетях, и ты высосешь, наконец, всю влагу жизни из этой полной химер горячей головы. (Пауза.)
Мефистофель, не лучше ли было бы тебе стать эгоистом? Унестись в такой закоулок вселенной, где поменьше видно звезд, и уснуть на коленях матери? Уж не любовь ли руководит тобою, когда ты хочешь спасать жизнь от страданья? Нет. Клянусь матерью! Мною руководит самая святая злоба. Я — орудие. Я хочу доказать. Я хлопочу во имя разума, который есть существо мое. Родилось оно — безумие, родился и я — разум, протест, сознание ошибки, тоска по покою, и я не могу, я должен доказать, я призван поставить разум на ноги. Меня гложет холодное пламя бешенства, когда я вижу самодовольные муки их бытия… Нет мне покоя, нет отпущения, пока горит свет и шевелится движение, и, страдая, мыслит жизнь. Мы придем к тебе, мать, и ты успеешь еще растворить нас в черном океане и дать нам покой бытия неподвижного, истинного.
Мефистофель — идеалист. Он — идеалист, слышите ли вы, глупые звезды? Разрушая, он созидает! Для созидающего разрушения занял он у людей их ухватки и гримасы, тело, одежду, логику, порой, кажется, самое страдание занял у них Мефистофель и зажил заемным теплом и светом, чтобы наполнить ими свою великую тень и стать орудием разложения разложившихся во имя восстановления Единого.
Мой разум иногда путается в лохмотьях их одежды. Хорошо опомниться от времени до времени, постараться перевести на язык человеческой мысли мудрость сверхчеловеческую.
Проклятье! Восток светлеет. Земля, медленно поворачиваясь, подставляет солнцу свою водянистую зеленую щеку и то место, где идет, быть может, значительнейший спор между безумием и вечностью. Солнце идет на помощь своему мелкому отродью. Закроемся. (Закрывает голову плащом.)
Бледный ангел (летит в посветлевшем небе и поет, перебирая струны арфы):
Проснись, красавица земля!
Твой царевич идет целовать тебя.
Проносится тихий ветер (он шепчет растеньям):
Шорох, шелест, трепет
Радостных растений,
Благодатный лепет
Новых пробуждений…
Растения:
Ветерок, шалун игривый,
Лаской гладь густые травы,
Покачайся в ветвях ивы,
Прошуми среди дубравы.
Вестник солнца, пой с листвою,
Мчи цветов живых лобзанья;
Тихо дышит над землею
Гимн священный оживанья.
Красный ангел (проносится в лучах алой зари, он трубит в золотую трубу и потом поет):
Проснись, красавица земля!
Твой царевич идет целовать тебя.
Хор птиц (внезапно и шумно):
Солнце, солнце уж видно с нагория
Пойте славу ему, пойте славу желанному!
Громче, громче всей грудию: gloria! gloria!
Солнцу, пламенем страсти навеки венчанному.
Лей нам потоки тепла благодатного
Свет на нас лей, — мы в лучах искупаемся.
Пойте, пойте святого, его — непонятного,
В ком мы живем, в ком мы вновь возрождаемся.
Птичка:
День, день!
Жить, жить!
Хлопочи
Для любви.
Лепечи
И лови:
Птенчик ждет,
Тянет рот —
Хочет жить…
Жить, жить…
Хор птиц (шумно):
Восходит — ликуйте! Сияет — молитесь!
Жить торопитесь!
Как это странно —
Жизнь. Так отрадно.
Лик ненаглядный!
Salve! Осанна!
Мефистофель. Крикливый хор. А сколько в нем отвратительного смысла. О, маленькие, пернатые гадины, далекие порождения страшной ошибки! Вы хвалите корень вашего бытия. А, — я рад видеть, как ястреб цапнул сейчас одного певуна! Ястреб тоже хвалит солнце по–своему.
(Солнечные лучи проникают в долину. Город, весь окруженный, — в башнях и колокольнях, — просыпается, загораясь в сиянии утра. Море блестит).
Колокола:
Тень уходит прочь,
Наступает день,
День сменяет ночь,
Убегает тень.
Золотой наш звон,
Зов колоколов.
Сладкий карильон,
Колокольный зов.
Чистый, как кристалл —
Нежный перелив —
Наш напев игрив:
День, день!
День настал!
Шум города:
Проснулся труд,
Рождая смутный гул…
Идут, идут
И человек, и конь, и мул.
Вот стук колес,
Крик торговца,
Но до конца
Я не дорос:
Я крепну, — гомонит
Проснувшийся базар,
Как будто там горит
Безудержный пожар,
В порту
Моряки
Тянут якорь и ноют,
И ко рту
Кулаки
Приставляют и орут
Рыбаки.
Челноки
Между барками снуют.
Вот железо закричало,
И грохочет камень где–то.
Шумом все теперь одето,
Дня начало, дня начало!
И не спавший ночь поэт
Подошел к окну и слышит.
Как работа шумно дышит
И кует живой куплет.
Открылся храм,
Как фимиам
Восходит странный
Напев органный.
Возносит выше
Стрельчатой крыши
Святые трели
Златой свирели.
И вдруг в испуге
В роскошной фуге
Слетел на землю
И шепчет, внемля
Нездешним гласам
И потрясая
Соборный камень
Могучим басом,
Звучит, вещая: Amen!
Медью режет
Труба,
Словно скрежет,
Груба.
Предвещая кровь и раны,
Застучали барабаны:
Встань, солдат!
Стройся в ряд!
И как пурпурное пламя
Вьется шелковое знамя.
Песня ландскнехтов:
Раздавайся, бранный крик,
Ощетинься лесом пик,
Полк ландскнехтов. — Будет бой,
К крови нас зовут трубой!
Убивать и умирать
Смело будет наша рать!
«Не убий» — сказали людям:
Мы, убив, невинны будем.
Убивай и умирай, —
Петр святой допустит в рай!
Для солдат иной закон.
Наше сердце к стонам глухо,
Петр простит: ведь помнит он,
Как срубил мерзавцу ухо.
«Взявший меч — падет и сам».
Но ландскнехт не трус, хохочет,
Лихо гладит по усам
Да красавицу щекочет,
Не противясь небесам.
Позовет его труба.
Закипит веселый бой.
Пал! — Такая, знать судьба.
Что поделаешь с судьбой?
Песня монахов:
О, боже наш, боже!
Мы в прахе,
Мы в страхе, —
А лик твой все строже.
Мы гибнем на путях блужданья.
О, сжалься, сжалься над Адамом.
И нам, в отчаянии самом,
Дай видеть звезды упованья.
Мы плетью плоть терзаем,
Мы в прахе,
Мы в страхе,
И не дерзаем
Поднять очей к весам и мере
Грехов несчетных!
О, miserere!
О, тьмы бесплотных.
Молитесь с нами.
Пред троном гнева
Предстань, о Дева,
Омой слезами
Нас — твердых в вере.
О, miserere!
Рабочие (строят дворец и поют):
Кто заложил фундамент медный,
Который тщетно бьют века?
Кто, как не труд, не труд победный.
Как не рабочая рука?
Кто вывел стены из порфира, —
Не сдвинет их времен река, —
Кто, как не труд, владыка мира,
Как не рабочая рука?
Кто кровлю выстроил из злата,
Горящую издалека?
Кто, как не труд грядущий брата,
Как не рабочая рука?
Венчает шпилем из рубинов
Кто наш дворец, — мечту пока?
Все то же племя исполинов,
Все та ж рабочая рука.
И царь–народ войдет в палаты,
Его держава высока.
Прекрасный, мудрый и богатый,
А герб — рабочая рука.
Мефистофель (склоняясь над городом). Безумная симфония в разгаре. Опустимся и мы, чтобы принять в ней участие. Наш план готов. Над городом широко раскинулась незримая паутина… Иду!
(Спускается. Утренний ветер развевает его черный плащ).
КАРТИНА ПЕРВАЯ.
Приемный кабинет во дворце Фауста, Комната с обстановкой из резного дуба в позднеготическом стиле. Она разделена пополам двумя ступенями, идущими из глубины сцены к рампе. В стене три красивые ниши с бронзовыми статуями Платона, Аристотеля и Альберта Великого. В верхней половине комнаты пол покрыт богатым ковром. У стола, крытого ковровой скатертью, с письменным прибором и несколькими фолиантами — огромный глобус и троноподобное кресло. Вокруг — несколько маленьких венецианских кресел. В нижней части несколько тяжелых дубовых скамей. Из верхней части небольшая дверь, завешанная ковром с гербом Фауста, — кулак в железной перчатке, держащий факел, — ведет во внутренние покои Фауста и его семьи. У двери стоит, опираясь на алебарду, живописный ландскнехт.
Входят Фауст и Фаустина.
Фауст седой старик, прямой и высокий. На голове его расшитая золотом бархатная шапочка, из–под которой падают белоснежные кудри; длинная борода покрывает верхнюю часть груди. Лицо доброе и приветливое, чрезвычайно подвижное, часто с оттенком величавого самодовольства. Совсем молодые, темные Глаза смотрят из–под красиво очерченных черных бровей. Одет в длинный бархатный доломан синего цвета. Рукова обшиты кружевом, руки тонки и нежны. Фаустина — высокая бледная девушка большой красоты. Ее ресницы большей частью опущены. Из–под шапочки серебряной парчи вьются две роскошные русые косы. Платье серебристое, простого покроя. Они вернулись с утренней прогулки. Фауст умилен и радостен.
Фауст. Какая прогулка… Кстати, Фаустина, ведь тебе 19 лет?
Фаустина. Да, отец.
Фауст. Когда ты родилась, вся эта зеленая жизнь была еще совсем молоденькой, редкое деревцо подымалось до человеческого роста. А теперь? Разве не стоило это борьбы с морем? Сколько жизни, сколько пышной жизни! Как славно рождает и питает земля, отданная ласкам воздуха и поцелую солнца. В той долине, — знаешь, окруженной такими славными тополями, — признаюсь тебе, я всплакнул немного, старый ребенок. И что еще смешнее — устыдился своих слез даже перед тобою, моя добрая… Как было тихо. Еще тише от трепета тополевых листьев. А маленький певун вдруг стал править свою мессу. Деревья стояли, как огромные зеленые свечи. Он пел… пел хвалу своему богу.
Фаустина. Какому богу?
Фауст (делает всеоб’емлющий жест). Пану!
Фаустина (немного нервно). Отец, отчего в твоих прекрасных храмах в Тротцбурге не служат Пану? Отчего в них чтут бледного бога в терновом венце и его скорбную мать? И отчего им кадят фимиам такие жирные жрецы, как почтенный епископ Вильфрид?
Фауст (смеется и шутливо зажимает уши). Сколько вопросов! Сколько вопросов! О, моя молчаливая Фаустина, ты переходишь на сторону моих нетерпеливых друзей–врагов, вроде мастера Габриэля.
(Фаустина вспыхивает, хочет сказать что–то, но опускает глаза и молчит).
Фауст (садясь в одно из маленьких кресел у стола).
Почему в моих храмах не служат Пану? Но потому, что это переполошило бы всех моих могучих соседей, покровителей и вассалов. Чего доброго, они предприняли бы крестовый поход против меня, и мне пришлось бы пролить целое море крови. Отчасти потому же у меня служат Иисусу. Но я считаю его религию своего рода высокой, поучительной, полезной, ее мифы и церемонии — прекрасными. Что же касается епископа Вильфрида, то это большой артист и человек очень тонкого ума. Не будем фанатиками, дочурка. Нет ничего хуже фанатизма. Можешь ли ты терпеть человека злого и ограниченного? Представь же себе, что человек самый добрый и умный, когда он становится фанатиком идеи — самой высокой и прекрасной, — превращается в злое и ограниченное существо. Если бы во главе того могущественного государства, которое я создал из ничего, стоял бы, например… ну хоть мастер Габриэль, — сколько бы уже приключилось непоправимых несчастий. Его мысли в сущности мои мысли, но это только маленькая часть моих мыслей, одна краска из всей картины. Кстати, об этом Габриэле. Знаешь, я погорячился из–за него как–то на днях. Я наговорил ему резкостей. Знаю, что его мать бывает у тебя, ради доброго дела посещения больных и прочего… Скажи ей, что я… что я в сущности люблю этого грубияна. (Улыбается). Но посуди (встает) — я призвал шестерых лучших мастеров и между ними Габриэля и этого другого, странного гордеца — шотландца. Я об’яснил им необходимость построить еще одну башню, вроде моей «Башни Соколов». Я указал им для этого место. Место, действительно, достойное исполинов, — болото в широкой равнине за Зюидкиркеном, которое надо осушить сначала. Вдруг Габриэль начинает доказывать мне, что это будет стоить жизни десяткам, а может быть, и сотням рабочих. Я говорю ему: друг мой, может быть. Мы ведем борьбу с природой. Честь и слава павшим в этой борьбе. А он: нельзя убивать людей, которые хотят жить, ради великого каприза, пользуясь тем, что нужда гонит их на всякую работу. Я погорячился. Я горячусь именно тогда, когда встречаю сопротивление, не лишенное основательности. Он вообще не лишен основательности, этот мастер Габриэль. Чего он лишен, так это легкости и подвижности духа. Если за всяким шагом морализировать и углублять вопрос, то ход истории ко все растущему могуществу человеческого рода приостановится. Есть нечто высшее морали и самой логики, и это — жизнь, которая хочет расти… Мы зафилософствовались, однако. (Ландскнехту): Посмотри, Питер, — нет ли кого в приемной?
Ландскнехт (отворяя двери). Она полна, ваше высочество.
(Фауст садится на свое троноподобное кресло, Фаустина на скамью, у его ног. Входит секретарь, одетый в черное, с золотой цепью на шее. Он подносит Фаусту длинный список просителей. Тот с любопытством просматривает его).
Фауст. Я не приму сегодня и десятой части. Выберем… А, флорентийский мастер Жакопо Деллабелла… Звать, звать.
Фаустина, ты еще не знаешь его как следует: большой, огромный человек… Может — все!
(Секретарь вводит Деллабеллу. Это — маленький, худенький человечек с жесткой седой бородкой и непокорными волосами на огромной голове. Он одет в потертый бархатный костюм. Несколько раз низко кланяется, метя пол обтрепанным плюмажем своей шляпы).
Фауст. Подойдите ближе, маэстро. Не бойтесь взойти по ступеням, отделяющим меня от обыкновенных смертных.
(Смеется.) Ваши чертежи, Деллабелла.
Деллабелла (торжественно развертывая перед ним большой пергамент). Вот они. (Молчит минуту.) Моя мысль такова: круглое здание огромной, неслыханной до сих пор величины, стоящее на квадратной лестнице о шестнадцати ступенях. Длина каждой стороны — 6.000 локтей. Здание увенчано куполом, под которым легко уместилась бы самая высокая колокольня этого города. Внутри оно под’емлется как бы на четырех величественных устоях, несущих вверху, на высоте уже головокружительной, группы колонн более грациозных, переходящих непосредственно в четыре взлетающие арки. На них–то и ляжет венчающий все здание купол. Там я помещаю окно в 60 локтей диаметром из сверкающе–разноцветных стекол. Там будет величественное изображение божества в белых ризах, мощным движением длани ниспосылающего свет, движение и порядок. Божеству будут приданы наиболее величавые черты, какие видело на земле человеческое око, — черты вашего достославного высочества, первейшего из государей мира. (Низко кланяется.)
Фауст (рассматривая чертеж). Исполинская лесть, дорогой Деллабелла.
Деллабелла (порывистым жестом подымает обе руки над головой, словно защищая ее от удара). Государь, дань восхищения артиста — отнюдь не лесть…
Фауст. Лесть, лесть, Деллабелла, но исполинская.
Деллабелла. Другие статуи и картины представят духов низшего порядка, — стихии…
Фауст (прерывая). Я подумаю. Ведь будет немножко стыдно, Деллабелла? Допустим, что только глупцы не поймут известной законности подобного памятника мне здесь, в одном из прекраснейших городов Европы, в столице цветущей земли, которую я вызвал из небытия, — я, я один! Но ведь стыдно слышать возражения даже от глупца, когда говоришь о собственных заслугах! Иногда я хотел бы… Но не будем омрачаться. Мне говорили, что здешний камень совсем плох. Однако, я построил из него «Башню Соколов», набережную и большую часть этого дворца. Говорят, люди — очень плохи, но с их помощью великий мастер может добиться великого. Барон Мефисто устроил вас хорошо? Когда вы приметесь за портрет моей красавицы Фаустины?
Деллабелла. Я восхищен милостями, которыми меня здесь осыпали. Если мне выплатят к тому же обещанные сто дукатов, то я готов выполнить для вашего высочества всевозможные работы. Портрет, к которому я приступаю с робостью, почти равной моему восторгу перед высоким оригиналом, я начну в тот день, который осчастливит своим выбором блистательная принцесса. По примеру моего соотечественника Винчи, мы окружим ее высочество музыкой и чтением приятнейших новелл и сократим скуку часов, которые для меня будут лететь со скоростью Зевесовых огней, принадлежа к счастливейшим.
Фауст. Подите, подите, маэстро, — вы сконфузили мою северную пташку.
(Художник кланяется и уходит).
Фауст. Судя по его болтовне, можно подумать, что это — обыкновенный итальянский ciarlatano, а между тем это — воистину великий мастер. Но я люблю его слушать. Он забавен. А в своих произведениях он велик! Мне кажется иногда, что каждому художнику следовало бы быть владетельным князем. Иначе самые высокие головы, не имея короны, должны накрываться дурацким колпаком угодливости по отношению к нам, господам. А наши нравы еще грубы, Фаустина. Бедные художники! Но не будем омрачаться, тем более, что в списке я вижу еще великое имя. Секретарь, попросите сюда Никласа Нильсена, мореплавателя.
(Секретарь вводит Никласа. — Это широкоплечий человек с длинными усами и бородой. В волосах проседь. Он одет в длинный темный кафтан, подпоясанный кожаным поясом. В руках у него бич).
Нильсен. Государь, простите, что я так одет и держу бич.
Я знаю, что вы интересуетесь моими плаваниями и не любите лишних церемоний, поэтому я пришел к вам прямо с моего фрегата, не наводя на себя придворного лака. На этот раз у нас во все время плавания была такая музыка, словно чорт женился сразу на дюжине чертовок. «Альбатрос» поплясал–таки на этой вельможной свадьбе. Однако в этот раз я проник еще дальше вдоль Африканского берега. Я привез золотой песок, слоновую кость, пахучее дерево… Но главный подарок, который я привез Европе, это — замечательной силы черные люди, или полулюди, которые, однако, могут работать. Конечно, для этого их надо много бить. Но они неглупы и, когда видят, что надо выбирать между смертью под бичом или работой, — они работают. Они сильнее мулов, выносливы, ловки и вместе с тем довольно сметливы. А главное, с ними не приходится церемониться. Видите ли, государь, их нисколько не жалко. Очень сомнительно, есть ли у них душа, а если и есть, то уж, конечно, не похожая на христианскую. Я мог бы доставлять вам их, государь, в любом количестве по двадцати дукатов за штуку. Да столько, сколько пожелает Ваше Высочество. Клянусь св. Эльмом, что не лгу. Показать их вам, государь? Я захватил несколько штук с собою. На корабле у меня их — сорок. У меня было значительно больше, но довез–то я только сорок, остальных так или иначе скушали рыбы.
Фаустина (к отцу). Что он говорит?
Фауст. Это — любопытно.
(Два моряка вводят четырех закованных негров. Они громадны, черны, с большими белками, курчавы и толстогубы).
Фауст. Почти звери…
Нильсен. Но работают, как люди. Падайте ниц, обезьяны!
(Взмахивает кнутом, — негры преклоняются).
Фауст. Не бейте их, капитан, — я не терплю этого.
Нильсен. Без этого нельзя. Но зато, как я уже говорил вам, их нисколько не жаль. От них–таки можно добиться повиновения. А как это трудно устроить с белой шьюрмой! В каждом христианине сидит дьявол непокорства. Я хлещу, конечно, и христиан, но если отправишь его на тот свет, что скажут там, а? Нельзя иногда не задуматься. А потом ведь трудно окончательно убить в себе жалость к себе подобным. Я думаю, самому дьяволу жаль свою дьяволицу, когда он учит ее своим железным пестом. (Хохочет).
Фауст (задумчиво гладит бороду и смотрит на негров). Да… Иметь рабочую силу, которую не надо было бы жалеть… Великим людям нужно повиновение. Ты умен, капитан. Однако я жалею даже лошадей и ослов. Хотя я не подобен же ослу, — не правда ли, капитан, а? — меньше, чем этим черным полуобезьянам?
Нильсен. Герцог жалостлив. Жалость — порок.
Фауст. Для великого человека?
Нильсен. Даже для маленького.
Фауст. А вы — философ, капитан. К какой же школе вы принадлежите?
Нильсен. В школе моря, ваше высочество. Это оно меня вышколило.
Фауст. Во всяком случае, я посмотрю, как работают эти милые брюнеты. Но, конечно, с ними будут обращаться гуманно.
Нильсен. (улыбаясь пренебрежительно). Тогда они задушат своих надсмотрщиков. Вот и все. Говорить с ними без плети невозможно. Они горды по–своему. Я не решусь передать их вам, герцог, если новый их мастер для первого знакомства не задаст им такой трепки, перед которой все мои показались бы им материнской лаской.
Фауст (серьезно). Условие для меня неприемлемое.
Нильсен. Их купит архиепископ, ваш сосед.
Фауст. Мы подумаем, Никлас. Побудь пока в Тротцбурге.
(Нильсен кланяется и уходит).
(Немедленно по его уходе входит Мефистофель. Он одет в ярко–красный костюм той эпохи. В руках шляпа с петушиным пером. На груди орден Золотого Руна, длинная шпага с золотым эфесом. Он очень высок и тощ. Лицо смуглое, черная бородка, коротко остриженные волосы плотно облегают голову, словно ермолка. Губы тонки, сложены в язвительную улыбку, брови подняты треугольниками. Глаза большие, холодные, пустые, в резком контрасте со злобно и часто шутовски гримасничающим лицом).
Мефисто (кланяется с комической торжественностью). Герцог…
Фауст. А, Мефисто! Значит, счастливое утро, которое я уберег, несмотря на грубость Никласа, кончается. Ты–то уж, наверно, мне принес кучу неприятностей.
Мефисто. Как всегда. Я — око герцога, единственное, которое не обманывает его, я — ухо герцога, которое…
Фауст. Я желал бы заткнуть.
Мефисто. Герцог уже боится правды?
Фауст. Друг, правда — вещь условная. Она состоит из материи, получаемой нами извне, и формы, которую мы даем сами. Вот эти глаза мои и уши умеют всякой материи придать форму пристойную, по меньшей мере — сносную. Но мой третий глаз, мое третье ухо, выбрав уродов и чудовищ в окружающем, еще наряжает их в платье более уродливое и чудовищное, нежели они сами.
Мефисто. Мои образы — отражение бытия, как оно есть: на них нет платья. Они косматы, хвостаты, чешуйчаты от природы. Вы же, герцог, от всех вещей требуете придворного костюма, ловко сшитого из розового атласа и голубого бархата. Сама смерть, когда ей придется предстать перед вами, — а она–таки достаточно уродлива, безносая кума, — должна будет подчиниться этикету и казаться приятной.
Фауст. Непременно. И философия стоиков соткала для нее благопристойное покрывало. Ты же, наверное, пожелал бы сорвать его с нее, чтобы напугать меня мнимой правдой: скелетом, гниением, червями? А между тем и это все — только человеческий маскарад, ибо сама по себе смерть не зло и не благо, как ничто в природе. Благо и зло изобретены человеком.
Мефисто. И вот философский диспут благополучно продолжается; о, Фауст, вот мы танцуем метафизический менуэт, кланяемся, подпрыгиваем и кокетливо приподымаем наши юбочки. Между тем как страну — того и гляди — зальют волны!..
Фауст (беспокойно). Что ты говоришь? Дюны повреждены?
Мефисто. Волны мятежа, герцог.
Фауст (успокаиваясь). Тревоги полицейского!
Мефисто (делая к нему шаг, тихо и зловеще). Старик Бунт со своей старухой уже тут. Я арестовал его и сейчас покажу тебе, Фауст. (Громко). Принцесса, я попрошу вас удалиться в ваши покои.
(Фаустина, бросив беспокойный взгляд на отца, уходит).
Фауст. О ком и о чем ты говоришь, злой дух. никогда не дающий мне покоя?
Мефисто (торжественно). Фауст, Фауст, как желал бы я дать тебе покой.
Фауст. Я жажду деятельности и для этого нуждаюсь в спокойствии. Я хочу трудиться без помехи.
Мефисто (злобно). Ты хочешь стоять в углу, защищенный от страха с трех сторон, и иметь только одного врага прямо перед тобой. Но истинно говорю тебе, Фауст, ты имеешь несметное число врагов за спиною и с боков и внутри, целые полчища и сверху и снизу. И ты будешь во всем беспокоен и смертельно утомлен и не ляжешь уснуть, ибо сновидение твое сгонит тебя с постели, и ты будешь метаться, метаться… пока не запросишь настоящего покоя… И тогда ты мой… тогда, Фауст!
Фауст. Сумасшедший чорт, твое бесовское остроумие вертится, как волчок, всегда на одном острие. Я прежде всего не хочу слушать твоих гнусных докладов, потому что ты — великий сплетник. Да, ты — великий сплетник!
(Мефисто бьет в ладоши. Два сильных ландскнехта вводят худого, угрюмого старика в цепях. Он одет в шкуру козла, его тело бронзовое, лицо покрыто глубокими, как щели, морщинами, борода всклочена и полна соломы и репейников, волосы низко падают на лоб, глаза горят, как у волка).
Фауст. Кто это?
Мефисто. Спрашивай его.
Фауст. Кто ты, старик?
Бунт. А ты кто, старик?
Фауст. Я — герцог Фауст.
Бунт. Ты — убийца, как все тебе подобные! Вели им отпустить меня, убийца человеков.
Мефисто. Держите его крепче, иначе он бросится на Его Высочество.
Фауст. Но это — бедный больной…
Бунт (улыбается мрачно и поет завывающим голосом):
Меня хватали, ковали, жгли,
Я извивался от страшной боли,
Я тосковал, лишенный воли, —
Убить меня вы не могли.
От голода кусая пальцы,
Я издыхал в сырой темнице.
И плоть мою терзали птицы,
Питаясь печенью страдальца.
Сочась одной кровавой раной,
Я под плетьми утратил душу,
И мертвецом меня на сушу
Плевали бездны океана.
Но я из пепла возрождался,
Я воскресал, я воскресал,
Мой дух на землю возвращался
И тело снова создавал!
Я шел, иду, итти я буду:
Все цепи мира разгрызу,
Всему униженному люду
Утру последнюю слезу!
Чем я утру слезу страданья
У униженного раба?
Прочь, пурпур царских одеяний!
В гроба, владыки! Прочь! В гроба!
Во оставленье долгой злобы,
Во очищение сердец
Пусть в окрававленные гробы
С главами ваш падет венец!..
Довольно? А то я могу и еще петь. Впрочем, я весь тут.
Фауст. Страшный человек, ты — болен.
Бунт. Еще бы! Мы все больны, а вы — болезнь наша. Ее лечат огнем и железом. Я ничего не боюсь. Прими это во внимание заранее. Нето — нас много, нето — я бессмертен, но только я ничего не боюсь и, в конце концов, таки одолею вас. Поставлю этот грязный стоптанный башмак на благовонный затылок надменных.
Мефисто. Владыка, великие люди бьют большим молотом в сердце человечества, но удар встречает равное противодействие, как учит столь почитаемый тобою флорентинец. До некоторй степени этот старик твое собственное отражение, — как бы по–плебейски испорченный портрет. Не знаю, должен ли я распорядиться отрубить ему голову? Подобные существа бессмертны, ибо они — отражение. Чтобы упала окончательно голова Бунта, надо уронить голову Власти. Власть рубит голову собственному отраженью и дивится, что она вырастает вновь. Они называют Бунт гидрой. Должен ли я посадить старика в верное место, где его поберегут?
Фауст. Отпусти его. Здесь ненависть его бессильна. Здесь подданные любят своего государя.
Бунт. Мы с женой погрызем немножко эту любовь. Зубы у нас еще есть… еще есть!
Фауст. Я не убийца и не тиран. Я могу быть спокоен. Я — благодетель и творец этой страны. Ее первый работник. Мне далее приятно подвергнуть благодарность людей моих испытанию.
Мефисто. Выведите его за ворота города и отпустите.
Бунт. Клянусь тебе, пожиратель человеков, что отплачу за это великодушие, когда смогу доплюнуть до твоих гордых очей!
Его уводят.
Фауст. Мрачное видение.
Мефисто. У этого безумца прерассудительная жена. Я знаю старичков, — они отчасти мне родня, дальние родственники. Прозвище старухи — Зависть. Ведьма ведет свое дело тонко. Закон не дает возможности схватить ее. Она только сравнивает, все сравнивает: жилища, пищу, платье, труд, власть, честь… Она проводит параллели, поистине — волшебные линии. На моих глазах восхищение перед пышностью знатных покровителей и гордость их могуществом превращались в неукротимую ненависть. Она умеет преоригинально смотреть на вещи. Но будет об этом. Ваше высочество предупреждены заблаговременно, а теперь пусть все идет своим чередом… Кстати, герцог, у дворца стоит толпа мастеровых. Они орут так, как будто Бунт и Зависть гостили здесь не три недели, а три года. Они чуть не ломятся в двери. Стража их, конечно, не пускает. Ведь вы принимаете по выбору. Но среди них я видел распущенного вами до–нельзя и зловредного Габриэля. Он говорит за всех и не верит, чтобы Ваше Высочество не приняли их, потому что дело идет о девушке, которую, будто бы, похитили этой ночью. Они подозревают, что похититель близок ко двору. По моим справкам, девица эта отличается легкомысленным поведением. Я не решался бы беспокоить Ваше Высочество ради таких пустяков. Но если бы герцог слышал, как они орут… Большой Ганс расставил длинные ноги и машет руками, как мельница, а вопит, как развозчик зелени: «Кто говорил о справедливости Фауста?». Разумеется, я сразу же приказал бы растолкать их, но…
Фауст. Я дурно настроен сейчас, но, конечно, впусти их… Так славно началось было утро…
Мефисто. Дурное предзнаменование, Фауст. Что хорошо начинается, кончается всегда дурно. Впрочем, и то, что начинается плохо, кончается не лучше. (Уходит).
Фауст (один). Все это беглые тени… беглые тени. Нельзя же высекать лик бога без того, чтобы щебень не летел во все стороны и мраморная пыль не покрывала лица и бороды ваятеля. Запас душевной ясности, веселой душевной ясности — вот что нужно человеку, вот что приобрел я в трудах. Фауст, будь ясен, будь весел и помни, сколько ты сделал и сколько хочешь, должен сделать. Однако они действительно шумят.
(Группа мастеровых входит с шумом за Мефистофелем, который пятится от них, жестикулируя. При виде Фауста они замолкают, становятся поодаль, переминаются, вертят шапки. Среди них выделяются почтенный старик Варгафт, его сын — большой Ганс и мастера — Габриэль и Билль Скотт).
Фауст. Что нужно вам от меня, дети? Почему вы шумите, словно и вправду малолетки? Но постойте: дайте мне сказать пару слов. Только еще началось утро, а уже жизнь огорчила меня многими неприятностями. Я почти устал уже, хотя мортира не возвестила еще полудня. Дети, я работаю много, вероятно, больше любого из вас. И я работаю для вас, для города, моего любимца. Не утомляйте лее меня частными просьбами и жалобами. У вас есть добрый судья мингер Ян–ван–дер–Гоог. — идите к нему.
(Большой Ганс делает нетерпеливое движение, но Габриэль останавливает его и сам выступает вперед. Фауст хмурится).
Габриэль. Высокочтимый герцог, мы все благоговейно ценим ваши труды. Никогда не пришло бы нам в голову беспокоить вас нашими невзгодами, как бы серьезны они ни были, если бы у нас был другой путь к справедливости. Мудрый государь, припомните, что братство свободных каменщиков и общее собрание мастеров уже неоднократно присылали к вам меня и моего товарища Билля Скотта, прося у вас, истинного отца своего молодого народа, учредить должность трибунов, которых выбирали бы все, без из’ятия, цехи, мастера, подмастерья и ученики на равных правах. Мы имели бы свой суд не только для ремесленных дел и не тревожили бы вас, герцог. Простите меня, государь, вы поставили над нами судьею мингера Яна — человека, быть может, высокой учености, но робкого перед сильными и, право же, не обремененного чрезмерным умом.
Фауст. Милый Габриэль, вы, известный демократ, мечтатель, начитавшийся Плутарха и мнящий себя гражданином античных республик. Вы крестили сына у кузнеца Морица и дали ему имя Брута. Невинные фантазии для частного лица. Но, боже сохрани, пытаться осуществить их в общественной жизни. Есть люди старше, опытнее и ученее вас, которые, зная цену демократии, понимают также несравненное достоинство монархии просвещенной.
Ганс. Постойте! Монархия, республика, — кто говорит об этом? Или мы пришли пересыпать горох из мерки в мерку? Буря с градом! Сестру мою, сестру мою отдайте мне, герцог. Отец, говори же!
Варгафт (совершенно растерянный). Ваше высочество, моя дочь… Ортруда… которую вы изволите знать, потому что вы сами соблаговолили подарить ей золотую цепочку… Она, моя дочь, спит в угловой комнате и всегда с открытым окном. (Гансу). Постой, мальчик, надо рассказать его высочеству все по порядку. Она спит с открытым окном… Сам я сплю чутко. Ваше высочество сами, небось, знаете, как чутко спят старики? Плутон, наша собака, тоже не станет дремать; что касается Ганса, то, действительно, он почти всю эту ночь провел в таверне «Яблоновый Сад». Ваше высочество помнит, быть может, дочь тамошнего хозяина Эмму, которая оказалась второй красавицей на соревновании красоты, на котором первой ваше высочество признали именно мою дочь Ортруду?
Ганс (нетерпеливо прерывая его). Дело в том, герцог, что какой–то разбойник утащил сегодня мою сестру через окно. Он бросил отравленный хлеб Плутону и подмешал вечером чего–то сонного в кадушку с водой. Это сатанинская бестия! У него были помощники, потому что я видел след нескольких лошадей от ближайшего перекрестка. Буря и град, если я найду похитителя, я!.. Я свяжу его таким узлом, какого не расплетет и мудрость Фауста! Мою сестру… Негодяй! Вы потерпите, герцог? Мою Ортруду!.. Кровь бросается мне в голову. Я готов рубить направо и налево! И я знаю, кто похититель.
Габриэль. Это только догадки, — необходимо тщательное следствие.
Фауст. Кого же вы подозреваете в поступке действительно дерзком?
Габриэль. Не говорите, Ганс, не говорите пока…
Ганс. Я скажу все, что у меня на сердце. Это сделал Фаустул, мальчишка принц! Фаустул. Он уже несколько раз приставал к ней.
Фауст (встает и смотрит на него грозно). Опомнись, юноша!
Ганс. Еще не было случая, чтобы я струхнул! Что вы смотрите на меня? Если бы ваши глаза были кинжалами, я и тогда не сделал бы шага назад. Это Фаустул! Он грозил ей. Это слышала Эмма и другие девушки. Не прячьте его где–то там, под кроватью, или в отхожем месте, пусть он идет сюда. Если он сын своего отца, так сумеет, наверно, посмотреть прямо в глаза обвинителям.
Фауст (садится, сдержанно улыбаясь). Славный, славный экземпляр. Отчего ты не стал, солдатом?
Ганс. Оттого, что не имею охоты драться ради денег и еще менее ради чужих интересов. А за свои я всегда готов постоять.
Фауст (продолжая улыбаться). Как же ты сумел родиться у такого мирного человека, как Варгафт?
Ганс. Сумел же родиться у вас Фаустул.
Фауст. О, о! Не пробуй вывести меня из терпения. Иногда, ведь сержусь и я, и уж тогда… Фаустул придет сюда, чтобы рассеять твои подозрения.
Ганс. Вот, вот — нам необходимо поговорить.
Фауст (снова улыбаясь). Много у вас таких, Габриэль?
Габриэль. Ваше высочество, вы еще не знаете своего народа: в нем скрыты сокровища, безмерно превосходящие сокровища Соломона.
Фауст (смеясь). Да? О, Гракх ван–Бонд! Итак, не будем омрачаться… я верну тебе сестру, Ганс. Мы во что бы то ни стало поправим это дело. (Секретарю:) Попросите сюда принца. (Секретарь кланяется и уходит.) Спокойствие же, все кончится благополучно, Ганс. Порукою тебе мое герцогское слово. Как идет осушка болот под новые укрепления, Габриэль?
Габриэль. Плохо, ваше высочество. Рабочие болеют. Мы стараемся почаще сменять их, но на эту работу никто не хочет становиться.
Фауст (задумчиво). Никлас предлагает черных рабочих.
Габриэль. Ведь дело не в цвете, ваше высочество…
Фауст. О, ты прав, ты прав, — заступник угнетенных. Если мне удастся… Но тут, видишь ли, нужно время. А с нашей областью со стороны Зюидкиркена граничат земли бешеного дурака Беересперга. Построив тут хорошую башню, мы и осушим вредное болото и пресечем безумцу возможность учинить кровопролитие, о котором он, знаю, мечтает.
Габриэль. Он никогда не решится напасть на вас, ваше высочество. А пока мы теряем людей и в сердцах иных, возбуждаем острое неудовольствие против государя.
Фауст (нахмуриваясь). А видал ли ты государя терпеливее меня?
Габриэль. Отчего бы не быть терпеливым вашему высочеству? Ведь, в конце концов, вы всегда поступаете по–своему. Другое дело, если бы вам приходилось по хартии считаться с нашими требованиями…
Фауст (сухо). Этого не будет, Габриэль. Государство, в котором голова подчиняется телу, — безумно.
(Входит Фаустул. На нем великолепный костюм из гранатового бархата, цепь Золотого Руна, кружева и ленты, брильянты на руках и башмаках. Жидкие желтые волосы распущены по плечам и сильно завиты. Лицо бледное, лоб узкий, подбородок сильно выдвигается вперед, глаза маленькие, водянистые, большой нос надменно задран кверху).
Фаустул. Вы звали меня, отец мой? Но я вижу — вы заняты народом. (Хочет уйти).
Фауст. Нет, нет, дело касается тебя. Представь — у этого славного человека, каменщика Варгафта, похитили сегодня, ночью дочь. Вещь неслыханная в нашем городе, во всей моей стране. Вот тот юноша — честный и храбрый юноша — ее брат. Но и честным и храбрым людям приходят иногда в голову, — прости меня, Ганс, дитя мое, — нелепые мысли. Подобная мысль засела в буйной голове моего Ганса. Он толкует, — смешно сказать, — о каких–то твоих угрозах девушке и т. п. Вообрази, Фаустул, он склонен обвинять тебя в похищении хорошенькой Ортруды. Ты помнишь Ортруду — царицу праздника труда, который я устроил месяцев пять тому назад? Это — очень красивая девушка.
Фаустул (пожимая плечами). Как ты хочешь, чтобы я помнил всех хорошеньких девушек в городе?
Ганс. Лжет! Простите, герцог, но он лжет! И теперь я уверен, что преступник — он!
Фауст. Осторожней, Ганс!
Ганс. Принц Фаустул, вы не разговаривали с Ортрудой в понедельник у фонтана, когда возвращались с охоты? Не просили ее напоить вашего коня? Не называли ее по имени? Не сравнивали с распускающейся розой? Скажите.
Фаустул. Отец, избавь меня от разговора с пьяными крикунами. Несмотря на расстояние, я слышу запах скверного перегорелого вина. Пощадите, я не так воспитан.
Ганс. Нет, принц, дружочек мой, — вам так от меня не отвертеться. Скорее Ганс сложит голову… Не приезжали ли вы во вторник нарочно в тот же час к фонтану? Не пели опять своих увещеваний? А, получив от сестры должный ответ, не грозили ли ей, что–де принцам так не отказывают, и что–де при отказе они сами берут, что им понравилось?
Скотт. И это было сказано после того, как девушка об’яснила, как слышали бывшие при том женщины, что у нее есть жених и жених этот — я.
Фаустул (показывая дурные зубы). О, посмел бы я после этого грозить? Неужели рискнул бы я обидеть столь могущественную персону… А впрочем… Э–э… любезнейший… Кто вы такой?
Скотт (вспыхнув). Я думал, что при дворце нашего герцога нет шутов…
Фаустул (деланно равнодушно). Грубиян, ведь ты знаешь, что я — принц — не могу драться с тобой.
Ганс. Вы не станете драться? Нет? А я зову вас к божьему суду! Я докажу, чем угодно, что вы похититель сестры и чести моего дома! Выбирайте оружие!
Фаустул (ухмыляясь). Пойми, животное, что я существо совсем другого рода! Не выйдешь же ты на поединок с петухом? Об’ясните ему это, отец. Мне скучно.
Ганс. А, вы существо совсем другого рода? Давайте, откроем, жилы и посмотрим, чья кровь краснее и забрызжет обильнейшим потоком. Или хотите иное состязание? Я знаю шесть ремесл и готов по каждому представить образцовую работу. Попробуйте сделать то же самое. Любое испытание! Я готов вести с вами даже диспут по–латыни. Или давайте — сочиним по песне. Суд божий скажется во всем. Предлагайте. Говори же, несчастный, если не хочешь…
Фауст. Тише, забияка. Горячка! Если бы ты не нравился мне так, я бы уже давно рассердился. Мастер Вильям, женщины рассказывали вам то и то. Но вот здесь принц дает слово рыцаря, что даже не помнит этой девушки. Неужели вы больше верите бабьим росказням?
Ганс. Сколько раз я видел сам, как он поглядывал на Труду.
Габриэль. Одним словом, тут надобно следствие. И так как сам: герцог, отец заподозреваемого, согласно самой природе человеческой, не может быть беспристрастным, то…
Фауст (вспыхивая). Довольно, довольно, Габриэль! Я и так слышал слишком много. Это зрелище становится, наконец, недостойным. Я — государь, создавший эту землю, могу сказать, из ничего. Вы пришли, чтобы жить и работать на ней, повинуясь моему скипетру. (Несколько успокаивается.) Девушка будет найдена. Барон Мефисто, завтра же она должна быть у родителей. Завтра! Слышите? Я знаю, что вы сможете ее найти. Никаких отговорок! Я повелеваю вам неотменно и определенно: она завтра должна быть дома! Похититель же будет строго наказан, кто бы он ни был. (Встает и намеревается уйти.)
Габриэль. Даже если это будет ваш сын и тот же барон Мефисто?
Фауст (на мгновение задумывается, потом внушительно). Что за вздорное подозрение… Барон, вы должны, одним словом, распутать все это дело ко всеобщему удовольствию. Идите, дети! (Улыбается.) Сколько хлопот отцу с этими тысячами детей. А века смотрят… Века ждут… А годы уходят… И их не так много у Фауста. Идите же идите.
(Все уходят в нижнюю дверь. Остается с Фаустом один Мефисто).
Фауст. Фаустина! Позовите мне Фаустину. (Фаустина сейчас же входит). Дай опереться на твое плечо. Пойдем. Ты почитаешь мне часок Сервантеса. А уж после я сяду за драгоценные чертежи великого Леонардо. Что ты делала это время?
Фаустина. Граф Артур все время был у меня. Он говорит, что имеет важное дело к вам и что уже писал вам об этом деле.
Фауст. А, я рад ему, я рад ему… Ступайте, барон, и помните мой непреклонный указ.
(Мефисто уходит).
Фауст (садясь снова). Так у него есть дело ко мне? Что же ты покраснела, белая лилия, снегурочка? Слава природе, вслед за горькими часами она дарит и сладкий час. Этот час отметится белым камнем. Зови сюда Артура, зови астролога, алхимика, чудака, которого не признали бы собственные его родители. Улыбнись же, дочурка. Не хочешь? Ну, поди, поди… Пришли его сюда скорее.
(Фаустина уходит).
Фауст (один). Тоже не в отцов. Графы Штерны все были люди крови и железа. Таков же и брат его Зигмунд. Но этот, младший, воспитался втихомолку, не предназначенный быть властителем, под тенью высокого колпака доктора Египтуса, и взял щит отцов, по смерти брата, сумасбродным ученым. И слава судьбе, что я нашел такого в том густом лесу, которым мы окружены, и среди рыкающих геральдических зверей соседней знати. Это — нежное сердце, сердце поэта. Где иначе добыл бы я мужа для бедненькой Фаустины?
(Входит Артур, красивый, несколько хрупкий и очень бледный молодой человек. Одет весь в черном. На груди, на золотой цепочке какой–то сложный амулет).
Фауст. Садитесь поближе ко мне, граф Штерн.
(Артур кланяется и садится).
Фауст. Я просмотрел ваши гороскопы, ваши великолепные астрологические выкладки. Да, да, Юпитер, Венера говорят то, чего вам хочется, мой молодой друг. Я верю им: вы с Фаустиной предназначены друг для друга. На мой взгляд, планеты оказались хорошими свахами.
Артур. Заметили ли вы, герцог, что в этом случае мною применен нигде письменно не изложенный и вряд ли кому в настоящее время известный метод? Я не верю ни во что писанное. Великие алхимики и астрологи не вверяли буквам, хотя бы и заслоняясь туманными тропами и символами, настоящих плодов своих глубоких размышлений и неутомимых опытов. Эти плоды они хоронили с собой. Поистине, эти науки — оккультные. Так называемый трактат Гермеса — трижды величайшего — дерзкий подлог. Я уверяю вас в том, герцог. Но изустные поучения этого полубожественного ума, передаваясь от ученика к ученику, дошли отчасти до моего великого духовного отца — доктора Египтуса. Я узнал от него множество истин, скрытых ото всех, но я обязан хранить тайну до 45–летнего возраста и лишь после этого могу передать мои познания одному какому–нибудь ученику моему под той же клятвой.
Фауст. Но вы любите Фаустину?
Артур. Едва я ощутил в сердце сладкую тревогу, зарожденную в нем свидетельством зеркала глаз, как я догадался, что между мною и принцессою имеется сродство. Мои вычисления показали, что я не ошибся. Могу лишь сказать вам, герцог, что ее число — девять. Превосходное число. Ее слово — пансамитксихадир. Отличное слово. Но и мое число — три. Вы понимаете теперь? И слово мое — кадимиксапиксир.
Фауст. Я рад, я рад… Теперь мы позовем Фаустину, не правда ли, дорогой граф? Но не говорите с ней об астрологии, говорите лишь о любви и словами менее трудными, чем те оккультные, на которых вы так удивительно наломали язык. (Он бьет в ладоши, и немедленно появляется секретарь.)
Фауст. Позовите сюда, дорогой мой, мою дочь.
Артур. Я думаю, однако, что принцесса заинтересуется астрологией. Глубина и несравненная польза соединены здесь неразрывно с возвышенной красотой. Что касается алхимии, другой дорогой мне области знания, то опыты здесь, действительно, не всегда безопасны. Иной раз алхимик неожиданно получает воздухи, враждебные человеческому дыханию… А недавно одно соединение элементов, которое я вынужден держать в тайне, произошло с таким переизбытком страсти, что вытолкнутый воздух отбросил меня на шесть локтей, и я больно ударился тем местом головы, где у меня находится холм трудолюбия.
Фауст (Все время улыбается). Берегите себя, однако, граф. Не окажитесь жертвой чрезмерной любви к познанию. Вот и дочь моя… О, дитя мое!
(Фаустина входит).
Фауст. Говорите же теперь с ней.
Артур (вставая и низко кланяяясь.) Принцесса! Волею тех лучезарных духов, кои движут светилами небесными, волей элементов, входящих в состав нашего тела, нашей животной и, наконец, нашей разумной души, — волею отца вашего, мудрейшего из государей, мы соединяемся с вами для любви духовной и плотской и продолжения рода Штернов, из коего некогда произойдет муж, которого увенчают короной императора. Это так же верно, как пересечение двух линий, бегущих в одной плоскости и не параллельных. Вот моя рука, дорогая принцесса. На ней вы без труда увидите явную черту долгой жизни, линии, предрекающие плодовитость нашего брака, и весь рисунок, гласящий о мирном бытии. Дайте же и мне вашу желанную руку, принцесса.
(Фаустина внезапно рыдает и бросается на шею Фаусту).
Фауст. Дитя, дитя… Эти слезы, — от счастья ли они? Оставьте нас на минуту граф Артур.
(Граф Штерн кланяется и уходит в некотором смущении).
Фауст. Ну, скажи же, скажи, дитя мое, какова причина этих внезапных слез.
(Фаустина подымает голову, хочет сказать что–то, но не решается, бурно вздыхает и вновь прячет лицо на его груди).
Фауст. Неужели он не нравится тебе? Разве он не красив, не молод, не добр, не родовит? Он странен, это — правда, но неглуп. Право, право, Фаустина, он неглуп. Просто его речи слишком непривычны для тебя. Успокойся же, радость моя. Он будет отличным мужем. Все остальные кого я перебирал в уме моем, такие–грубые твари, что я с содроганием думал о возможности вверить им твою нелепую юность. Не плачь же, не плачь, Фаустина. Пойдем к тебе.
(Нежно уводит ее).
(Из нижней двери входит Мефисто. Он делает вид, что ищет чего–то в бумагах на столе, а сам, поглядывает на дверь, как бы ожидая кого–то).
Мефисто. А, вот и наш верный крысенок.
(Входит Фаустул. Он, видимо, взволнован. Быстро подходит к Мефисто).
Фаустул. Я искал вас.
Мефисто. К вашим услугам, принц.
(Фаустул опирается на спинку стула одной рукой, а другой закрывает себе глаза).
Фаустул (глухо). Какие унижения!
Мефисто (беря его руку и прижимая к своей груди). Мужайтесь, принц.
Фаустул (выпрямляясь и сверкая глазами). Да — принц! Принц — каждой частицей моего тела! Принц душою, который едва вмещает в себе всю гордость быть принцем и внуком испанского короля. Моя мать была инфанта!.. Правда, мой отец был когда–то простым рыцарем, но за исполинские заслуги перед империей он возведен был в сан герцога всех земель, завоеванных им у Нептуна. Я имею основание, однако, думать, что род мой идет от благородного римского патриция Faustus’a, что значит — «счастливый», но отнюдь не от вульгарного Der Faust немецкого кулака. Как бы то ни было, я не позволю никому (*кричит визгливо и топает ногой) — * никому! — сомневаться в моем достоинстве принца…
Мефисто. Желал бы я видеть такого смельчака и глупца.
Фаустул. А между тем (бросается в кресло)… чему же подвергает меня отец? Какие слова говорили здесь эти вонючие разбойники!
Мефисто. Чудовищно!
Фаустул. Недопустимо, омерзительно, барон! Мефисто (вздыхая). Прискорбно.
Фаустул. Попраны законы людей и бога! (Горько улыбаясь). Но разве мой отец верит в бога? Разве он уважает вековые устои общества? Ему нравится играть роль демократа — hominis novi, — именно это свело в гроб мою бедную мать, высокорожденную герцогиню Эльвиру. (Задумывается.)
Мефисто (тихо и осторожно, качая головой). То ли еще будет, принц… Если мы будем терпеть…
Фаустул. Вы ждете новых несчастий, барон?
Мефисто. Я не говорю о девочке. Я обещал вам уладить это дело и сдержу это обещание.
Фаустул. Это тоже очень беспокоит меня… Но я крепко надеюсь на вас. Однако я вижу морщину озабоченности на челе моего мудрого друга…
Мефисто. Я думаю о вашем будущем, принц. (Торжественно.) Дорогой принц, ваша святая матушка незадолго до того, как отошла в лучший мир, где я уверен, стала любимой статс–дамой при ослепительном дворе царицы небесной, — да, в час кончины ваша святая матушка сжимала вот эти мои руки в своих горячих и сухих ручках и, устремив на меня лихорадочный взор, шептала мне запекшимися губами: «Берегите моего сына, берегите его корону. Этот безумец погубит все. Он — еретик, он продал душу сатане; он словно гость здесь, словно всем и всеми играет в игрушки. Мне уже снилось один раз, — говорила мне со страхом умирающая, — что муж мой сел на свой плащ, свистнул и улетел в окно». Так говорила ваша матушка, покойная герцогиня Эльвира, которая — да будет вечно благословенна ее память! — была мне истинным другом. (Тяжко вздыхает. Фаустул вытирает глаза кружевным рукавом.) Я делаю все, что могу, не сплю, не проглатываю в мире куска… Но что я могу сделать? Чернь распущена. Я уверен, что в конце–концов, герцог согласится на выбор трибунов, а это будет началом конца: останется только скользить. И кто знает, какими ужасами будет сопровождаться переворот? Герцогу все ни по чем. Он — великий человек, видите ли, все кажется ему маленьким, лежащим у его ног. О, простите меня, принц, пусть не возмущается в вас сердце любящего сына, но я выскажу вам мою затаенную мысль. Генрих Фауст был великим человеком. Да, был!.. Это–то правда.
Фаустул (с ужасом). Что хотите вы этим сказать?
Мефисто. На его месте на троне герцогства Вэллентротц и Тротцбург сидит теперь почти слабоумный старик.
Фаустул. Возможно ли?
Мефисто. Горькая истина! Величие ослепило его. Он влюбился в себя, как новый Нарцисс, вечное преклонение перед собою погасило его разум. Нарцисс — лыс, сед, дряхл и… все любуется своей красотой! А между тем я знаю другого великана, которому не дают подняться печальные обломки былого величия.
Фаустул. Кто же это?
Мефисто. Принц — вы! (Пророческим тоном.) Готовьтесь! Скоро таинственный голос коснется вашего слуха и скажет вам: встань, сын Испании, встань ради великого подвига; не спуская глаз, смотри на твою звезду и иди, никого не щадя, ибо ты рожден совершить великое, ты оснуешь могущественное королевство!
Фаустул. Я уже часто слышу такие голоса. (Смотрит вперед остановившимся взором..) Мне страшно!
Мефисто. Будь смел. (Хлопает в ладоши, входит слуга.) Вина! (Слуга уходит.) Выпей со мной стакан сиракузского, мой мальчик! Верь мне, любимец моею сердца, я тебе опора: не бойся ничего. Проглатывай пока эти мелкие обиды. О, как мы расправимся когда–то со всеми этими Скоттами и Гансами!
Фаустул (со злобой). О, как!..
Мефисто. Они будут подползать на брюхе к трону короля Фаустула.
(Фаустул смеется и потирает руки).
Мефисто. Они будут счастливы до безумия, если король поманит их пальцем и скажет: твоя жена, дочь, сестра — мне приглянулись, — поговори с моим камергером!
Фаустул. Кроме того, я женюсь на донне Инее. В ней течет королевская кровь: она красива, важна, воспитана и строга… О, мы введем почти религиозный церемониал при дворе.
Мефисто (лукаво). Тем приятнее будет после полуночи, когда королеву Инее отведут в ее покои шесть камер–дам, самим в уютном кабинете за, стаканом сиракузского послушать смешные песни из розовых губок, подшутить над какой–нибудь испуганной мещанской добродетелью или отведать, что такое восточная красота.
Фаустул. Как я люблю вас. барон. Вы словно отец мой.
Мефисто (хмурясь). Не говори так, Фаустул мой. Ты не знаешь, какие раны души бередишь во мне. Донна Эльвира, донна Эльвира… Моя государыня… Беатриче моего бедного сердца… Но вот принесли вино, развеселимся же немного, приободримся.
(Слуга ставит вино и стаканы на стол. Мефисто льет густую влагу в граненое стекло, кивком головы отсылает слугу и игривым жестом приглашает Фаустула).
Фаустул (пугливо). Не войдет ли сюда отец?
Мефисто. Нет, он не войдет сюда. (Пьют.) Теперь поговорим о твоей девочке. Ты сильно влюблен в нее?
Фаустул. Безумно! В том–то я дело, что целое море разнообразных страстей кипит в моей груди. Ударяет себя (кулаком в свою куриную грудь.)
Мефисто. Признак, что у орленка отрастают крылья. Пью за тонкую талию и пышную грудь мадемуазель Ортруды!
Фаустул. За мой успех! Она в Вотусперге?
Мефисто. Конечно, как мы условились. Но тут понадобится ловкость. Видишь ли, — хотя мои люди и захватили эту мещанскую амазонку врасплох, сумели вытащить ее из постели в одной рубашке, тем не менее оказалось, что она вооружена, она носит на груди превосходный и острейший толедский стилет в маленьких ножнах. Лезвее не длиннее трех вершков, но этой булавкой можно царапнуть на–смерть. Едва ее развязали, как она тигрицей отпрыгнула в угол и крикнула: если кто меня тронет, я всажу себе в сердце эту игрушку.
Фаустул (испуганно). Неужели она может сделать это?
Мефисто. Может… Ведь это грубая натура… В ней так много крови и жизни, что смерть нисколько не кажется ей страшной. Такие существа убивают себя с улыбкой какого–то любопытства, с каким–то весельем, словно их ребяческое самоубийство — торжество жизни, а не смерти. Это совсем не то, что утонченные культурные натуры, подобные тебе. Эти–то знают цену жизни, они хватаются за нее и скорее пошли бы на все унижения, чем расстаться с милой жизнью, хотя бы она превратилась даже в сплошную гнилую болезнь. Такая высокая, чисто барская любовь к жизни чужда натурам, чрезмерно близким к природе.
Фаустул. Но тогда я боюсь…
Мефисто. Ничего не бойся, говорю я тебе: ты — принц, ты — умница, ты — красавец. Ортруда — девушка свободная, страстная, даже похотливая; устоять ли ей перед тобой? Только не думай добиться чего–нибудь силой. С отцом же твоим я улажу дело. Скоро ему будет не до того. Скоро молнии его гнева найдут другие вершины, чтобы поражать. Пей, Фаустул, сын души моей!
Фаустул. За все ваши планы, великий друг мой.
Мефисто. Его высочество будет очень огорчен. Ведь вы только мы не наделаем с тобой! Насколько мне легче с тобою, чем со стариком. В тебе сказывается разжиженная кровь королевского дома, благородная кровь, наследие стольких высокобарских недугов. Однако — два стакана вина в том сусле, которое течет по твоим жилам, бродят разрушительно. Твой нос стал похож на свежую фигу, рот — на греческую губку, глаза — на оловянные пуговицы. Ты красив, мой мальчик. (Хохочет.)
Фаустул (смеется и тянется к нему). Шутник…
Мефисто. Отчего мне не пошутить?
(Входит Фаустина, останавливается возмущенная).
Фаустина. Что тут делается?
(Встречает взгляд Мефисто, смущается и опускает глаза.)
Фаустина. Отец забыл роман о Дон–Кихоте… Я хотела только взять… (Уходит, но вдруг с решимостью оборачивается.) Фаустул, не огорчай отца.
Мефисто (все время насмешливо следивший за нею). Вы сами, принцесса, острегайтесь огорчить его, — когда к деве начинает похаживать Гавриил… Вы понимаете?
Фаустина (смотрит на него с ужасом, и отвращением). Что вы хотите этим сказать?
Мефисто. О, вы меня понимаете, принцесса!
Фаустина. Вы пьяны, барон!
Мефисто. Его высочество будет очень огорчен. Ведь вы невеста графа Штерна. Это уже решено его высочеством. И вдруг… Ай–ай, как нехорошо. И такая скромница…
Фаустул. Моя сестра (икает) глупа.
Мефисто. Подите спать, принц! А вы — к отцу, к отцу! Надо быть понежнее с ним. Ведь вы — нежнейшая из дочерей — готовитесь нанести ему удар в сердце. Недостает только, чтобы вы открыли ему вашу сердечную тайну. Пожалуй, не нужно другого, чтобы убить бедного старика.
(Фаустина молчит, опустив голову на грудь. Мефисто, скрестя руки, смотрит на нее торжествующе. Фаустул наливает вино мимо стакана и испускает какие–то хрюкающие звуки).
ЗАНАВЕС.
КАРТИНА ВТОРАЯ.
Раннее утро. Небольшая комната, строго и просто меблированная, едва освещается слабым светом из окна. Письменный стол, на котором лежат в порядке бумаги и чертежи. Книги на полках. Большой портрет Фауста. Кто–то стучит во входную дверь. Из противоположной, ведущей в спальню, выходит Габриэль без кафтана и камзола.
Габриэль. Что там? (Отворяет дверь.)
Питер (врываясь). Мастер, события! Чорт знает, что творится в Тротцбурге этой ночью, а вы спите!
Габриэль. Что же? Что, Питер? Ты задыхаешься… Сядь на стул и помолчи минуту…
Питер. Помолчать? Нет, уж тут не до молчанья! Я не знаю — радоваться, горевать ли? Уф!
Габриэль. Отдышись и говори толком.
Питер. В городе восстание!..
Габриэль. Восстание?
Питер. Да, дождались наши угнетатели!.. Уф! Слушайте, мастер, вчера ночью, как мне рассказывали, большой Ганс собрал кучку самых отчаянных подмастерьев в «Яблоновом Саду». Он предложил обсудить, не броситься ли им на виллу Корону к Фаустулу и не отнять ли у него Ортруду. Все были уверены, что она там. Шума, и крика было порядочно. Туда приплелся и тот лохматый старик, который со своей бабой сеет столько негодования против богатых и правительства. Он горланил чуть ли не больше Ганса, Вдруг является в таверну — кто? — сама Ортруда! Все в смятении. Она рассказывает свою историю. Все. подозрения были справедливы, — ее похитил Фаустул, но она защищалась, как, тигрица, О, наша Ортруда — девица не из робких! Воображаю этого ребенка Фаустула перед нашей чертовкой… Да… ей грозили, ей льстили, а ночью явился альгвазил Мефисто и предложил ей убираться. Ему–де не хочется быть между двух огней: отцом и сыном. Он решился устроить ей видимость побега. Но Ортруда о благодарности не говорила, а о мести! Ее возвращение не только не успокоило Ганса и его парней, а подлило масла в огонь. Иные уже побежали за мушкетами, алебардами и факелами, как вдруг — новое событие! Вся гостиница оказывается окруженной ландскнехтами швейцарского полка. Это Фаустул открыто и дерзко пришел ловить Ортруду. Тут уж и робкие полезли на стену. Старик Бунт выхватил кинжал из–за пазухи и кричал: «Умрем, но не покажем себя трусливыми рабами!» Но оружия у парней было немного. Тогда Ганс, которого, вы знаете, все время преследовала эта мысль, выбегает на двор, размахивая своей длинной шпагой, и кричит: «Фаустул, если в тебе есть хоть капля мужской крови, — иди биться со мной». Фаустул под’езжает на коне. Он говорит: «к твоим услугам», вынимает пистолет и, прежде чем кто успел ахнуть, стреляет прямо в лицо Гансу. Тот падает мертвым. «Рубите эту сволочь!» кричит Фаустул. Швейцарцев было много, с пиками и саблями, — начинается бойня. Но весть разнеслась по Тротцбургу. Меня тоже разбудили. Вместе со всеми нашими учениками я бегу к «Яблонову Саду». Таверна горит, слышны лязг оружия и редкие выстрелы. Но как вы не слышали? — Ведь ударили в колокол у Святого Георгия.
Габриэль. Я заработался с вечера и спал очень крепко, но сквозь саван сна меня все что–то беспокоило.
Питер. Через час ландскнехты сами оказались окруженными городской милицией, которая собралась быстро. Командование принял мингер Скотт.
Габриэль. А… Он…
Питер. Тут явился барон Мефисто и говорил речь. Увел ландскнехтов, рассыпая в то же время угрозы. Вот вам события. Мастера собрались в ратуше. Купцы тоже начинают сходиться в Золотом Доме. Все подмастерья под оружием.
(Габриэль молчит и думает).
Питер. Меня послали к вам, мингер Габриэль, пригласить вас немедленно итти в ратушу.
Габриэль. Герцог накажет виновных… Я думал, что герцог уладит всю историю. Да, но удовлетворится ли город слабым наказанием Фаустула? Покарать сына… Так, как требуют обстоятельства, подобно старшему Бруту… Этот острый конфликт совсем некстати.
(Дверь распахивается. Быстро входит Скотт. Он в стальном нагруднике и шлеме, в высоких сапогах со шпорами).
Скотт. Ты здесь? А, Питер… Поди на улицу, Питер.
(Питер уходит).
Скотт. Друг, свершилось. Город в оружии. Мерзости сына перевесили заслуги отца, уже омраченные его упрямством. Герцогской власти приходит конец.
Габриэль. Я вижу, что гражданская война разгорелась, но не знаю, почему ты уверен в нашей победе? В городе до семи тысяч ландскнехтов, артиллерия в крепости Св. Ангела, многочисленные сбиры барона Мефисто…
Скотт. Я еще рано утром захватил крепость Св. Ангела и пушки. Мало того, я захватил казну и уже обещал ландскнехтам большой куш за простое бездействие. Кроме того, население города раз’ярено, — все в оружии. Перед собором тысячи мужчин и даже некоторые женщины. Перед вооруженным Тротцбургом ландскнехты все–таки — горсть.
Габриэль. С точки зрения военной ты поступал умно. Но, быть может, не надо заходить так далеко?
Скотт. Прежде всего надо держать противника под коленом, потом можно разговаривать.
Габриэль. Ты далеко не держишь его под коленом. Герцогу с его связями ничего не стоит поднять против нас кучу врагов и осадить Тротцбург войсками соседних князей. А что будет внутри города? Подмастерья потребуют немедленного исполнения своей Хартии Труда, мастера заупрямятся…
Скотт. В виду военной опасности подмастерья уступят. При общей опасности низшие слои всегда уступают высшим.
Габриэль. А как страшно назревшее недовольство купцами? Эти скупщики собирают сливки с нашего труда. Народ потребует их изгнания… Хорошо, если не бросится грабить склады. С другой стороны, купцы, уведя свои корабли с товарами, прекратив с нами торговлю, в короткий срок поставят Тротцбург в самое тяжелое положение. Герцогство Вэллентротц не может жить своим хлебом. Я предвижу множество других трудностей. И в такое время оказаться без Фауста!.. Его гений слишком заносчив, его планы часто трудны, почти неисполнимы, в городе не все идет ладно, но кто станет отрицать мудрость этого правителя? В конце концов, где город во вселенной, процветающий как Тротцбург?
Скотт. Несвоевременные мысли.
Габриэль. Наоборот. Есть только один исход: надо сговориться с Фаустом.
Скотт. Надо сговориться с Золотым Домом. Купцы пока увеличат свои таксы при скупке, немного понизят проценты за долги и цены на привозный товар, даже на хлеб. Я уже об’яснил им, что лучше спустить свои огромные барыши на пятую часть, чем рисковать потерять склады в мятеже и торговлю с Тротцбургом на целые годы. А за годы, говорил я им, Тротцбург может наладить свой собственный торговый флот. Этой угрозой собственного флота Фауст держал их в границах; мы можем делать то же.
Габриэль. Друг, — угрозы Фауста были миражами, но ему верили скорей, чем нам. Слегка уменьшить цену на хлеб? Но раз народ будет господином, купцы вряд ли спасутся, уступив не одну, а четыре пятых своих доходов.
Скотт. Я берусь уговорить подмастерьев. Повторяю, ссылка на общую всему городу военную опасность — вещь мощная. Надо быть ласковыми и с купцами, держаться мастеров, уметь вести за собой подмастерьев, а бунтарей без определенных занятий просто перехватать. Я легко найду предлог посадить в башню старого бунтаря и его кучку цыган, метельщиков, банщиков и гребцов. Ганс был мой зять, но, говоря как политик, его смерть сильно облегчает нашу задачу. Город должен стать республикой, но, конечно, в столь опасное время ему нужно поменьше правящих голов.
Габриэль. Быть может, только одна?
Скотт. Мы сговоримся на двух трибунах… Ганс — идол подмастерьев — был бы теперь, пожалуй, лишним.
Габриэль. Скотт, ты думаешь, что говоришь как политик? Не смешивай мудрости с хитростью, мужества с азартом, идеалов с честолюбием. Идем в ратушу. Мы отправим депутацию к Фаусту с просьбой остаться в городе властителем, но ограничить свою власть контролем народного собрания, воля которого будет представлена перед ним двумя трибунами. Все текущие вопросы от наказания Фаустула до требований народа мы разрешим тогда без большого труда. Авторитет герцога — для всех огромен.
Скотт. О! Ты и Фауст — вы сговоритесь!.. Авторитет! Да! А с другой стороны — мягкость и осторожность. К тому же Фауст широк и гибок. О, вы вдвоем!..
Габриэль. Вильям Скотт, вот моя рука. Тебя уважают за ум, волю, красноречие. Я тоже уважаю тебя. Хочешь принимать участие в этом триумвирате, который будет переходом ко все более полному народоправству? Тогда по рукам. Но твой план для меня неприемлем. Опереться на купцов, создать верную тебе и тобой оплачиваемую милицию, стать диктатором на место герцога — вот твой план. Против этого я буду бороться. Я не хочу менять Фауста на тебя. Тротцбург не пойдет на это, разве купцы да богатые цехи, которые увидели бы в этом свое собственное господство. Ты понимаешь меня, а я тебя. По рукам, или борьба?
Скотт. Что за подозрительность? Я такой же республиканец и демократ, как и ты. К тому же как мог бы я пойти против тебя? Разве весь народ не считает тебя праведником? Если ты отдернешь от меня руку, — кто от меня не отвернется?
Габриэль. Ни я, ни ты, ни даже великий Фауст тут неважны. Важен Тротцбург. Тротцбург должен показать пример нового строя, великое братство трудящихся. Идеал величествен, исполнение трудно, и тут надобны время и осторожность. Было бы преступлением, если бы ошибкой мы скомпрометировали такие горизонты. Но, друг мой, под осторожностью не надо понимать уступку власти над городом золотой олигархии. Или ты думаешь, что нам приходится выбирать только между тупым деспотом и золотым мешком? Тут я не стал бы колебаться. Не будь третьего выхода — все лучше, чем монархия. Но Фауст это не просто правитель, это не венценосец, это — просвещеннейший, величайший и любящий нас человек. Венец тут только помеха. Его власть, это — власть гения. Тут и встает перед нами задача: мы не хотим этой власти потому, что мы хотим свободы. Свобода — выше Фауста. Но менять Фауста на Исаака Сегаля или Юстуса Пиппершалька, на совет ожиревших мастеров, богатых цехов, — это–то уж нет. Я бы скорее умер, чем допустил это. Свободный Тротцбург — ничего иного! И я вижу в будущем этот свободный Тротцбург, освобождению которого должен служить его отец — Фауст.
Скотт. Ты будешь говорить в ратуше и к народу, я буду молчать.
Габриэль. Руку! (Жмет ему руку и светло улыбается. Скотт холоден.)
ЗАНАВЕС.
КАРТИНА ТРЕТЬЯ.
Площадь Фонтана. С одной стороны ее — здание цеха каменщиков серое, в поздне–готическом узорчатом стиле, с башней посредине. С противоположной стороны — здание Государственной Казны. Его охраняют четыре милиционера в касках и с аркебузами. Они медленно расхаживают по сводчатой галлерее. Здание тяжеловесно, — из темного камня, с решетками на окнах. В глубине площади готическая церковь с колокольней. Посреди площади большой фонтан, изображающий Фортуну с рогом изобилия, из которого брызжет и распыляется огромным веером вода, падающая в широкий бассейн с аллегорическими бронзовыми фигурами. Фонтан покоится на довольно широкой площадке, к которой ведут семь гранитных ступеней. Площадь полна вооруженным народом. Подмастерья разных цехов перемешались в беспорядке. Довольно много женщин, из которых некоторые даже вооружены. Дети шныряют в толпе. Гул голосов, дальний грохот барабанов, а с колокольни все время несется тревожный набат. На площадку Фонтана всходит городской глашатай — в черном костюме, с гербом Тротцбурга на груди, изображающим стилизованную волну, разбивающуюся о башню.
Глашатай. Тишина! Тишина!
(Скотт всходит на помост и дает знак шляпой. Четыре каменщика вносят на лестницу на носилках закутанный в черный плащ труп Ганса, ставят его поперек ступеней и снимают капюшон с головы. Видно окровавленное лицо. Движение в толпе, щум, потом сразу мертвая тишина).
Скотт (громко). Граждане Тротцбурга, могучие цехи, отнявшие эту землю у моря и воздвигшие в четверть века город, — удивление мира. Сын герцога этой земли — принц Фаустул — ночью похитил сестру нашего дорогого друга Ганса, дочь старого мастера Варгафта, того самого, что заложил первые камни нашего собора и нашей ратуши. Когда девушка убежала от него, принц пришел за него, окруженный наемниками–убийцами, и защищавшего сестру брата убил.
(Сильная вибрация в толпе и потом снова гробовая тишина).
Скотт. Мы будем требовать суда над убийцей. Но кто судьи ему? Его друг и развратитель, наш чудовищный альгвазил, проклятие и позор этой страны? Или его ставленник — судья ван–дер–Гоог, глупый педант и верная собака каждого сильного?.. Или герцог? Но ведь он — отец ему? Хвалят наши порядки и жизнь нашего города. Они лучше, чем у соседей, но сколько обид остаются неотмщенными? Сколько притеснений неотмененными? Сколько жалоб неуслышанными? Мы чтим герцога, но пусть и он уважает нас! Он построил Тротцбург, но и мы его построили! Мы и он, по меньшей мере, равны, а он держит нас под опекой своих ставленников, словно мы несмысленыши.
(Последние слова поддерживаются, гулом одобрения).
Скотт. Фауст мудр, мудры и цехи! И они хотят быть так же славными, свободными, богатыми, как и он. Сколько раз уже шла об этом речь. Сколько раз цехи хлопотали об избрании всем трудовым людом, создателем страны и города, двух трибунов — соправителей герцогу, строго подотчетных народному собранию. Эту мечту мы давно облюбовали, город носит ее под сердцем, как мать ребенка… Но нашему ребенку не дают родиться. Герцог хочет быть единовластителем. Но мы выросли, мы знаем наши права, мы знаем наши силы и мы заявляем, мы — великий Тротцбург, — что после происшествий этой ночи мы не можем больше дать на то согласие.
(В толпе проходит буря).
Крики. Великий Тротцбург! Да здравствует трудовой Тротцбург!
(Знамена колышутся, бьют барабаны, трубят трубы).
Глашатай. Тишина! Тишина!
Хонт (становясь почти рядом со Скоттом,). Слушай, великий народ, — занимается твоя заря!
(Движение восторга в толпе).
Скотт. Если нам горько под ним, мудрым и добрым, то что мы будем делать при его наследнике? Разве вы на видите, как альгвазил подготовляет нам цепи и рабство?
Крики. Долой его! Это — сатана, кому это не известно? Долой барона Мефисто! (Громкий свист с разных сторон.)
Скотт. Граждане, выберем немедленно, никого и ничего не дожидаясь, двух трибунов и пошлем их к герцогу Фаусту, как равных к равному, говорить с ним о нашем горе и о нашей чести. Великий Тротцбург будет говорить их устами со своим первым гражданином, а, не раб со своим повелителем.
(Радостный и гордый шум).
Крики. Так, так! Браво. Вильям Скотт! Да здравствуют трибуны!
Скотт. Граждане, мы уже совещались в ратуше с собранием мастеров. Всеми вами чтимый мастер свободных каменщиков Габриэль–ван–Бонд говорил там: мастера предлагают вам выбрать трибунами мастера Габриэля и мастера Вильяма Скотта. Угодны ли вам эти лица?
Крики. Да, да! Да здравствует Скотт! Да здравствует Ван–дер–Бонд!
(Крики длятся долго).
Скотт. Все согласны на эти имена: Вильям Скотт и Габриэль Ван–дер–Бонд, свободные каменщики?
(Громкие аплодисменты).
Крики. Все. все! (Звуки труб и барабанов.)
Бунт (протискиваясь вперед и становясь на нижнюю ступень фонтана). Слово мне, слово!
Скотт. Ты гражданин?
Бунт. Гражданин мира. Слово мне! (Взбирается двумя (ступенями выше.) Тротцбург, город моего сердца, люди мои милые, проснувшиеся, действуйте скорее, без колебаний, без жалости! Еще утро. Пусть до полудня не останется здесь ни одного богача, ни одного жирного брюха с целым горлом. Сносите на площадь их утварь, накопленные ими груды золота, а эти двое пусть каждому дают поровну… Фаустула изловите и отдайте его мне. Я вас потешу! А старика посадите на осла задом наперед и пускай едет искать других дураков себе в лакеи…
(Неясный ропот в толпе. Волны идут нестройно и распространяются неправильно. Ритм нарушен).
Скотт (решительно). Довольно! Товарищи подмастерья, нам не время слушать злую болтовню старика, впавшего в детство.
Бунт (недоумевающе). Что такое?
Скотт. Иди, иди, старик!.. Нам надо строить наше дело, а не губить его… Никто здесь тебя не послушает. Мы — не звери, сорвавшиеся с цепи, а люди, гордо и смело берущие себе свободу.
(Ропот одобрения. Начавшись у фонтана, волны бегут, концентрически расходясь по всей площади).
Бунт (смущенно). Это что за песни?
(Габриэль всходит на площадку, — осторожно берет его за плечи и сводит с лестницы).
Зависть (в передних рядах машет своими локтями и кричит). Люди, люди! Смотрите, как бы эти умники не своровали у народа его счастье. Раз выдался свободный часок, ослабела солдатчина, — бери тогда всяк, что может, у богачей. Что взял, — твое на этот раз. Так ли говорю, братцы и сестрицы?
Габриэль (спокойно). Не мешай, не мешай нам, старуха… Питер, отведи ее немножко в сторону.
Скотт. Граждане, все к цехам! Оставайтесь под ружьем! Военное командование беру на себя я. Товарищи, сегодня Повинуйтесь выбранным вами властям, — завтра вы будете их повелителями и срубите им головы, если мы того заслужим.
(Громкое одобрение, потом волнение становится сдержанным. Торжественная решимость.
Все происходит без излишнего шума, словно то, что делается, разумеется само собой.
Повсюду серьезные лица, сжатые брови, руки, крепко держащие оружие).
Хонт. Слушай народ! (Бьет в большой барабан и потом декламирует):
«Проснулся город–властелин,
Могучий великан:
Царь Тротцбург утром средь равнин
Вдруг выпрямил свой стан.
Пред ним бежал сердитый вал.
Родной земли творец,
На дне морском он воздвигал
Волшебный свой дворец.
Свободы хочет исполин
О тысячах голов,
В сердцах несметных — он один
Рожденный для веков!
Он скажет герцогу: приди.
Мой первый гражданин,
Стой среди равных впереди,
Но царь — лишь я один!
Один и все, дышу во всех,
Во всех тружусь, пою, —
Ты слышишь мой громовый смех?
Ты чуешь мощь мою?
Свершился странный, чудный сон,
Родился великан!
Царь Тротцбург основал свой трон.
В пределах здешних стран.
О, громче, громче, голос мой.
Услышь меня, я пьян
Восторгом пред твоей зарей.
Царь Тротцбуг — великан!»
К оружию, граждане! Иль он родится сегодня, ваш пламенный, во всех живущий, вечный, победный великан, или рассеется этот сон, святой чудесный и страшный. Город, город, слава тебе! Бьет в твою честь твой барабанщик, — Гунтер Хонт!
(Бьет изо всех сил в барабан. Барабанный бой отвечает ему со многих сторон.
Громовой хор голосов напевает).
«Проснулся город–властелин,
Могучий великан:
Царь Тротцбург утром средь равнин
Вдруг выпрямил свой стан!»
(Лица светлеют, ритмические волны бегут по морю голов,
растроганные глаза смотрят прямо, пред собою; некоторые обнимаются.
Гремят барабаны, и песня разносится все стройнее).
ЗАНАВЕС.
КАРТИНА ЧЕТВЕРТАЯ.
Оранжерея во дворце Фауста. Она полна апельсиновых деревьев и пальм. Теплый летний полдень. Широкие окна открыты. Большой какаду и пара разноцветных попугаев кричат и кувыркаются на трапециях. Есть и другие птицы редких пород. Под пальмами мраморная полукруглая скамья в античном стиле. Фауст в длинном бархатном халате, подпоясанном золотым шнуром, сидит на скамье и читает, далеко отставив от своих дальнозорких глаз небольшой томик в кожаном тисненом переплете.
У ног его лежит стройная снежно–белая борзая. Входит Фаустина в широкой белой одежде, с распущенными волосами, перехваченными небольшой ниткой жемчуга. Она несет на серебряном подносе золотой кубок с прохладительным напитком.
Фауст. Послушай, дочурка:
«Ed era il cielo all’armonia si intento
Che non si vedea in ramo mover foglia
Tanta dolcezza avean pien l’aere e l’vento».
«Небо так заслушалось гармонии слов его милой, что ни один листок не шевелился на ветвях. Столько неги переполнило и воздух и дыхание ветра». (Пьет из кубка.)
Вот я, выдавая тебя замуж, вернулся к Петрарке. Ведь я и сам любил. (На секунду умолкает.) Когда я сам любил, — я не читал Петрарки. Я далее сам не сочинял стихов. Страсть клокотала — и кипящая не могла отлиться в прекрасные формы… Сядь со мной рядом, моя юность… (Фаустина садится.) Теперь же в это чудное лето и среди равнин, поросших тополями, и в парке Башни Соколов, с его фонтанами, и в саду дворца, с его статуями, и здесь — в волшебных кущах далекого знойного юга — я мечтаю о любви, как о далеком — давно покинутом береге. Не для себя, конечно… После напряжения мысли над планами и чертежами, после упорной работы над моим железным человеком, как только захочу я отдохнуть — вспоминаю о тебе, твоей молодости и красоте, о предстоящих тебе совсем, совсем новых, далее ожидаемых тобою ощущениях, и сладостные строфы Петрарки являются в памяти, под’емлются со дна ее сокровищницы…
С тобою я и томно и в грезе переживаю снова любовь, как надеюсь с твоими детьми пережить вновь в таких же золотых туманах счастливейшую пору жизни — очаровательное детство. (Гладит ее склоненную голову.) Но ты, Фаустина? Ты не похожа на влюбленную. Напротив, — я читаю какую–то заботу в твоих синих глазах. Ведь ты знаешь, что останешься со мною? Граф Штерн поселился здесь, в моем дворце. Я делаю, неутомимый строитель, большие, перестройки. Я создам вам очаровательное гнездышко рядом с моим жилищем. Мы не расстанемся. (Пауза.) Еще минуту покоя… Потом снова в мастерскую… О, мой железный человек! Я, кажется, нашел–таки для тебя душу.
(Закрывает глаза и опирается головой, о высокую мраморную спинку скамьи.
Фаустина смотрит на него со слезами на глазах, вдруг порывисто целует его в лоб и руку).
Фауст (с улыбкой открывая глаза.) Что за порыв?
Фаустина. Отец мой, великий Фауст!
Фауст. Дочурка, то, что я сделал до сих пор, еще немного… Не гоже повторять за хором льстецов — великий Фауст! Мне надо, надо до моей смерти сделать еще шаг вперед. Видишь ли, дочь, я часто глубоко страдаю.
Фаустина. Отец!
Фауст. Да, да!.. Я часто–глубоко страдаю. Я много строил, строю и буду строить… И я забочусь о том, чтобы люди, мне помогающие и несущие на плечах самую неблагодарную, тяжкую и черную часть труда, были… были более или менее… довольны… Но они так бедны… и утомляются… и скоро стареют… Я уменьшил трудовой день: они не работают больше девяти часов, потому что я учредил две смены. Но и это тяжело. Я плачу хорошо, но разве я могу сделать их богатыми? Разве они могут путешествовать, развивать свой ум чтением и искусством, воспитывать детей так, как я воспитал тебя? Разве я могу дать им тысячу вещей, которые называют роскошью? Между тем, как — на мой взгляд — роскошь — это воздух для настоящего человека. Нет, я не могу! Для этого надо бы уметь силой или алхимическим золотом заставить весь остальной мир содержать данью труда мой город… Или сделать у себя труд еще тягчайшим, чтобы самим производить в сотни раз больше. Мы бедны, Фаустина, мы бедны… И нам, людям, приходится слишком много работать, грубо работать, работать рабью, жесткую работу, между тем как каждый человек создан быть творцом, счастливым мастером и хозяином. Этот добрый негодяй, этот морской волк с мраморным сердцем — Никлас — предлагает строить наше белое счастье на согбенных спинах черных людей. Подумай, мы будем жить в светлых, полных радости творчества, сияющих дарами духа дворцах… но — спустись по длинной лестнице в подвалы, и ты в аду, где человек со скрежетом зубовным исполняет повеления других, и гибнет, измочаливая мускулы, ломая кости, вытягивая жилы, весь стираясь о твердое сопротивление материи… Ужасно! Даже животных, даже животных, Фаустина, не хочу я иметь навеки там, в этом подвале! Фаустина, меня называют жестоким… Да, да! Я знаю, — меня называют жестоким, вот, например, за осушку болот, где убивает людей лихорадка. А между тем, поистине, я мягок сердцем. Мне все снится страдалец — ослик, терпеливый, маленький ослик, доживающий раннюю старость безотрадной жизни под непосильной ношей. Ослик смотрит на меня с тихой укоризной… «Вся тварь жажадет искупления», сказал Тарский мудрец… Но, действительно, позорной была бы эта моя слабость, и мог бы издеваться надо мной мой викинг Никлас, человек из льда и огня, как северное сияние, если бы мои страданья не толкали меня к творчеству. И вот, дочурка, я решил сделать железных людей! Железных, неживых, но работающих животных. Я не сошел с ума и я не волшебник, как толкуют глупцы. Я уже наладил все тело своего железного слуги, но остановка за душой, за двигателем… И ты знаешь, — я переживаю торжественные дни: я нашел душу для него. — Его душой будет пар! Ха–ха–ха! Ты совсем считаешь меня рехнувшимся, детка? Да, да! Вода под действием огня расширяется и, если… (Он встает с блестящими глазами и живо жестикулирует.)
Мефисто (входя). А, вот где находится ваше высочество. Вас ищут, герцог. В городе — мятеж! Вооруженные банды уже захватили казну, склады оружия и пушки в замке Св. Ангела, — словом, все, что им нужно в этих случаях. Прежде, чем вы мне прикажете вести на них ландскнехтов и перебить все сбесившееся стадо, — вам надо, согласно вашей славы гуманиста, попытаться уговорить зачинщиков прекратить бесчинство. Но они сами пришли сюда убеждать вас сложить с себя власть.
Фауст. Что за вздор? Что за бред?
Мефисто. Вот они!
(Секретарь вводит Габриэля и Скотта).
Секретарь. Согласно распоряжения вашего высочества — я допускаю к вам этих людей, ибо дело не терпит отлагательства.
Фауст. Уйдите все вон. Оставьте меня одного с ними!
(Все, кроме Фауста и двух трибунов, уходят).
Фауст (грозно). Итак, вы решились на бунт?
Габриэль (спокойно). Надеюсь, вы выслушаете нас, тем более, что мы будем кратки.
Фауст (садится). Говорите.
Габриэль. Вчера ваш сын, гоняясь за похищенной им и убежавшей от него девушкой, убил ее брата Ганса.
Фауст (вскакивая). Ужели? Подите, скажите народу, чтобы он сохранял спокойствие. Убийца будет наказан. Слышите! Это говорит Фауст. Я сумею быть справедливым, сумею быть судьей своих детей! Он будет наказан, хотя бы мне пришлось вырвать из головы мой правый глаз, как я вырву Фаустула из моего сердца!
Габриэль. Этого–мало, герцог, выслушайте. Герцог, поймите же, наконец, вы — умнейший человек земли: Тротцбург вырос и хочет быть свободным. Он не хочет больше иметь патрона, опекуна, господина. Он хочет видеть в вас лишь первого гражданина, консула. Оставьте за собой титул герцога, если это вам угодно, но город настаивает, чтобы вы приняли в советники двух трибунов, ответственных перед народом. Вы видите их перед собой. Герцог, умоляю вас, не давайте гневу ослепить ясные очи вашего гения. Мы будем скромны, герцог. Мы будем вам верными сотрудниками. Мы знаем расстояние, отделяющее вас от нас. Не потому — что вы герцог. Это — звук, не больше, а потому, что вы — Генрих Фауст, а мы — скромные рядовые работники. Но мы стоим ближе к народу, и ваше дело пойдет бесконечно лучше с нами, чем с чудовищным альгвазилом Мефисто, которого вы поставили между собой и народом.
Фауст. Габриэль, Вильям, какие советы можете вы дать мне? Вы — дети, вы еще не родились духом… Ну, хорошо, я сделаю вас советниками, но ведь это будет комедия, на которую мне придется тратить мое золотое время.
Скотт. Нет, герцог, вы должны принести клятву перед народом, что не предпримете ничего, на что мы двое наложим наш единогласный запрет, и предпримете все, на чем мы двое станем настаивать.
Фауст. А? Значит, правителями будете — вы!
Габриэль. Герцог, герцог, не торопитесь! Я повторяю, что мы будем знать наше место.
Фауст. Нет и нет! Это — ребяческая заносчивость, корень новых неурядиц и недоразумений. Нет и нет! Пусть народ успокоится и идет работать. Нет, — вот мой ответ. А ослушников я сумею сломить силой!
Габриэль. Подумайте, герцог, ваши слова чреваты бедами.
Скотт. Вы хотите действовать силою? — Мы тоже готовы на это. Назад мы не отступим. Вы хотите крови? — Она прольется.
Фауст. И падет на вашу голову.
Скотт. Пусть! Мы гордо войдем в историю в пурпуре нашей крови, пролитой за, свободу. Она клеймит лишь чело тирана.
Фауст. Глупцы, я уничтожу вас, уничтожу весь этот город, как муравейник, и создам себе другой.
Скотт. Тротцбург будет свободным или погибнет!
Фауст (отходит от них. Останавливается. Задумывается). Минуту размышления. Кровь мне противна, (Прижимает руку к голове.) Сделать этот опыт?.. Ведь увидят сами! Их ошибки я исправлю потом. Ведь мне все равно надо отдать все силы железному человеку. (Подходит к ним. Громко). Трибуны плебса! — Мы сделаем опыт. Править вместе с вами я не хочу и не могу. Выбирайте: — или я — один властитель Вэллентротца и Тротцбурга, или уж управляйтесь без меня. Я удалюсь в чужие земли создавать новую жизнь. Я не обеднею, потеряв герцогство. Смотрите только, — не стать бы вам нищими, потеряв меня.
Габриэль. Не настаивайте, герцог, выбор тяжел.
Скотт. Но определен заранее. Лучше свобода со всеми ее опасностями, чем самый мудрый господин!
Фауст. Уверен ли ты, молодой шотландец, что народ с тобой согласен?
Скотт. В эту минуту? Да. Если раскается позднее, то будет просить вашего милостивого возвращения и принесет вам в дар наши головы.
Фауст (весело). Габриэль! Он у тебя решительный. Смотри за ним. Ты — сер, как надо честному демократу, но этот что–то уж очень сверкает.
Габриэль. В нем собрались в эту минуту лучи света и тепла всего Тротцбурга.
Фауст. Берите правление.
(*Трибуны кланяются. Бешено распахивается дверь и врывается весь нахохлившийся Фаустул,
за ним входит хмурый и раздраженный Мефисто*).
Фауст. Ты, ты — преступник, ты осмеливаешься нагло показываться мне на глаза?!
Фаустул. Преступник — не я, а — вы, мой отец.
Фауст. Ты — убийца бедного Ганса, такого сильного, даровитого!..
Фаустул. Клянусь всемогущим творцом, я убил его нечаянно и в законной самообороне: кто станет утверждать иное — лжец и клятвопреступник! Но вы, но вы! Вы осмелились уступить корону этим мещанам, — корону, которая не принадлежит вам! Никогда, никогда император не сделал бы вас герцогом этих цветущих земель, если бы одновременно с тем не устроился брак ваш с моею матерью инфантой Эльвирой, ибо никто не мог иметь больше прав на эти земли, чем королевский дом высокомощной Испании. Вы владеете страною, пока вы живы, но я говорю, как ваш наследник и предок всего грядущего герцогского и позднее, конечно, королевского рода: клянусь богом, ни один властитель соседний или далекий не поколеблется оказать мне помощь против вашего решения, ибо вы даете Европе тлетворный пример!.. Возьмите назад ваше решение, — я требую этого!
Фауст. Принц, Фауст не берет назад своих обещаний.
Фаустул (вне себя). Так слушайте же, отец: на свете бывают и священные бунты, и таков будет бунт, который я подыму против вас! Голос неба, завет стародавних порядков призывает меня! Никто не осудит меня! Я стану во главе войск, я подчиню себе оставленный вами город!
Клянусь в этом Матерью Божьей и святым Яковом, патроном Испании!
Фауст. Будь спокойнее… Ты извергаешь, как вулкан.
Фаустул. Через меня вещают мои предки и мои потомки!
Мефисто (улыбаясь язвительно). Он тоже сейчас стихия, Ваше Высочество.
Фауст. (Габриэлю.) Ты видишь, мой прекраснодушный Гракх, как часто упрекал ты меня в жертвах людьми для осушения болот, прорытия каналов, прокладки дорог… Теперь ты и друзья твои — мечтатели, Гармодии, Тразибулы, патриоты — хотите выстроить что–то большее, на мой взгляд — химерическое, посмотри. — эта попытка, как ни поверни дело, — будет стоить крови. Но если я жертвовал братьями–людьми, то я воздвигал. Воздвигнешь ли ты, великий стоик?..
Габриэль. Ваш отказ от правления на договорных началах порождает огромные трудности…
Скотт (нетерпеливо). Город вырос! Город справится со всеми врагами. Герцог повелит своим герольдам протрубить и возвестить по городу, бургам, селам и деревням Вэллентротца, что он отказался от престола. Большего мы не требуем. Тротцбург никогда не признает над собою власти Фаустула.
Фаустул. Признает, дерзкий каменщик! Железную пяту поставлю я на вашу голову!
(Скотт пожимает плечами).
Фауст (садясь на скамью). Печально, печально… Итак: жизнь хочет итти сердитой стопой и требует, чтобы я посторонился?.. А направляется она явно в бездорожье, но кочкам, по колючкам… Печально. Итак, вы выросли, мои дети: сын мой — Фаустул и Тротцбург — сын мой! И хотите делиться и не хотите слушать старого родителя? Да будет! Умываю руки. (Делает соответственный жест.) Не как Пилат, предавая Агнца наказанию, — ибо, клянусь, никто из вас, не похож на агнца. Вы выросли, вы возмужали. Ха–ха — да будет… Мне скорбно за вас. За кровь, кровь, готовую пролиться, за силы, которые будут потрачены даром!.. Но вы так хотите. Да будет!.. Пусть же идет жизнь своей сердитой стопой, куда хочет, — я уступаю дорогу, мои блудные сыны! В последний раз, однако, Габриэль, тебя спрашиваю, умный и даже в снах своих положительный человек, в последний раз спрашиваю тебя, — выбирай: или я остаюсь попрежнему единовластным руководителем судеб города и страны, или герольды протрубят и огласят, что Генрих Фауст отказался от престола, не назначив наследника.
Габриэль. Если таков выбор, герцог, то с сокрушенным сердцем и стесненной грудью, но с верой в народ мой и упованием на торжество правды, говорю: второе!
Скотт (облегченно вздыхает). А!
Фауст. Сын мой, Фаустул, хочешь ли ты, повинуясь отцу, отправиться на долгие годы в путешествие по всему миру поучиться и расти душою? Я даю тебе слово сделать все, что в моей власти, для твоего счастья. Или ты хочешь бороться за герцогскую корону, мною оставленную, и лить кровь?
Фаустул (истерически). Не уступлю короны! Не уступлю, не уступлю!
Фауст. Вы выбрали. С высоты Башни Соколов я буду наблюдать преступную комедию. Горька моему сердцу ваша детская драка. Но учитесь! Учитесь на деле, если не внемлете словам. Герольды возвестят. Фаустул, я не ставлю тебе препятствий. Не хотите же вы, трибуны плебса, чтобы я, уступая вам все, еще убирал камни с вашего пути?
Скотт. От имени города мы выражаем вам благодарность. Борьба с вами, великий человек, означала бы для нас скорей всего славную гибель. Борьба с другими не страшна нам.
Фаустул. Посмотрим, так ли запоешь ты на поле битвы!
Фауст. Вы, барон Мефисто, со мной?
Фаустул. Барон со мной.
Мефисто. Я с принцем, ваше высочество.
Фауст. А–а, ну что же… Чья бы ни сломилась гордость, — И буду прав, несчастные, заносчивые дети. Сегодня же удаляюсь в Башню Соколов. Она — моя! Горе тому, кто попробует тронуть меня там.
(Габриэль кланяется).
Фауст (величественно). Идите, бедные дети. Иди и ты, Фаустул, и вы, барон.
(Все кланяются и уходят. Фауст один).
Фауст. Все полно благоуханием… А люди, которым и без того так трудно на земле, готовят бешеную борьбу. Но я вижу, что слова на них не действуют. Железная Мойра, ты победила пока… Научи их, вразуми, приведи тяжелым путем ко мне моих блудных детей.. Грустно… Но три сокровища остаются у меня, которые поддержат меня. Моя красавица Фаустина, мой железный человек и моя вера в то, что они все придут ко мне. За работу же, Фауст. Жди твоего часа и твори. (Медленно уходит.)
(Мефисто входит с противоположной двери и идет за ним, крадучись.
Останавливается у двери в кабинет, в которую ушел Фауст, и смотрит ему вслед).
Мефисто. Вот как повернул ты игру? Ты ее проиграешь!.. Этот Фауст — это какой–то ящик с сюрпризами… Но сколько бы фокусов ни таил ты в себе, — клянусь матерью, ты проиграешь. Уже ты на маленьком островке, со всех сторон окруженный бурными волнами. Ты потеряешь все! Может ли быть сомнение в том — кто победит в нашей борьбе?
(Какаду кричит громко: «Фауст, Фауст, Фауст!»).
Мефисто (грозя ему пальцем,). Глупая птица.
КАРТИНА ПЯТАЯ.
Небольшая комната во дворце епископа. Сверху спускается голубой фонарь, мягко освещающий ее углы, заставленные креслами и кушетками. В одном углу стоит статуя, столь красивая, что нельзя сказать с уверенностью — мадонна это или Гера. Перед нею мерцают три лампады. Посредине комнаты под фонарем круглый стол, накрытый роскошной скатертью, заставленной серебряными блюдами с остатками обильного ужина. Разноцветные стаканы, разнообразные графины и флаконы с вином. В креслах, откинувшись, благодушествуя и попивая вино, сидят епископ Вильфрид, судья Ян ван–дер–Гоог и барон Мефисто.
Епископ в фиолетовой шелковой рясе с золотым осыпанным бирюзой крестом на груди, на, седой курчавой голове фиолетовая шапочка. Лицо и руки белы и аристократичны, на пухлых пальцах множество перстней, губы лоснятся от вина, щеки порозовели, толстый благодушный нос, благосклонные глаза, Он очень полон, но в общем изящен.
Судья — тощий человек в черном атласном таларе. Голова лысая спереди, а сзади обросла длинными, жидкими, жесткими волосами. На плечах цепь. Руки темные, длиннопалые. Лицо зеленовато–желтое. Глаза глупые, с большими белками, брови подняты, как бы от постоянного удивлении.
Епископ (попивая вино). Вы меня совершенно успокоили, дорогой мой барон. И ваш совет мне кажется верхом разумности. Пока не давать никаких признаков жизни. И, конечно, они (с ударением) тоже не посмеют нас тронуть. Особенно меня, служителя алтаря, хранимого всей святостью римской церкви. Как же только вернется принц с сильной армией, мы удаляемся к нему и оповещаем: я в пастырском послании, ван–Гоог в судебном постановлении, что законным наследником престола является Фаустул, бунтовщики же повинны строгому суду и казни как на земле, так и в жизни загробной. Пока — спокойствие… Ах, я ничего не люблю так, как спокойствие, оттого, друзья, что, видите ли, — человек — это его желудок. Расстроен желудок — и перед вами пессимист; желудок работает как следует — и перед вами благородный ум, открытое сердце, счастливая натура. Признаюсь вам, что я молюсь вместо: избави мя от лукавого. — так: избави мя от расстройства желудка. Ибо, друзья, то, что считали в древности искушением сатаны, есть расстройство питания. Пары подымающиеся из воспаленных внутренностей и мозга… Благодать же, с другой стороны, есть не что иное, как чрезвычайная гармония в отправлениях пищеварительного аппарата. Все еретики, друзья, страдали катарром. Их так и называют — Катарры. Отцы церкви предписывали пост, как и врачи советуют диэту. Отцы церкви весьма имели в виду желудок. Желудок, друзья, выше головы. Ибо никакая мудрость, поглощенная глазами в книгах, не дает нам усвоить господа; но плоть Христова под видом хлеба и вина принимается нами через уста и желудок… Как с материей, так и с божеством человек общается, таким образом, через желудок: это место нашей связи со вселенной. Платон давал преимущество голове, Гиппократ — сердцу, Аристипп — половым органам, однако, мы знаем людей безмозглых, людей бессердечных, людей бесполых, людей же безжелудочных — мы не знаем…
Мефисто (громки аплодируя). Браво, браво… Встанем и воспоем: слава епископу.
Мефисто и судья (встают, и поют басом):
«Dominus Episcopus,
Vir Sapientissimus,
Stomaco fortissimus.
Vivat longum saeculum
Ad salutem paecorum!»
(Епископ благодарит, прижимая к сердцу пухлую белую руку).
Судья. Меня они не любят… хотя — клянусь alma Mater моей светлой юностью — среди ученых докторов Болоний я знаю все тонкости римского права… Под моими руками Codex Justinianus все равно, что орган в соборе. Я добиваюсь от него сразу нужного мне аккорда. Я помню их жалобу на меня герцогу. Герцог призвал меня и расспрашивал. Но я засыпал его латынью. Он пришел послушать судоговорение. Клянусь бородой Папиньяна! В этот раз, по совету барона, я отступил от судебных норм и оправдывал всех, произнося решения, как мне подсказывал великий Альгвазил. Но я знаю, — не поступи я так, герцог — плохой юрист — прогнал бы меня из Тротцбурга. Я гораздо лучше полажу с молодым герцогом. Впрочем, что такое справедливость и закономерное постановление суда? Где иной критерий? Мудрецы вложили свою мудрость в руки судии, как вкладывают провизию и приправы в руки доброй поварихи. Из них он делает судебный соус, коим поливает каждый casus, подбирая, что надо, соответственно вкусу… своему, или какого–либо именитого гастронома.
Мефисто. Браво, браво! Ваше высокопреподобие, встанем и споем славу судье.
Епископ Мефисто (встают и поют):
«Vivat judex optimus,
Vivat vir doctissimus,
Semper servus regibus,
Sed dictator legibus».
Мефисто. Суд и церковь! Какие слова! Вся душа полицейского состоит в одном: поддерживать суд и церковь, как они поддерживают общество и трон. Что касается армии, — то, поскольку она особенно важна, она является той же полицией. В вопросах международных царит еще сила. Лишь тогда восторжествует повсюду порядок, когда во вселенной будет едина церковь, един суд и едина полиция!
Епископ. Amen.
Мефисто. Предлагаю, не ограничиваясь традиционным vivat, каждому из нас спеть куплеты во славу других: судья — епископу, я — судье, епископ — мне. Идет?
Судья. Идет… Я кропал стишки на вульгарном наречии, когда был студентом. Но дайте мне собраться с мыслями… И выбрать мотив… Гм… гм… Кажется, нашел.
«Божья церковь велика!
Гм… Гм… Да… велика…
Цель ее… так высока…
(Меняя тон). Она есть камень преткновенья
Для всякого поползновенья
Против порядка сделать бунт!
Нет рифмы к бунту… Вот так фунт;
(Низким басом.) Н–да… Бунт…
Устой общественного зданья.
Ей служат страх и упованья,
Н–да… Упованья…
Ей служит смерть, ей служит грех!
Опят нет рифмы… просто смех.
(Низким басом.) Н–да… Грех.
Среди приятнейших утех
Добропорядочного строя —
Гм… Строя…
Дворец богатый шире строя,
Всегда найдем в своих палатах
Мы место теплое прелатам…
Хромает рифма. Для прелатов
Найдем… А, чорт возьми, ах, порт!
Прелатов… Чорт возьми!
Довольно!»
(Низким басом.) Баста!
(Все хохочут, чокаются, пьют).
Мефисто. Мой черед.
«Продудеть бы мне в дуду
Славу славному суду.
Трепещи, преступный люд:
Выступает чинно суд.
За судьею две лисы
Тащат старые весы.
Кум издавна — суд — купцу:
И судье весы к лицу.
Дальше волки тащат меч,
Чтоб со слишком буйных плеч
Головы законно ссечь.
И чтоб помнил сам закон,
Что дитя насилья он.
Обезьяна цепь несет:
Ею суд вину кует.
Да и судьи–то, дружочки.
Тоже пляшут на цепочке.
Чтобы правда их судила.
Как судить велела Гила.
Дальше вижу в мутной мгле
Груды свитков на осле, —
Что прикажут, — все там есть:
И судье ведь надо есть!
Дети Силы сами голы,
Суд нарядит их в камзолы.
И хоть ходят без штанов, —
Все же так — они приличней.
Где ж найду я вещь отличней
Трибуналов и судов?»
Судья. Браво, верно!.. Слава трибуналу… Нет ничего выше их. Я вас спрашиваю, что такое бог? Судия! Это верно, как то, что я пьян.
Епископ. Высокочтимый барон, церковь пьет за тебя, как за представителя высокого лукавства,
«Лукавый змий в соблазн ввел бабку Еву
И прародителей предал господию гневу.
Грехопадение, однако, было благом:
Путем раскаянья шли люди робким шагом
И приготовились к принятию Христа.
Без змия не было б, поверьте мне, — креста,
Вот почему в пустыне Моисей
Повесил на кресте в знак веры медных змей.
И сам Христос сказал: будь сердцем прост,
Как голубь, но в мозгу таи змеиный хвост.
Клянусь же вам змией, почтенный наш Мефисто.
Нечистый нам не враг. Для чистого — все чисто».
Мефисто (низко кланяясь). Если б я мог чувствовать себя достойным представителем древнего змия, то благодарил бы вас от его лица. Древний змий был черен, как ночь, необ’ятен и бесконечен. Поднялся безумец, которого вавилоняне назвали Мордухом… Он колыхнул эфирные пучины и создал свет, а вечная тьма, гармоничное кольцо, спокойная неподвижность — была расчленена на части, из этих частей построен жалкий мир. Но протекут эоны, земля и небо пройдут, как сказали пророки. Древний змий живет не только в порабощенном безумном бытии, но также в форме множества извилистых змиев и змеек. Драконов и червей, грызущих бытие, чтобы ускорить распад. Мир есть ад, палимый огнем света, который неугасаем, как говорит Евангелие. Но грешное бытие угрызается постепенно великим червем, который тоже не умрет! Сказано о дальних потомках Адама, что они наступят на главу змия. Текст искажен! Вам хотят сказать, что вы будете гребнем короны на голове Змия, что змий будет утверждением устоев ваших. Змий в государстве это есть великий Альгвазил, полицейский и цензор, гаситель света, утверждение древнего порядка, который близится сам и все близит крушение, и на хребте его восседает церковь–помощница. Тайна сия велика есть! Пейте чашу крепкого вина, круговую чашу, уста порядка. Ибо истинно, истинно говорю вам: если не удастся нам не допустить его изменения, то подлая жизнь пойдет, наконец, назад к нирване, к счастью сна, к блаженству, о котором мечтали святые, и восторжествует единственный истинный порядок, порядок великого молчаливого кладбища всякого движения. Пейте!
Судья. Клянусь Гайем, — я ничего не понял, но барон такой добрый малый, что с ним я выпью хоть за самого сатану. (Пьет.)
Епископ. Барон, кто разгадает глубины вселенной? Уже древнейшие из мужей вопрошали: «Знаешь ли ты, откуда все и для чего ты, — сидящий на вершине вселенной? Или ты не знаешь этого?» Где полнота знаний? Зачем нырять в пучину? Я плаваю на поверхности и говорю:
«Поживи свой краткий час.
Однодневка–человек.
Только вспыхнул — уж погас
Твой летучий хрупкий век».
Бессмертная душа пусть разбирается в вопросах вечных, но не бренное тело. Барон, вот мое смертное тело, одетое в фиолетовый шелк: оно тепло, дышит, радуется, оно мыслит, оно хочет: да, — оно, оно, души я не ощущаю! Если по смерти тела она освободится, пусть тогда думает о том, что увидит бесплотными очами; а пока я плотский, верю в плотскую церковь, великий общественный институт. Служи ей, как она мне служит. Я откровенен с друзьями за чашей. (Пьет. Стучит в дверь. Входит послушник.)
Послушник. Высокопреподобный отец, граф фон–Штерн просит позволения зайти сюда.
Епископ. Конечно, конечно, веди его.
(Входит граф фон–Штерн в одежде для верховой езды).
Граф. Друзья, я пришел предложить вам мой союз!
Епископ. Вы приходите от герцога, высокорожденный граф?
Граф. Наоборот, он отговаривал меня от этого шага, но некто больше приводит меня к вам, помимо ненависти моей ко всякому беспорядку. Друзья, наша победа несомненна. Небо предвещает великое поражение Бунта. Водворение на престол принца Фаустула, согласие отца и безоблачное правление нового государя. Так же безоблачна будет жизнь моего высокого будущего тестя… Мне и моей наречённой предстоит долгая мирная жизнь и довольно многочисленное потомство. Комбинация планет — счастливейшая для нас.
Мефисто. Простите, граф, я пожелал бы подробнее знать, что пишет нам герцог Фауст.
Граф. Он пишет, как я уже говорил, что не одобряет моего участия в походе сына и предпочел бы видеть меня в своем замке рядом с моей прекрасной невестой. Но он пишет также, что решил соблюдать строжайшее невмешательство в распре детей своих, и потому не настаивает.
Мефисто. И что вы ему ответили?
Граф. Я изложил ему мои мотивы.
Епископ. Астрологические?
Граф. Конечно.
Мефисто. Скажите, граф, — звезды никогда вам не лгали?
Граф. Кощунственный вопрос!.. Никогда. Случалось лишь, что я ошибался, составляя гороскоп, но post facto я всегда находил ошибку и убеждался, если в этом еще нужно было сомневаться, — что, не допусти я ошибки, — будущее было бы так же ясно, как если б оно протекло. Кроме того, у меня оккультная система, изустно дошедшая до моего блаженно–усопшего отца в духе — доктора Египтуса, от самого Гермеса Трисмегиста.
Мефисто. Мне говорили, что этот Египтус был канальский плут, да к тому же круглый невежда… Ведь вот до чего может доходить клевета.
Граф. О, хула на моего святого учителя не простится никогда! Дворецкий моего отца, Юлиус Барфус, осмелился однажды ложно донести на доктора, будто тот, под видом наблюдений на башне, пьет там старый херес в обществе своей благочестивой родственницы Рахили Леви, величественной и прекрасной женщины, многоученой и степенной, и будто, смотря в замочную скважину, он, Юлиус, видел, как они, сняв с себя одежду, молча танцовали какой–то вакхический танец.
Мефисто. Ого!
Граф. В ту же ночь, ночь доноса, Барфусу явилось страшное видение! То была белая светящаяся фигура. Она тихо вошла в его спальню и произнесла: «За поношение святых», затем она ударила Барфуса жезлом в живот с невероятной силой и исчезла, Барфус испустил вопль: на месте удара у него образовался значительный кровоподтек, но так как дерзновенный не раскаялся, а, напротив, утверждал, будто это было не потустороннее существо, а переряженный доктор Египтус, то его и постигло новое несчастье, а именно: по слезному моему ходатайству покойный батюшка выгнал его из замка!
Мефисто. Да, праведность доктора очевидна.
Граф. Это был великий человек. Однажды…
(Раздается страшный стук в дверь. Вбегает испуганный послушник).
Послушник. Разве вы не слышите, ваше высокопреподобие? Весь двор наполнен вооруженными людьми. Трибун подымается уже по лестнице и с ним вооруженные люди. Я дрожу…
(Смятение в комнате).
Епископ. Ужели осмелились? О, мой желудок, мой желудок!..
Судья. Итак, бунт посягнул на величие суда! Где бы можно было спрятаться? Везде же можно найти темный закоулок.
Мефисто. Что касается меня, то — прощайте!
(Мефисто быстрым движением распростирает свой темный на красной подкладке плащ,
садится на него и со свистом улетает в шумно распахнувшееся окно).
(Входит Скотт, за ним солдаты и подмастерья с факелами).
Скотт. Епископ Вильфрид, судья Ян ван–дер–Гоог, вы лишаетесь ваших должностей в Тротцбурге. Не возражайте: решение принято городским советом по представлению обоих трибунов. Вы немедленно покинете город.
Епископ. Но… наше имущество?
Скотт. Вы приехали сюда без имущества. Полезным трудом вы в городе не занимались. То, что вы ошибочно считали вашим имуществом, принадлежит городу Тротцбургу. Собирайтесь! Лошади ждут. Капитан, вы проводите этих господ до границы.
(Круто поворачивается и уходит. Остаются капитан и несколько солдат).
Капитан (грубо). Живо!
ЗАНАВЕС.
КАРТИНА ШЕСТАЯ.
Парк и фруктовый сад у подножия Башни Соколов. Августовская ночь. Все время звучит пение незримого Фонтана. Деревья, отягченные плодами, освещены яркой луной. Благоухает шпалера кремовых чайных роз. Слева темная громада Башни Соколов, ее мраморная веранда и широкая лестница с балюстрадой и вазами цветов. Правее низкая каменная ограда, тоже украшенная вазами, за нею дорога и по другую сторону дороги кустарники. От времени до времени щелкает соловей. Все время трещат кузнечики. На башне мерно бьет одиннадцать часов. По дороге под сиянием луны показывается мистический рыцарь на коне. Синеватый матовый свет играет на его серебряных латах, щите и шлеме с поднятым забралом. На плечах его длинный белый плащ, покрывающий лошадь почти до земли. Конь белый. Юный, прямой и нежный паж, в серебряной костюме и берете со страусовым пером, ведет лошадь под уздцы. У пажа на поясе золотой рожок. В руках рыцаря арфа. Они останавливаются, Приподнявшись в стременах, мистический рыцарь оглядывается по сторонам. Потом тихо проводит рукою по струнам арфы, издающей сладкий аккорд.
Пауза.. Потом рыцарь начинает петь и аккомпанировать себе на арфе.
«Крепких соков полна наша древняя мать,
Переполнило грудь молоко,
и незримым корням сладко тихо сосать
Соки теплой земли глубоко.
Чуть лепечет листва, наливается плод,
Смерть подходит из северных стран,
Оттого–то вокруг все полнее живет
И, рыдая, рокочет Фонтан.
В напряжении сил жизнь творит семена.
Уже веют осенние сны,
Чародейством истомным до края полна
Жизнь готовит возврата весны.
«Смерть всегда победит, смерть всегда победит»…
Плачет голос осенней воды.
«Жизнь всегда возродит, жизнь всегда возродит»…
Отвечают тихонько сады.
Грезы лунных лучей, думы синих теней.
Аромат отцветающих роз…
И под говор фонтана запел соловей
Песню горестно–радостных слез».
(Паж трубит в рожок. Прислушивается, потом поет детским чистым альтом).
«Оэ, Оэ!
Проснитесь все, кто сладко спит,
Кто умер. — оживи,
И всякий пусть благословит
Ту силу, что себя творит,
Как вечный гимн весны любви.
Оэ, Оэ»!
(Прислушиваются и медленно проезжают).
(Фаустина, закутанная в огромную венецианскую шаль, робко и быстро выходит на веранду, всматривается вдоль дороги и сбегает по лестнице).
Фаустина. Одиннадцать часов. Голубь принес мне письмо, в котором он обещает быть в это время… Как я боялась опоздать. (Пауза). Отец долго не мог уснуть. Он работал всю прошлую ночь и, наверно, скоро опять проснется, выпьет своего эликсиру и сядет за работу. Старый Венцель уже давно спит, и больше никого нет в замке, потому что паж ускакал с письмом к Артуру, а садовник теперь у себя в домике с детьми… И все–таки я боюсь… Может–быть, я боюсь не того, что нас увидят, а… самого свиданья. Я вся дрожу, хотя ночь тепла. Я так рада ему, я так давно не видела его, и вместе с тем я почти хотела бы, чтобы он не приезжал. Ведь я знаю, о чем он будет говорить… Ах, отец, отец, как я люблю тебя, мой бедный, великий отец. Кажется, топот… Это он!
(На дороге показывается Габриэль верхом на вороном коне. Он закутан в плащ. В поводу ведет лошадь. Соскакивает и перепрыгивает через ограду).
Габриэль. Фаустина!
Фаустина. Я — здесь.
Габриэль. О, милая!
(Обнимает ее. Долго молчат. Журчит вода).
Фаустина. Посиди со мной. Отец заснул. И дома никого нет.
Габриэль. Нам незачем сидеть здесь. Я привел для тебя коня. Раздумывать поздно. Часто лишняя минута губит дело. Едем, Фаустина. Ты колеблешься?
Фаустина. Но ведь мы же решили… Как же вдруг?.. Ты не предупредил меня…
Габриэль. Чтоб не мучить твою вечно колеблющуюся головку.
Фаустина. Габриэль, Габриэль, это — тяжело. (Плачет.)
Габриэль. Рано или поздно это должно случиться… ты меня любишь.
Фаустина. О!
Габриэль. Ведь ты сама говорила мне о твоих радостных для меня догадках? (Фаустина припадает к его плечу.) Лучще тебе быть со мною. Об’яснения с отцом, я знаю, ты не выдержишь.
Фаустина. Но он–то выдержит ли такой удар?
Габриэль. Фауст силен. Быть–может, оставшись один, он скорее сломит свою гордость и придет на помощь городу. Уже второй месяц длится осада. Как ни мужественны наши бойцы, но на стороне союзников страшный перевес силы. О, Фаустина, здесь вы живете так спокойно… Здесь такая идиллия, а там… черная забота на всех лицах. Глухое недовольство зажиточных граждан, возмущенных моим распоряжением об общественной организации работ и моими налогами. И в то же время бродит опасная кучка молодежи, горячих голов, к которой пристали все лентяи, пьяницы и сумасшедшие. Они нашли себе вождя в лице старого иностранца, с воспаленным мозгом, который так и носит кличку «Бунт». А рядом тысячи мелочей, непредвиденных и почти всегда страшных потому, что малейшая, ошибка может расстроить хрупкую поверхностную гармонию нашей республики. Я увещеваю, грожу, я работаю без отдыха. В сапожнике Беверене я нашел великолепного помощника. Мощно поддерживает меня и певец Гунтер Хонт. О, вообще, я не жалуюсь, чтобы в городе не было выдающихся людей. Все подмастерья — выше похвал. Но я устал. У меня нет ни минуты покоя и ни минуты радости, Фаустина. Часто нет ни часу сна, и никогда ни капли нежности. Моя мать умерла три года назад. И еще раньше совсем молодой скончалась моя добрая жена, не оставив мне детей. Но эти неясные существа приучили меня к участию и ласке. Я и тогда напряженно работал, но, возвратясь домой, погружался в теплое озеро мира и любви… Теперь я страшно одинок. Тебя я обожаю. Фаустина. Я не думал, что умею так обожать человеческое существо. Твое отсутствие — рана в моем сердце, через которую сочится моя кровь… А мне нужна вся моя кровь, вся моя сила. Если бы ты знала, как много там, в Тротцбурге, энтузиазма, горячих слов, подымающих душу явлений, высоких моментов… Но там и мрачный вопрос повис над всеми… Там трупы и раны… В место невеселое зову я тебя. Ты видишь, какой я эгоист? Но клянусь тебе свободой и великим Тротцбургом, которому я служу все с большей любовью: если бы я не думал, что я и мои силы нужны сейчас дорогому городу, светильнику бедных и порабощенных, надежде мудрых и правдолюбивых, — я не ценил бы себя нисколько. Но я говорю тебе — твое присутствие прольет радость в мое сердце, удесятерит мои силы, и все вокруг воспрянут духом, узнав, что дочь Фауста с нами и стала женою скромного трибуна. Ведь мы любим друг друга? Если да — мы вместе должны пережить грозу. Когда она пройдет, я сложу с себя красно–зеленый шарф, ибо буду настаивать на ежегодной смене трибунов. Я займусь в тишине выработкой справедливых законов для спасенного Тротцбурга, потружусь над широким планом его хозяйства, как частный советник народа, потому что я не хочу ни удерживать власть в своих руках, ни оставлять ее в руках Вильяма Скотта. Великий город не должен иметь над собою и тени господ. Тогда мы заживем жизнью тихой, полной светлого труда и нежной любви. К этому зовет меня мое мирное сердце. Но сколько опасностей и борьбы до тех пор. И в такую пору ты далеко от меня. Неужели собственное твое сердце не кричит тебе: беги в Тротцбург, беги к твоему Габриэлю?
Фаустина. Габриэль, я люблю тебя всем сердцем. Ты — умный, благородный, ты — святой, и твои светлые мысли — моя религия. Каждую минуту готова я отдать свою жизнь за тебя и твое дело. Но Фауст… (Плачет.)
Габриэль. Решайся, Фаустина, Скоро пробьет полночь. Твой отец может проснуться каждую минуту от своего короткого вечернего сна… Он позовет тебя.
Фаустина. И меня не будет с ним, и я не откликнусь… И он останется один… Один… (Плачет.)
Габриэль. А я? Там, среди ужасов осады, быть–может, под ножом убийцы, подосланного врагом?
Фаустина (судорожно, обнимает его). Как мне жалко вас… обоих… (Рыдает.)
Фауст (за сценой). Фаустина! (Звон колокольчика.)
Фаустина (в страхе). Проснулся…
Габриэль. Твои колебания не могут длиться… Знай, я больше не приеду. Говори. Осуди на горе мое сердце. Выбирай.
Фаустина (запахнувшись в свою шаль). Едем, едем. Да простится мне этот поступок. Голова моя кружится. Поддержи меня. (Габриэль перескакивает через ограду и помогает Фаустине сделать то же. Он усаживает ее на коня.) Если бы я верила, я молилась бы. О, земля, наша мать, всемощная природа, судите меня. Отец, отец, прости, прости.
(Гибриэль поворачивает ее коня. Слышен удаляющийся топот. Журчит фонтан. Поет соловей. Ветер качает богатые золотые плоды ни яблонях и грушах. Вдруг издали доносится звук золотого рожка, а потом голос пажа)
Паж.
«Оэ, Оэ,
Откликнись тот, кто в эту ночь
Страдает от любви!
Страданьем жаждет превозмочь
Любовь–вражду. Гони же прочь
Унынье и живи!
Оэ, Оэ!
Пусть сердце рвется у тебя —
Живи любя, живи любя!
Любовь растет, — отдайся ей:
Вражда сильна, любовь сильней!
Оэ. Оэ».
Фауст (в халате, опираясь на палку, с непокрытой головой выходит в сад). Мой ангел, Фаустина. Ты здесь? (Прислушивается.) По где же она? Как это странно. И не в ее привычках. Фаустина, Фаустина! Я проснулся… В этом часу она уже готовит мне обычно мой ароматный эликсир… Или она заснула где–нибудь, бедняжка?
(На башне бьет полночь. К ограде подходит прохожий. Прохожий прислушивается).
Фауст. Дочурка!
Прохожий. Ваше высочество!
Фауст. Кто тут?
Прохожий. Верный слуга. Ваша дочь только что проехала по дороге с трибуном Габриэлем на двух конях. Они летели, как ветер, к Тротцбургу… Боюсь, ваше высочество, что она сбежала. от вас.
Фауст. Что за негодяй болтает там за оградой! Если бы ты стоял ближе, я сломал бы палку о твой проклятый череп! Что ты там каркаешь, омерзительнейший из клеветников земли! (Идет, в замок, повторяя:) Фаустина! Венцель! Венцель! Фаустина! Мой паж! Кто–нибудь!
(Прохожий хохочет довольно громко и уходит по дороге. Тихо. Плачет вода. Луна стала словно еще ярче. Из замка заглушённо доносятся зовы Фауста).
Фауст. (Выходит вновь. Он несколько согнулся. Седая борода растрепана, садится на той скамье, где перед тем сидели. Фаустина и Габриэль.) Бежала? Фаустина? От меня? Невероятно. С моим врагом? Неслыханно. (Молча и угрюмо смотрит перед собой.) Покинула? Одного? Ради кого? Ради этого серого фантазера? Как понять? Никогда ни одного слова… Бежала, бежала, как Джессика от Шейлока… В такую ночь, в такую ночь. Бежала, как Дездемона… И я — один, как Лир. Как далеки, как чужды были мне эти образы, а теперь все их горе со мной… Постой, Фауст, ты еще не веришь, Фауст, ты не веришь еще. Нежная Фаустина бежала… от тебя! Скрывала, как в черный ночи, в душе своей свою любовь, свои планы. Обманывала! (Закрывает лицо руками. Глухо.) Обманывала безумно любящего отца… А, ты начинаешь верить, старый глупец. А, наконец, слезы: думал ли ты, что будешь еще плакать? Вот когда ушла от тебя твоя юность… Вот когда тебе холодно. Тротцбург, Фаустул, Фаустина. (Слабым голосом, почти с детским плачем.) Дети. (Гордо подымает голову). Фауст, ты один… Пучины небесные над тобой, под ногами твоими шар земли. Перед тобою смерть, за, тобою — страшная дорога, могилы умерших.
Так стоишь ты один. (Встает, скрестив руки на груди.) Где–то живут, борются, но уже без тебя… Ты оказался ненужным. Это смерть… Это смерть, старик. Слышишь ли похоронный звон? Все живет вокруг.
Вот падает плод, несущий семя в сладком своем и сочном теле… Но что состарилось — умирает. Да, это смерть, Фауст, когда уже никому ты не нужен, никто тебя не любит и никто не позволяет тебе любить себя. Тебя выбросили в темный угол. Как? Я, я, я! Фауст? Я — не нужен? Где же другой великан? Кто же пришел мне на смену? Габриэль, Скот? (Горько смеется.) Нет же, нет… И, однако же, ты — умер. Они взяли у тебя создание твоего гения, они взяли даже дочь твою и об’явили тебя лишним. Мстить? Доказывать, что я тот же? Разрушать? Но ты — умер, и если станешь вредить, — это будет только превращением в вампира. Они вдруг, сразу все отвернулись. А ты остался с твоим гением, твоей любовью, твоими идеями, с железным человеком… Все это похоронено с тобою в одной могиле. Верь, верь, Фауст, — ты умер. Это ясно. Ах, если бы ты жил, разве нежная Фаустина ушла бы, не простясь, не сказав ни слова? Ушла бы, равнодушная, не бросив взгляда?.. Ведь даже трупу дают последнее целование. Но крепко тело человека, даже старого. Я умер, а тело живет… Никого вокруг, один… Ну, так уснем же, мои мысли, моя боль. Уснем же. Пойдемте–ка на башню, поглядим–ка на мир… Я ненужен? Хорошо!.. Быть–может, они пожелают, ужаснутся и в другой раз не разобьют сердца другому Фаусту. А вы льете кровь друг другу, как звери, и не раскаиваетесь. Вы бросаете с улыбкой тех, кто вас бесконечно любит, — вы… Вы озверели?.. Вы получите урок. Фауст напишет на последней странице: так жил я и мыслил, вот, что готовил людям, но они озверели, и Фауст уходит… Да свершится когда–нибудь чудо, да заслужат когда–нибудь люди другого Фауста. (Встает через силу.) Старость сразу одолела меня. Последние капли юности, живой воды моей, пролились.
(Уходит медленно и сгорбленно. Плачет вода. Поет соловей. Ярко светит луна. Тяжело падает с ветки золотой плод.)
ЗАНАВЕС.
КАРТИНА СЕДЬМАЯ.
На вершине башни Соколов. Широкая площадка, окруженная короной зубцов. Ясное небо, яркая луна, звезды. Залитая таинственным светом, стелется необ’ятная равнина, холмы, леса, деревни, мигающие огнями. У самого моря, словно куча раскаленных угольев, — Тротцбург, а кругом венец костров лагеря осаждающих. Фауст медленно всходит по лестнице, вступая в лунный свет из широкого темного пролета лестницы. В руке он несет чашу. Медленно подходит к балюстраде и ставит чашу на зубец укрепления. Садится рядом на парапет. Осматривается,
Фауст. Завещание написано: написано последнее слово Фауста людям. (Пауза.) Ну, природа, прощай. Чудесная необ’ятность, вся проникнутая светом, вся трепещущая движением и возможностью жизни… (Подымает голову к звездам.) Чудесно, чудесно. Огромно! Гениально! И все частное — ничто перед целым. Тонешь… Поглощаешься без следа… И между тем общее живет в мире для мириад частей своих… Да… Все это — хорошо. Все это хорошо со всем включенным сюда страданием. Этот мир прекрасен… Фауст умирает не оттого, чтобы не ворчал на мир, а оттого, что он стар, и время для него настало неподходящее. (Оплетет глаза.) Теплая, зеленая, водами играющая, милая… Прости!.. Любил тебя… Ты можешь стать чудесной ареной подвигов лучезарно–прекрасного, божественно–мудрого племени… Когда это будет? Будет ли? Не выродок ли, не неудача ли слепого самотворца–бытия — человек в своем среднем типе. Возможно. Драма полна загадок, будущее улыбается улыбкой сфинкса. Любил ли эту улыбку… Люблю тебя, безжалостный, безграничный, во всех живущий Пан… Но странно… Здесь разрушается форма столь высокая… ибо, признаемся: без меня и мне подобных нет этого порядка, красы, блеска… Ведь атомы ничего не знают ни друг о друге, ни о себе самих… Здесь разрушается такая форма… Всякий человек есть нечто царственное и в своем роде высшее, нежели роскошно богатое возможностями, но низкое духом светило. Здесь же проходит не просто человек, но Фауст, в чьем мозгу связаны, в чудовищно прекрасный узел золотые нити бытия. — и ничто не дрогнет, ничто не дрогнет, и все равнодушно… Говорят, смерть Цезаря сопровождалась знамениями… Ужели я настолько меньше Цезаря? Скорее лгут хроники. Если бы огромное лицо в небесах улыбнулось мне необятной прощальной улыбкой, если бы рокот грома сказал мне — прощай! Если бы хоть что–нибудь сверх’естественное для меня лишь одного, для моей последней минуты шевельнулось, — как спокойно и сладко я умер бы! Нет. В мире нет человеческого бога. Мир бесчеловечен в целом… Фауст — ничтожество!.. О, о, какое ничтожество!
Я только сейчас ощутил, какой я маленький, одинокий, ни с чем не связанный… Великий Фауст, герцог Вэллентротца и Тротцбурга, ученейший муж земного человечества. Где ты? Я потерял тебя… Я не вижу тебя… Я захлебываюсь только бесконечностью… Фауст, где, где ты? Земля, где, где ты? И где на тебе Фауст? Смерть ужасна! Да разве это — жизнь? Горят, горят солнца. Вечность… О, дух мой… Вечность позади, впереди — вечная, вечная вечность… Чу! Музыка — душа моя, не расплываешься ли ты? Какая музыка! Что это?.. Вверх… Мощно… Я поднят… Вниз… В пучины… О, голоса… Что это?.. Кто поет хором?.. Звезды? Мир поет. Несет, кружит, вздымает. Не вмещаю, не вмещаю… Сладко, страшно, — все запело.
Необоримой волной в бедную тесную грудь льется прозрачный хорал, уничтожающий звон. Льется, и сердце мое сладко теряет себя… Мерный, безмерный размах, ритм, всколебавший эфир, тихая буря времен, вольная песня пространств.
(Музыка становится слышной и зрителям.)
Вечное рождение, дети без отца, силы превращения, волны без конца! Драма без начала, творчество без рук, тайн без покрывала невозвратный круг. Разум неразумный, цель бесцельных сил, ярко–цветно шумный лёт бесчетных крыл! Велико и мало — все в себе равно, вечное начало за звеном звено… Все на верном месте, каждый миг поет, и дают все вместе дивный хоровод: кто рожден бороться, верен будь борьбе, — пышно разовьется дерзкое к судьбе! Мощному стремленью — радостный простор: вечность все движенья сочетает в хор!..
Так ли поешь ты, природа? Этому ль учит твой голос? Кровь молодеет, от сердца к мозгу бежит и поет! Песнь напевает все ту же вечную песню природы, будит уснувшие мысли, дух угнетенный бодрит: в круговоротах стихийных, среди пучин мирозданья, здесь, на земле, в этом месте, вновь обретаю себя!.. Я — это я! Предо мною блещут забытые цели, пенным вином закипает, искрится жизнью мой ум… Жить и творить! (Словно проснувшись.) Что это было? Сон? Что пережила душа? Одиночество? Но разве я не со вселенной, разве не с человечеством? Разве я не с делом моим? Они не поняли? Поймут! Фаустина? Но, быть может, тут есть роковая ошибка? Куда заторопился ты, как мальчик? И разве там, в мастерской, не ждет тебя железный человек, уже получивший тень души? Как? Я хотел уйти, не окончив начатое? Уйти добровольно, не выполнив намеченное? Стыдно, стыдно, седой ребенок! Живи, пока дышит грудь, бьется сердце и работает мозг! А смотри — грудь дышит глубоко, сердце бьется сильно, ум работает ясно… Смерть придет в свое время. Торопись, пока жив этот славный мозг, торопись, чтобы оставить след, широкий и глубокий, чтобы впереди братьев и внуков взойти ступенью выше по лестнице человеческого могущества.
(Вдали голос мистического рыцаря.)
«Дышит смерть, подымается мутный туман,
Пожелтели, усохли листы,
Но успение, тление только обман:
Не пройдешь, не рассеешься ты.
Наливай же свой плод, свое семя роди
И на зиму ложись отдыхать
На родной, на земной, чудотворной груди,
Чтоб с весною проснуться опять.
Чувство к чувству и к мысли светящая мысль
И на пласт народившийся пласт,
Измеряя — измерь, исчисляя — исчисль,
Что грядущему прошлое даст».
(Звук золотого рожка. Паж едет и поет.)
«Оэ, Оэ!
Кто тяжко мыслит при луне —
Душой ответ лови;
Жизнь бьется в звездной тишине
В идеях, в чувстве, в полусне,
Творя закон любви!
Оэ. Оэ!
(Фауст чутко прислушивается и вдруг, наклонившись над равниной, громко отвечает:)
Оэ, Оэ!»
ЗАНАВЕС.
КАРТИНА ВОСЬМАЯ.
Песчаные дюны в северо–восточном Вэллентротце. Печальные холмы, кое–где поросшие вереском. Странно возвышается среди них, налево от зрителей, большой черный камень почти правильно пирамидальной формы, так называемый Девильсблук. В глубине сцены сумрачное море. Ночь. Облака быстро бегут по небу, бросая фантастические тени на песок. Луна ныряет. Дали одеты тьмой, где вспыхивают порой бледные зарницы. Входит Мефисто. На нем длинный черный плащ, острый конец которого волочится за ним. На голове капюшон о длинном мешке. Лицо злобно и задумчиво.
Мефисто. Здесь. (Останавливается.) Проклятый Тротцбург!.. Проклятый Фауст!.. Думал ли я, что из моих трудов вырастет такое страшное препятствие для торжества порядка. (Садится на выступе у подножия Девильсблука, кусает кулак и издает странный звук, похожий на прерванное рычание и на рыдание также.) Мать, я близок к отчаянию. О, я знаю, что конечная победа — наша. Но что же мои усилия?.. Скорее, скорее, тоска гложет меня… Я хочу покоя. Вши этого шара мне опротивели. Между тем мы стали бессильны. Чары не действуют. Вещи не повинуются.. Плывем против стремительного течения. Молимся, таем, как тени перед чудовищем–зарей… Во что бы то ни стало, Фаустул должен победить завтра… Начнем. (Медленно и важно подходит к Девильсблуку, делая странные пассы руками, словно зазывает кого–то со всех сторон. Потом всходит на пирамиду и, достигнув вершины, вкладывает пальцы в рот и оглушительно свистит.) Эй — ого! Глубокие могилы, раскройтесь! Плиты соборов и склепов, расступитесь! Я режу землю острием свиста, косою моей злой чары, плугом последнего разрушения. Эй — ого! Кости крепкие, кости Гнилые и самый прах, шевельнитесь, взметнитесь! Части рассеянные, ищите друг друга! Прошлое, воссоздайся ради разрушения! Гойо, гойо! Гу! Старые, ржавые латы, мечи и копья, загремите! Катитесь, громоздитесь!.. Го–о, го! Гей–гу! Встаньте под луною, древние люди! Древние, семьи, роды и кланы! Правнуки рабов подняли бунт. Они смеются над вашими выродками. На помощь порядку, покойники! Из могилы аббатств, из–под ив и кипарисов, с полей битв из–под песка и крапивы, из волн морских, из пышных мавзолеев — вставайте, спешите! Стройтесь в ряды! Из туч сотку вам знамена, вороны споют нам бранную песню. Марш, марш, ржавые колонны, Гой–го! Гой–го–гу!
(Начинаются стоны, стук, грохот, тяжкий топот. Из–за камня, медленно ступая большими ногами, понуря морды, едут закованные кони. На них закованные люди. Веют туманные знамена. Стаи воронов с карканьем летят над мертвым войском. Забрала опущены. Лишь кое–где видны черепа с безумными дырами глазных впадин, мрачные провалы носов и грозные оскалы челюстей.)
Мефисто. Больше, больше! (Манит рукой, со всех сторон.) Паладины былого, грозные предки, силы упрочившегося, сюда, сюда, на помощь вашим выродкам: не дайте смердам овладеть землей! (Свистит.) А, славное войско… Поистине — славное. Завтра, в трудную минуту, холодный ужас схватит бойцов за сердце. Дрогнут бойцы подлой жизни, бойцы же порядка ощутят крепкую поддержку мертвой руки. И вы, великие кости, вы, рыцари червя, ржавчины и плесени, — вы покажетесь среди смятения, жуткой паники и вы победите, а с вами — мать моя, выбрасывающая вас вновь, проглотившая вас пастью смерти — мать — Ночь! Славные, славные рыцари. Ну–ка, испустите бранный клич!
(Странный тяжкий стон проносится по дюнам. Кто–то раздирающе кричит. Потом вороны, каркают громче и чаще.)
Мефисто (скрестив руки на груди). Вы, несчастные мужланы без роду и племени, трава без корней, попробуйте посчитаться со всей этой славой. Браво, браво, костяные мои солдатики. Вы победите.
(Громкий и нестройный вой, лязг зубов, треск костей, глухой стук железа.)
Мефисто. Недвижно стойте в этой долине, воскресшие! Когда я свистну вам, вы двинетесь к месту битвы… Мать, теперь наше дело обеспечено. Благодарю тебя за возвращение мертвецов: они приведут с собою новых, и ты получишь богатый процент, великая ростовщица.
(Внезапно раздается гармоничный звук, как бы гигантская рука рванула неизмеримую струну. Тучи рассеиваются. Долина ярко освещается луной. Над морем, посредине горизонта, загорается большая зеленая звезда. У берега над морем, в воздухе рождается призрачная зеленая фигура неясно–зримой женщины. Мелодичный голос ее звучит издалека.)
Сперанца. Не смей, бедный демон, вмешивать твои черные чары в битвы живой жизни!
Мефисто. Пустой призрак, который может рассеяться от моего дыхания, ты ли запретишь мне?
Сперанца. Ты кладешь прах прошлого на чашку весов? Тогда на другую я положу грезу будущего — мою силу! Ты вызвал из гробов предков угнетателей, — вызову светлых внуков освобождающихся.
(Сперанца подымает обе руки. Зеленая звезда разгорается и бросает через волны моря мерцающую переливчатую дорогу. По ней из незримых пространств идут белые, зеленые неясные призраки толпами, толпами приближаясь к берегу. Машут пальмовые ветви, ветви дуба, мирта и лавра. Видны белые, голубые голубиные крылья, красные хоругви, высокие светильники, сияющие синим цветом.)
Хор неясных голосов (гармонично и нежно–напевно):
«Мы вечно с вами, мы вечно в вас,
Мы жаждем жизни и будем жить,
Мы смотрим, смотрим мильярдом глаз,
Как вы прядете златую нить.
Мы слышим, слышим и жертвы стон,
И страстный шопот земных молитв,
И строф поэта всевещий звон,
И шум работы, и крики битв.
Мы вечно с вами, чрез времена
Мы тянем руки к сердцам отцов:
Жизнь ваша нами окружена,
Как мост к потомкам от мертвецов.
Вы нас призвали, и мы идем:
Ведь мы же с вами и жаждем жить,
Мы в вашей жизни уже живем,
Мы помогаем прясть жизни нить.
Не перережет ее судьба,
Ни злобный скрежет, ни мертвый хлад,
В борьбе вы жили, — нас ждет борьба:
Мы победили борьбою ад!»
(Все сразу исчезают. Один Мефисто остается на камне).
Мефисто (садясь). Как я устал… Дрожат ноги моего земного тела… Дух хочет стряхнуть эту изношенную ветошь. Итак, я почти бессилен… Но колесо времени остановится все же когда–то. Пусть оно вращается пока все быстрее, оно станет замедляться. О, холодная, тихая луна, дай мне насладиться голым пейзажем твоих умерших стран, дай мне насытить им эти получеловеческие глаза. О, отдохнуть, отдохнуть там, в тихом уголке, где смерть уже поставила ледяной трон. Проклятая земля, бью ногой твое лицо, умирай поскорее!.. Что бы ни пищало твое отродье, а ты умрешь! Плюю на тебя, опаршивевший ком грязи! Луна, тебе — мой поцелуй.
(Вытягивается с мертвенно–бледным лицом, весь черный и тонкий, вытягивается все больше и вдруг тихо подымается и летит в мертвое лунное пространство.)
ЗАНАВЕС
КАРТИНА ДЕВЯТАЯ.
Местность у маяка. Горизонт закрыт высоким гребнем Фаустовой дамбы. Налево высокое стройное здание маяка. Огонь наверху башни мигает, бросая тонкие лучи — попеременно зеленый и красный. Луна одним рогом подымается из–за дамбы. Звезды мерцают. На равнине перед дамбой слышны стоны в темноте. Местность постепенно несколько освещается, видны трупы людей и лошадей, разметанные по пескам. Кое–кто шевелится. Мефисто, закутанный в черный плащ, ведет под уздцы хромую черную лошадь, на которой, весь скрючившись, сидит Фаустул, растрепанный, без шлема, в латах.
Фаустул. Куда же мы?
Мефисто. В преисподнюю!..
Фаустул. Мне страшно.
Мефисто. Молчи!.. Ба, кто–то здесь шевелится… Это высокомудрый астролог. Ведь это — вы, граф Артур фон–Штерн?
Артур. Это — я… Дайте мне пить!..
Мефисто. Не к чему, — вы сейчас умрете. Если напьетесь, то безобразнее раздуетесь на завтрашнем или послезавтрашнем солнце.
Артур. Я умру?
Мефисто. Еще бы! Вас изрубили в куски.
Артур. Но звезды…
Мефисто. Ха–ха–ха!
Фаустул. Твои звезды, зять, твои звезды. Проклятие твоим предсказаньям… Проклятие всему на свете! Мне холодно и страшно. Я не хочу умирать.
Артур. Я тоже не хочу… Неужели все было обманом? Кто же, злой, так насмеялся надо мной? Родиться, быть обманутым, приблизиться к чаше любви и умереть в луже собственной крови… отгоняя слабеющей рукой коршунов… О, я страдаю телом и духом!
Мефисто. Гляди на звезды, любуйся ими. Скоро глаза твои остеклянятся. Ты будешь белым красивым трупом… под сиянием… Потом ты сгниешь, и на этих песках вырастет немного травы… Она будет жалобно шептать под ветром, а звезды будут смеяться. Ха–ха! Победа! Потомство! Мирная долгая жизнь! Ха–ха! Эй, ты, безземельный принц, едем вниз нашей дорогой.
Фаустул. Куда?
Мефисто. В преисподнюю!
(Проезжают.)
Артур. Звезды лгали… Умереть, ничего не поняв… Звезды… Куда лечу? Довольно боли… Довольно жажды… Недоумение… Сон…
ЗАНАВЕС.
КАРТИНА ДЕСЯТАЯ.
На окраине Тротцбурга, в маленьком домика, где поселился Фауст инкогнито. Кабинет и мастерская, разделенные ковровой завесой. Сумерки. Венецианское окно, заставленное горшками с цветами, полно предвечерней синевой. Простая мебель, массивный стол, книги, глобус, реторты, части разных механизмов повсюду. У окна Фауст. Он в длинном черном таларе, читает большую книгу, надев на нос стариковские очки. Пауза. Подымает голову.
Фауст. Идет весна. Дни стали длиннее… Не открыть ли окно? Попробуем. (Открывает окно.)
К окну сейчас же подходит девятилетняя Гольда, босая, в живописно разорванном платье, со спутанной гривой золотых волос.
Гольда. Ты открыл окно, дед?
Фауст. Открыл, Гольда.
Гольда. Смотри, не простудись.
Фауст. Весна… Ты же вот ходишь босиком?
Гольда. Я молоденькая, а ты старый. Что ты смотришь? Что я такая рваная? Ты не подумай — мы не бедные. Отец все повторяет: в Троцбурге нет больше бедных. Бедность уехала с Фаустом, говорит он… У меня есть красивые платья… Но я их рву, видишь ли, дедушка. Мать говорит: на тебе все горит, Гольда. Так и башмаки… А я не люблю стесняться. Например: у меня есть белое кисейное платье с синим поясом… В нем не полезешь, дед, на дерево? Как ты полагаешь?
Фауст. Невозможно.
Гольда. Вот видишь… А я люблю лазить на старую грушу и смотреть в твое окно сверху, как ты колдуешь.
Фауст. Колдую?
Гольда. Ну, да… Делаешь машины… Знаешь, что отец говорить о тебе? Он говорит: это — сумасшедший дед, он хочет сделать перепе… перепе…
Фауст. Perpetuum mobile.
Гольда. Вот–вот.
Фауст. Нет, твой отец, неправ. Perpetuum mobile я уже нашел. Это — мир. Я просто делаю легонькие дрожки, чтобы осликам было легко возить тяжелое!
Гольда. Так ты не колдун?
Фауст. Нет, Гольда.
Гольда. Рассказывай!.. Ты знаешь, что еще говорит отец? Он говорит: этот мингер Дампфер смахивает лицом на одного человека. Если бы я не знал, что тот человек далеко и не стал бы сейчас жить в Троцбурге, я подумал бы, говорит отец, что это — он. Не знаю, про кого это он говорит. А тебе не скучно?
Фауст. Нет!
Гольда. Все работаешь? Пишешь, читаешь?
Фауст. Да. Гольда.
Гольда. А у тебя нигде нет старушки?
Фауст. Нигде.
Гольда. А детей или внучат?
Фауст. Они далеко.
Гольда. Будь я твоя внучка, я бы тебя не бросила. Ты ведь добрый старичок. На тебя и смотреть приятно… А твои сказки я рассказываю потом всем подругам, и всем, всем они нравятся. Расскажи мне сказку, дед…
Фауст. Тогда полезай в окно, Гольда. Я тебе всегда рад. потому что ты ведь золотая мышь.
(Гольда ловко вскакивает в окно между цветочными горшками.)
Гольда. Вот твоя золотая мышь. (Оглядывается.) А у тебя уже темно.
Фауст. Зажжем лампу.
(Зажигает большую лампу.)
Гольда. Какая у тебя красивая лампа… Словно белый шар… Ну, я сяду в твое кресло. Тут можно, хорошо. Признаться тебе, дед, ноги–то у меня озябли.
Фауст. А мы закутаем их этой шалью.
Гольда. Какая мягкая. Теперь мне хорошо.
Фауст. Еще не совсем. Ведь ты, Гольда, любишь мед? У меня есть мед.
(Достает из шкапа горшочек с медом и печенье.)
Фауст. Видишь и сухарики.
Гольда. Я буду макать их в мед. А ты рассказывай,
Фауст (ходя по комнате.) Жил–был на свете, Гольда, один мудрый и богатый человек. У него были дочь–красавица и богатырь–сын. Он очень любил их и хотел им счастья. Для этого он выбрал дочери жениха, а сыну устроил большую должность при дворе короля. Он взял за руку красавца–жениха и привел его к дочери и сказал ей: «Дочь, вот тебе муж. Смотри — какой статный, чернобровый, кудрявый. Он знатен родом и еще богаче нас с тобой». Но дочь ничего не сказала, а только опустила глаза. Жених же поцеловал концы ее пальцев. И пошел отец к сыну и одел его в златотканную одежду, дал ему в руки драгоценный жезл, а на голову возложил брильянтовый венец и сказал: «Иди теперь во дворец короля, — ты будешь его любимым виночерпием. Почести и радости ждут тебя на королевской службе». Но сын ничего не сказал, маленькая Гольда. И наступила ночь. Мудрый человек сидел на крыльце дома под деревьями сада. И было темно. Вдруг он увидел, как вышла из дому его дочь в своем белом платье, прошла в сад и скрылась. Показалось мудрому человеку, что вид у нее был робкий и что она оглядывалась по сторонам. Отца она не заметила. И было тихо. Только выпевала свои чистые рулады древесная лягушка. Светоносные жуки мерцали, хороводами носясь над кустами. Мудрый человек пошел за дочерью… Он прошел сад и вышел на двор, где стояли телеги и плуги. Он прошел меж ними и вошел в конюшню рабочих мулов и ослов. Он шел так потому, что туда направлялась впереди его белая фигура девушки. В конюшне пахло теплым навозом. В крайнем стойле стоял ослик с большой головой и очень длинными ушами. В отверстие падал на него свет вечных звезд. Он жевал сено и медленно махал хвостом. Красавица подошла к нему. Обняла его шею. Стала целовать его шершавую голову. А он жестким языком лизал ее руки. И она говорила: «Ты, ты — мой жених. Другого у меня не будет». Смущенный и испуганный вернулся домой мудрый человек и не мог собраться с мыслями. И болело его старое сердце. И тут прошмыгнул в ночи мимо него сын. Он был закутан в плащ, и надвинул шляпу на брови. Крадучись, вышел он за калитку, что отделяла сад от леса. Предчувствуя что–то большое, встал отец и пошел за сыном. В лесу была черная тьма, и весь он был полон шорохами. Сова кричала. И сын пришел к глубокой и сырой пещере, встал на четвереньки и скрылся в ее низком отверстии. А все знали, что в пещере жил змей, и боялись даже заглядывать туда, хотя бы среди бела дня. Страшно стало мудрому человеку. И он вернулся. Тут пробило на башне двенадцать часов. «Неужели дочь моя все еще там, с ослом?» подумал он и пошел посмотреть… Он протер глаза, думая, что плохо видит, хотя луна взошла и стало довольно светло, все вокруг очаровательно поголубело. У дверей конюшни стоял стройный молодой парень в сером камзоле и серой шляпе с двумя журавлиными перьями. Он обнимал дочь мудрого человека и говорил: «Ты знаешь, что я, трудолюбив, силен и терпелив. Злая чара, спадет, когда ты станешь моей женой, тогда я навсегда останусь одаренным речью человеком и с помощью твоей любви построю дом счастья для нас и для других — для тружеников, у которых нет работы, для семейств, у которых нет очага, для ученых без книг, для всех, чья голова, сердце, руки могут, и кому судьба сказала нельзя… Смутился мудрый человек. Не зная, что думать, пошел в лес, сильно беспокоясь о сыне. При яркой луне сын его сидел на пне у самой пещеры. У ног его лежал убитый змей, а сам он пересыпал сверкающие брильянты, рубины, изумруды, целыми горстями беря их из золотых ваз и боченков… Тогда мудрый человек воскликнул: «Сын, что это?» И тот ответил: «Это — счастье, которое я сам нашел и завоевал себе, потому что я не хочу подавать стаканы королю». И сказал мудрый человек: «Сестра твоя тоже нашла свое счастье»… И это была правда. Они сами нашли, сами взяли счастье свое, где мудрому человеку и невдомек было бы искать его. Мудрому человеку было стыдно. Но потом он обрадовался и сказал себе:
«Постараюсь хоть чем–нибудь увеличить их счастье, придвинуть землю поближе к солнцу, послать летучий корабль за серебром на луну и другое трудное»… И все это они сделают, потому что живут дружно… Смотри–ка, Гольда, твоя мать ищет тебя.
Женщина (подходя к окну). Не у вас ли моя дочка, мингер Дампфер?
Гольда. Тут, тут я, мама. Я ем мед и слушаю сказку.
Женщина, Торопись–ка лучше домой. Вот и не будешь ужинать после меда, ни спать после сказки. Вы ее балуете, мингер Дампфер.
Фауст (гладя голову Гольды). Побольше счастья детям, фру Кэт.
Гольда (крепко целуя его). Ну, делай свои дрожки. Спасибо за мед и за сказку. (Выпрыгивает в окно.)
Женщина. Добрый вечер, мингер Дампфер.
Фауст. Добрый вечер, фру Кэт. Спи крепко и сладко, золотая мышь. Постой… А отнесла ты сегодня утром записку в дом трибуна?
Гольда. Ну да. Но мне сказали, что трибун с вечера уехал на работу в Зюйдкиркен… Они там сушат болото, как при Фаусте.
Фауст. А жена его?
Гольда. Она всегда со своим маленьким. Но только вряд ли ей сейчас же передали письмо. Я видела, как Питер Баас положил его на столе, где работает трибун.
Фауст. Так, моя птичка… Очень хорошо. Прощай.
Гольда. Прощай, добрый дедушка!.. Добрый. (Убегает от окна.)
(Фауст остается один.)
Фауст. Я сдаюсь… Моя гордость молчит… Дети были правы. Только одна зима отделяет нас от времени осады, а Тротцбург уже расцветает. О, молодцы, о, славные ребята. Как справляются… И у Фаустины уже три месяца, как родился маленький… которого назвали Генрих Фаустус… А я еще не видел его. Ну, правда, итти в Каноссу, не построив им железного человека, было бы тяжеленько, но теперь я иду не с пустыми руками, я не напрасно тратил время. Да, мириться надо. Фаустул живет приживалом при всех дворцах и плетет дурные интриги… Было бы жаль подвергать мой… наш Тротцбург еще одной осаде. Уже потемнело. Они прочтут мои строчки и… придут… Я волнуюсь.
(Стук в дверь).
Фауст. Дочь! (Бросается к двери и распахивает ее. Входит Мефисто, закутанный в темно–красный плащ и останавливается в дверях.) Ты? Тебе здесь нет места.
Мефисто (делает шаг вперед). Нам надо говорить.
(Машет полой плаща на лампу, которая полупогасает, оставаясь бледным пятном в темноте. На черном фоне выступает только прекрасная седая голова Фауста и трупно–белая маска Мефисто.)
Фауст. Ты напрасно отнимаешь у меня время, злой дух. Никогда не имел ты власти надо мной, а теперь меньше, чем когда–либо.
Мефисто. Итак, ты прощаешь? (Фауст молчит.) Просишь прощения? (Фауст молчит.) Кончено… В этом пустом сердце нет жизни, огня, крови. Растоптали твою славу, отняли дочь, разбили существование сына, нагло подымают голову твои враги, победно над тобой издеваясь, готовясь зловонно торжествовать в своем мещанском счастье, пока взаимная ненависть и зависть не приведут их муравейник к крушению. А ты! — ты пустил слюну, дряхлый младенец, и пополз просить, чтобы тебя милостиво потрепали по спине! Почему мне страшно и стыдно за тебя? Потому что в памяти веков довольно долго будут видеть след нашей близости, и смрадная тень твоего, даже для меня неожиданно пошлого, падения косвенно падает на меня, гордого духа, и довольно надолго, повторяю тебе, запачкает слезами твоей старческой слабости мои беспорочно–черные крылья. Жалкий, жалкий, тебя считал я первым из людей! Если же ты был им, то чего стоит человек, когда и первый из них — вот он, раскисший мозг в треснувшем костяном черепке, старое больное животное, которое хочет мира и покоя, места за печкой насмеявшихся над ним, отвергнувших его выродков… Всегдашний враг рождений, я стою почти скорбный от презрения к их результатам. О, грязь, грязь! И это смеет существовать!
Фауст. Побереги свою риторику для меланхолических студентов.
Мефисто. Ты умрешь скоро, Фауст!
Фауст. Я давно это знаю. Я не желаю смерти, но не боюсь ее.
Мефисто. Ты мог бы жить.
Фауст. Какой ценой?
Мефисто. Воскресни! Гордость свою разбуди, Фауст! Скажи мне: ударим, расплющим! Местью, местью насладись! Титаном предстань перед ними и скажи: по слову моему Тротцбург родился и по слову моему исчезнет! Дай мне руку — и я дам тебе долгую жизнь, клянусь матерью!
Фауст. Ты хочешь, чтобы я убил детей моих ради продления дней моих? Нет!.. Они стоят больше меня.
Мефисто. Жалкий, что говоришь? Скромный, униженный, пригнувшийся. Ты, ты — Фауст?!
Фауст. Я — Фауст, знающий себе цену.
Мефисто. Твоя цена в глазах моих была всегда ничтожна, но в своей рабьей покорности ты ценишь себя еще ниже.
Фауст. Я — Фауст, знающий себе цену… Я знаю, например, что ты — тень моя, пустота, что каждое биение моего пульса ценнее всего твоего призрачного бытия, каждое движение зрачка моего осмысленнее всей твоей фантасмагорической мудрости.
Мефисто. Вот как!
Фауст. Я знаю мало, потому что человечество еще в колыбели, но я уже знаю, что ты — глупый, бедный чорт.
Мефисто. Интересно. Ха! Лижешь руку, которой Фаустина добродетельно штопает пятки на чулке почтенного супруга, а на мне хочешь отыграться… Ну, что ж, я слушаю тебя… Но помни, Фауст, потом я скажу свое! Помни, и пусть холодный трепет пройдет в самых недрах твоего дряхлого тела.
Фауст. Ты — глупый, бедный чорт. И это знаю не только я, это знает каждый мужик. Монахи твердят, что ты грозен, силен и коварен, а мужичок изображает тебя дурачком, каков ты и есть. В его сказках всякий Иванушка тебя надувает, всякий Петрушка на игрушечной сцене тебя дубасит вместе с твоими присными — смертью и жандармом. Я видел одну сердобольную старушку, у которой на старости лет часто случались галлюцинации, — она мне говорила: «Сегодня приходил бедный чортушка. Жалко его… молочка ему дала. Да нечаянно ему лапку–то совсем и отдавила. Уж и визжал же! Трясется весь, бедненький, подойти–то не смеет, спрятался в дровах и пищит: — Бабка, у тебя моя лапка, ой, прошу бабку отдать мне лапку! — Жалко, говорит, их бедненьких: уж хоть бы пришибло их солнышко, что ли, а то маются, — ни себе, ни другим». (Тихо смеется.) Что же, Мефисто, отдать тебе твою лапку, которую Тротцбург отдавил тебе своей бронзовой пятой? Мы живем и развиваемся. А ты — наша всегда одинаково серая тень, тусклый фон наших ярких мыслей, ты — царь отбросов, ты — царь мусора. Тебя называют Вельзевулом — царем мух. Но это слишком много чести для тебя, ты — царь мертвечины, предвестник мимолетного ослабления бытия в его вечном пульсе… Когда муха выходит из своего яйца, она взлетает выше тебя на своих перепончатых крылышках. Ты только потому не следишь с завистью за грациозным и торжественным ее полетом, что ты слишком слеп, чтобы понять величие и таинственность его и проникнуть в собственную свою пустоту, простоту и безнадежную плоскость. Отдать тебе твою лапку?
Мефисто. Вы живете, вы развиваетесь? Знай же, гордец, что существует одна ночь, а вы и все ваши миры, ха–ха, только случай, нелепый случай, миг ошибки, о которой и некому будет вспомнить, минутное воспаление Ночи, которая потопит вас в своих недрах и заснет. Но прежде еще, чем раствориться в безмерности, этот сон, называемый вселенной, одряхлеет, ваше старенькое, желтенькое солнышко покраснеет, посинеет, почернеет и застынет… И закоченелая системна закружится бессмысленно в эфире; более осмысленном, впрочем, чем кружитесь вы с вашими, ха–ха, надеждами! Вы: не только существуете, бедняги, то–есть движетесь, что с нашей точки зрения — уже смешная бессмыслица и полубытие, вы еще, в довершение ужасно скверного случая, чувствуете и, увы, мыслите!.. Как это глупо, как непроходимо глупо! Крошечные машинки, марионетки необходимости, вы еще одарены бессмыслицей, называемой смыслом, и это для того, чтобы вы страдали, ибо страдание нужно для равновесия. Раз произошла такая глупость, как движение, нужно, чтобы кто–нибудь поплатился за этот абсурд, за пошлое нарушение покоя, и уравновесил счет; вот почему вы мучитесь. Ваша боль — начало обратного движения маятника, который остановлю я. Мир пройдет, еще прежде погаснет солнце, еще прежде сгниешь ты и бесследно рассеется тот клочок сна, который ты называешь своим сознанием!
Фауст. Мефисто, ты помнишь, как ты родился?
Мефисто. Я — часть Всематери, я предвечен! Но я вышел из святых бездн тьмы, когда началось мутное смятение. Я родился таким, каков я, — тоской по равновесию, когда оно было нарушено, — и вернусь к сладостно–величавому покою, когда оно восстановится.
Фауст. Бедный, глупый чортушка. Твоя мать, о которой ты говоришь с умилительным благоговением желторотого птенца, учившегося у захолустного схоласта, не существует. Не существует далее так, как ты говоришь. Все полно, все живо. И всегда жило. Бедный, глупый чорт. Посмотри, как ты похудел, посинел. Ты уже таешь в тенях моей комнаты. Вернуть тебе твою лапку? Ты вообразил, что тот темный угол, где ты родился, предвечен, а это просто мусорная яма мира, куда пока ссыпают щебень и отбросы, бросают падаль. Там и завелся ты, паразит, мокрица вселенной, и выполз, неся из своей мусорной ямы хаотичный идеал в мир вечно изменчивых гармоний. Мировая мусорная куча отжившей на время материи, которая некогда еще пойдет в дело, — вот мать твоя. В железах мозга, где скопляются в результате процессов очищения ядовитые секреции организма, отбросы нервного труда, — там влачишь ты туманное полубытие, и оттуда гонит тебя несущая благородный кислород солнцерожденная кровь. Гад ущелий, паук, детище тлена, ты живешь потому, что всегда есть в мире мусор… Одно переплавляется для жизни, другое отмирает для отдыха… Но царство света становится все более высоким, мысль растет — величайшая, хоть и младшая стихия, — и ты становишься совсем жалок, и никто не боится больше ада. Ты ведь — заблуждение. Отдать тебе лапку?
Мефисто. Кто ты, что смеешь говорить уверенно? Как дерзаешь ты твои догадки противопоставлять моему знанию?
Фауст. Я так богат и горд, что мне не надо рядиться в чужие перья. Да, пожалуй, то, что говорю, — догадка. Но то, что говоришь ты, — кошмар распада, то, что говорю я, — проблеск усилия. Ты–то знаешь? Полно! Никто не знает. Все живут. Мы строим, ты — прах!
Мефисто. Ха–ха–ха! Вот как ты заговорил. Я всегда называл тебя коробочкой с сюрпризами. Ну, мудрый Фауст, знай же, что завтра ты умрешь. Надеюсь, в бессмертную душу ты не веришь? Завтра ты умрешь. Умрешь, умрешь! (Наклоняется к нему и шепчет хрипло.) Совсем умрешь, навсегда!
Фауст. За волною волна. Вот идет она, новая волна. (Стук в дверь.) Фаустина! Она принесла ребенка! Это — мой внук, это — Генрих Фаустус, тротцбургский гражданин, последняя надежда моих дней! Сгинь, призрак! Жизнь идет!
(Лампа ярко вспыхивает. Мефисто исчезает. Дверь распахивается: на пороге Фаустина, вся сияющая улыбкой, закутанная в зеленый плащ с белым мехом. Она нежно прижимает к себе тепло укрытого малютку).
Фаустина. Отец дорогой. Ты! О! Бежала, бежала!.. Дай целовать твои руки, твои седины. (Плачет.)
Фауст (тоже плачет). Дочурка! Внук мой!.. Милые, милые! (Долгие об’ятия.) Как же?.. Как же, Фаустина, живешь ты? Ты счастлива, правда? Ты любишь Габриэля?
Фаустина. Я счастлива, отец. Я горячо люблю мужа и сыночка, ненаглядного моего ангелочка… Ты должен сейчас же видеть его. Только тепло ли тут? Какое у него очаровательное тельце… И он уже улыбается. Он похож на тебя. Право, он знает, что ему нужно быть похожим на тебя.
Фауст (хлопоча у камина). Я сейчас же разведу огонь… Не раскутывай его, пока я не развел огня. (Огонь начинает пылать в камине.) Как же это, Фаустина, ты все скрыла от меня? О, милая, я не в укор… Нет, нет, нет!… Но зачем? Зачем? Мне было так грустно. (Еще раз поправляет огонь в камине и подходит к ней.)
Фаустина. Отец, я боялась… Ты уже нашел мне мужа, ты не любил Габриэля… Ты был такой властный, хотя и любящий…
Фауст. О, старый тиран! Старый тиран! Ты дочь свою заставил бояться тебя. Что же другие? А они еще терпели так долго твою опеку над собой. Покажи мне нашего Генри… Боже мой, какой он большой! Огромный! Великий!
Фаустина. Ему три месяца и четыре дня, но он выглядит полугодовалым ребенком.
Фауст (беря его на руки). Я не уроню, Фаустина… Генри, Генри! О, он засунул розовую ручонку в мою бороду… Генри, счастье мое, бутон, новый я! Ты смотришь мудро и улыбаешься, как блаженство, как любовь, как весна, как заря, как надежда…
(Тихо входит Габриэль.)
Габриэль. Герцог!
Фауст (оглядываясь). Милый зять, какой вы плохой гражданин. Разве я герцог? Я — доктор Фауст, тротцбургский гражданин. Знаете, что я говорю о вашем сыне: он — мудрый! Посмотрите, — вы видите, какое сверх–сознание на его личике. Это всегда так у человеческих детенышей. Они еще знают что–то важное, то самое, что узнают также молчаливые покойники. Но ни те, ни другие не умеют говорить, мы только читаем их мудрость: у детей — в светлых очах, у мертвецов — на челе и губах… Потом, научась говорить, дети забывают свою мудрость, начинают жить и делать свое дело… Посмотрите, как он улыбается! Генри, Генри, это пришел твой папа. О, да он знает вас. Какой вы счастливец!
ЗАНАВЕС.
КАРТИНА ОДИННАДЦАТАЯ.
Та же площадь, что в картине третьей. Она почти пуста. Редко проходит кто–нибудь. У казны — стража.
Из цеха каменщиков выходят купцы Сегаль и Пфеффершальк. Они медленно проходят к авансцене.
Сегаль. Это ясно, как божий день… Если мы будем натягивать струну…
Пфеффершальк. Так она лопнет.
Сегаль. Вот именно… Конечно, наши барыши скандально уменьшились, но…
Пфеффершальк. И малый барыш — все–таки барыш.
Сегаль. Вот именно… Мы можем пугнуть народное собрание угрозой, что навсегда уберемся из города, но…
Пфеффершальк. Он может сказать нам: скатертью дорога,
Сегаль. Вот именно… Я очень рассчитывал на честолюбие трибуна Скотта и ожидал иного конца от сегодняшнего разговора. Вы поторопились с вашими предложениями.
Пфеффершальк. Одним словом, он нас прогнал.
Сегаль. Вот именно.
(Навстречу им идет Мефисто, переодетый монахом.)
Мефисто. Достопочтенные негоцианты, остановитесь на минуту получить мое смиренное благословение… Ха–ха–ха… Вы не узнаете друга?
Пфеффершальк. Ба, да это ведь — барон!
Мефисто. Тс! Будем говорить тихо… Что сказал Скотт?
Пфеффершальк. Он разыграл мелодраму.
Сегаль. Это была сама добродетель.
Мефисто (покачивая головой). Придется мне самому пощупать его. Не правда ли, — я имею ваши полномочия?
Оба. Еще бы!
Мефисто. Тогда, до свиданья. Он идет сюда.
(Купцы уходят. Скотт в красно–зеленом шарфе через плечо сходит с лестницы здания Цехов Каменщиков. Мефисто подходит к нему и низко кланяется.)
Мефисто. Не позволит ли мне высокомощный гражданин трибун сказать два слова?
Скотт (рассеянно). Что тебе, монах?
Мефисто. Нам лучше войти куда–нибудь.
Скотт (улыбаясь). Секреты?
Мефисто. Большой важности.
Скотт (настораживаясь). Что можешь ты сказать мне, монах? Я очень занят: говори здесь и говори быстро.
Мефисто. Войдем в ваш кабинет. Я — бывший альгвазил, барон Мефисто.
Скотт (вздрагивая). Что? Но я прикажу тотчас же схватить вас.
Мефисто. Если угодно. Но вы ведь умный человек. Вы поймете, что я являюсь в Тротцбург и прямо к Вильяму Скотту не для пустых разговоров. Вы захотите предварительно узнать в чем дело…
Скотт. В чем? Длинные речи между нами немыслимы. Если вы считаете меня умным, то поймете, что убеждать меня красноречием глупо. К делу же, барон. Чего вам нужно от нас? Вы привезли предложение Фаустула?
Мефисто. Фаустул безнадежен. Его дело проиграно.
Скотт (улыбаясь). Мы это знаем.
Мефисто. Будем говорить решительными словами. Купцы решили уехать и подвергнуть Тротцбург торговому запрету.
Скотт (пожимая плечами). Это неправда. Я только что говорил с ними. Они скорее напуганы.
Мефисто. Но после вас говорил с ними я. Их решение непреложно. При отсутствии сколько–нибудь достаточного собственного флота Тротцбургу грозит голод через несколько месяцев. А сколько затруднений в будущем!
Скотт (гордо). Мы их превозможем.
Мефисто. Мастера недовольны вольностями подмастерий и учеников. Меры трибуна Бонда ведут к разорению всех зажиточных граждан, — но крайней мере, они так думают.
Скотт. Все это я знаю лучше вас,
Мефисто. Я уполномочен всеми оптиматами города и доброй половиной капитанов предложить вам переворот… Пойдем к вам. Неудобно говорить на площади.
Скотт. Никто вас не слышит… Так меньше подозрений.
Мефисто (ехидно улыбаясь). Пожалуй, в ваше распоряжение я могу предоставить сейчас же огромную сумму, которую я собрал среди всех внешних врагов излишеств тротцбургской свободы, а таких немало. Сегодня же ночью я могу передать вам миллион дукатов звонкой монетой. (Пауза). В трех днях пути отсюда я собрал лагерь из четырех тысяч ландскнехтов. Вы можете нанять их лично в любой момент… Вильям Скотт, будем говорить, как умные люди. Мы не остановимся перед предложением вам звания штатгальтера. Хотите — и в самом скором времени вы будете герцогом. Протяните руку — все ваше. Вы знаете, кого тут надо и можно купить? Крайних, сплошь подмастерьев и учеников, вы сломите в последнюю минуту силой. Хотите вы продолжать?
Скотт (потупясь). Дьявол.
Мефисто. Уж не боитесь ли вы чорта?
Скотт. Приходите ночью в сад возле Западной Башни… К подножию статуи Цезаря.
Мефисто. Я приду.
Скотт. Собирается народ. Ван–Бонд созвал Народное Собрание на послеобеда. Мне только что доложили об этом. Я еще не знаю, в чем дело. Во всяком случае — ничего важного.
Мефисто. Держите ухо востро.
Скотт. Разойдемся.
(Расходятся. На площади появляется довольно большая группа живописного, разнообразного и довольно ободранного народа. Среди них Бунт и Зависть.)
Бунт. Я вам говорю, что это — узурпация. Трибуны метят стать окончательными господами.
Зависть. В городе только и слышно, что о трибунах.
Бунт. В нем стало слишком много порядка, Тротцбург начинает засыпать.
Мефисто (в костюме странствующего музыканта). То же говорю и я. Помирились на малом. Вместо одного большого — два малых герцога? И скажите мне, бабушка, — где же равенство.
Зависть. Какое уж там равенство? Правда, богатых очень сильно обложили, голодных и нищих совсем нет, но зато сколько разговора о добродетели, трудолюбии и талантах!.. Горе тому в Тротцбурге, кто родился с широкой натурой и любит полениться. Нигде не живется так плохо человеку, желающему быть независимым и служить только себе.
Мефисто. И как хитры эти добродетельные: ведь еще недавно вокруг вас, знаменитый папа Бунт, были толпы. А теперь? Теперь, когда они организовали цех черного труда и стали осыпать его любезностями, вокруг вас не увидишь никого.
Бунт. Кроме пары лодырей… Что правда, то правда.
Мефисто. Ничто не ново под луной. Совершенно то же самое видел я в Италии… в Палермо. Да, но там дело не пошло дальше. Там нашлись люди, которые заметили, как новая, мнимо–народная власть забирала в руки всего человека и вводила так называемые трудовые порядки и строгую общественность. Там нашлись люди, которые смело провозгласили бунт против всякого порядка.
Бунт. Превосходная мысль. (Одобрительный шум в его банде.)
Мефисто. По этому поводу в Палермо сложили хорошую песню. Я вам спою ее. (Поет, аккомпанируя себе на гитаре.)
«В Италии прогнал купец
Из замка дворянина…
Он всех купил и, наконец,
Надел на голову венец
Царя и господина.
Купца и мастера прогнал
Тогда, восстав, рабочий.
Все на труде он основал
И всем работы надавал. —
Так будут дни короче.
А ты, милейший мой лентяй,
Мой добрый лаццарони,
Попробуй свой устроить рай:
Сбрось труд. Валяйся, да гуляй.
Да кушай макароны…
Найди в себе немножко сил,
Нет господина хуже.
Чем брат–рабочий: он убил
Тот вечный праздник, что так мил
Тебе всегда был, друже.
Ты прежде мог словить на–чай,
Поголодать хотя бы,
А нынче плату получай,
Да за работою скучай.
И терпите вы, бабы?
Бери–ка камень с мостовой,
Бери–ка факел в руки
И верь, что, снюхавшись с тобой,
Купец и барин столбовой
Помогут сбросить вьюки.
Устрой же ты свой бунт, мой брат
Бунт пятого сословья:
Пожаром будет мир об’ят,
И пусть потом хоть рухнет в ад,
Пусть захлебнется кровью.
Зависть (громко аплодирует). Браво, браво! Вот это хорошая песня.
Мефисто. Я парень сметливый. И чтобы начать, надо бить их порядок в голову. А голова их порядка — трибун Ван–дер–Бонд.
(Раздается вечевой колокол.)
Мефисто. Народ начинает собираться на сходку. Мы еще успеем прийти в пору. Пойдем–ка все в кабачек. Я вам доскажу про Палермо.
(Площадь быстро наполняется народом. Цехи проходят под знаменами, со своими мастерами впереди. Подмастерья вооружены. Купцы сбиваются в небольшую кучку у подножия трибуны. На ступенях фонтана располагаются секретари и капитаны Республики. На верхней площадке в креслах сидят старейшины города… Затем появляются Скотт и Габриэль в зелено–красных шарфах, без шапок.)
1–й старшина (вставая). Граждане! Я об’являю великую сходку тротцбургских горожан открытой! Ее созвал ваш трибун — Габриэль Ван–дер–Бонд. О чем хочет доложить народу трибун?
Габриэль. Граждане, уже давно наши гости–купцы, которые так сильно богатеют торговлею с Вэллентротцем и Тротцбургом, грозят нам прекратить с нами свои сношения за то, что разными мерами и в целях широкой благотворительности мы стараемся уменьшить их скандальные доходы и не позволяем им, попросту, говоря, мирно грабить нас.
(В народе смех и одобрительные крики.)
Пфеффершальк. Это возмутительно! Нас оскорбляют!
Голос. Молчите! Все тут знают, что вы за птицы. (Смех.)
Габриэль. Пора положить сразу предел этим угрозам, граждане. Честный моряк, капитан Никлас хочет говорить с вами по этому поводу.
(Никлас всходит на трибуну и снимает свою клеенчатую шапку.)
Никлас. Тротцбург! Тебе морочат голову. Три раза предлагал я трибуну Скотту разработанный план. Я доказываю в нем, что можно частью построить, частью купить по очень сходной цене, частью зафрактовать до полсотни хороших судов. И в несколько месяцев Тротцбург сам стал бы своим купцом. Мы — моряки — все тщательно обдумали. Что это значит? Народу до сих пор не доложено ничего о нашем плане. Говорят, вы не найдете достаточного количества опытных приказчиков, чтобы закупать товары и хлеб и развозить ваши продукты. Что за пустяки? Разве у тротцбургцев плохая голова на плечах? Или он не найдет себе друзей, где захочет? Врагов у него много, но и друзья есть. Без красивых слов скажу, буду рад, если утону на службе городу. Почему же план остается без движенья? Почему в городском совете прошамкали о нем и забыли, а народ остается под угрозами заносчивых купцов? Хотя трибун ван–Бонд и не заведует морем, но я обратился к нему с Жалобой на его товарища.
(В народе смутный шум.)
Сегаль. Прошу слова. Экстренно прошу слова у дорогих сограждан!
Габриэль (настойчиво). Гражданин первый старшина, дайте экстренно слово негоцианту Сегалю.
1–й старшина. Экстренно имеет слово негоциант Сегаль.
Сегаль (появляясь на трибуне и кланяясь во все стороны). Из–за чего шум? Мы как раз сегодня хотели заявить, что принимаем все новые законы. Вот. Чтобы жить нам в мире. Мы кланяемся вам. (Кланяется). И вы, если хотите, поклонитесь нам. А не хотите, так и не надо, только зачем ссориться? Зачем вам покупать корабли, когда их у нас довольно, а мы ваши слуги? Ну? И дело кончено. (Спускается с лестницы). А то какой шум: как будто мы спорим с Тротцбургом, или что!
(В пароде торжествующий смех, радостные крики, неясные шутки.)
Габриэль (торжественно). Граждане, у великого Тротцбурга все ладится. Это потому, что он силен и молод. Человек изнашивается, а город — вечен! Граждане, послушайте меня. Я очень замечаю, что трибуны ваши поизносились за эти месяцы. Война кончена. Грозы пока ниоткуда нет. В городе мир и обилие. Мы с дорогим товарищем моим, Вильямом Скоттом передадим дело в руки новых трибунов не в плохом виде… Просим у вас оба, (Кланяется на все четыре стороны.) Отпустите нас с миром с высокого места.
Скотт (бледный и дрожащий, тихо). Между нами не было уговора. Габриэль.
Габриэль (тихо). Посмей теперь протестовать, Скотт.
Скотт. Ты перехитрил меня.
Габриэль. Скоро ты поблагодаришь меня за это.
(Народ поражен. Неясный шум, разговоры, колебания.)
1–й старшина. Я прошу наших дорогих и заслуженных трибунов остаться на своих местах.
(Громкий шум: «Просим, просим!».)
Габриэль. Наше решение непоколебимо.
(В толпе давно уже находятся Бунт, Зависть, Мефисто и их банда.)
Мефисто. О, хитрые честолюбцы. Смотри, папа Бунт, как они льстят народу. Воистину это — новые Цезари. Вот теперь–то и время сделать то, о чем я говорил.
Бунт (с внезапной решимостью, буйно тряся головой). Дайте–ка слово старому Бунту.
1–й гражданин. Слово имеет гражданин Бунт.
Бунт (появляясь на трибуне). Гражданин ван–Бонд, дай–ка ты мне свою руку. Много раз хотел я итти на тебя, ты меня все обезоруживал. Еще сегодня решился я было поднять на тебя руку, как на человека опасного, любимца народа. Но вижу, что ты–таки честен. Тяжеленько мне сознаться, что тут у вас нет против кого бунтовать, а приходится сказать это. Но у старика Бунта довольно дела. Повсюду вокруг еще царит рабство. Прощайте, граждане Тротцбурга, милые люди. Пойду разносить по миру ваш вольный воздух!
(Бурные крики приветствия и радости.)
Мефисто (в толпе шипит). Проклятие! И этот изменяет. Отчаяние, отчаяние!
Габриэль. Папа Бунт. Велики и безмерны твои заслуги, безумный, дерзкий, неугомонный полубог. Ты — отец наш. За тобою всегда место среди наших старшин. Папа Бунт, перед уходом благослови меня и Тротцбург.
Бунт. Благословляю тебя, отходящего от власти, (оборачивается к народу), и тебя, свободный народ, благословляю. Иди вечно вперед!
(Сходит с трибуны среди трогательного молчания.)
1–й старшина. Раз уж мы собрались, то я хочу дать слово художнику Деллабелле, который давно хочет говорить народу.
Деллабелла (появляясь на трибуне и раскланиваясь). Великий народ! По твоему приказу сооружаю я твой Пантеон, в котором по мысли твоей будут собраны торжественные символы твоего рождения, твоей жизни: храм, где будут спать лучшие твои граждане. Еще немного настроено, хотя работа быстро двигается вперед. Памятуя, однако, что по мысли города великое место в памятнике должно быть отведено его гениальному основателю, решил я создать особый алтарь в честь основания Тротцбурга с надписью:
Urbi Faustae Faustoque urbano.
Алтарь этот построен. С любовью я воздвиг его, и сегодня он будет открыт для обозрения. Там стоит также изваянный мною из мрамора бюст первого и последнего вашего герцога.
(Мощные крики радости: «Да здравствует Генрих Фауст! Да здравствует основатель Тротцбурга, честь честь великому!».)
Деллабелла. И да позволено будет скромному художнику, совсем недавнему вашему гражданину, пожелать, чтобы Фауст еще живым вернулся к нам, и чтобы потом прах его успокоился под этим алтарем!
Гунтер Хонт (в костюме секретаря, стоящий на ступенях, подымает руку и запевает):
Проснулся город властелин —
Могучий великан,
Царь Тротцбург утром средь равнин
Вдруг выпрямил свой стан!
Он скажет Фаусту: приди,
Как первый гражданин, —
Стой среди равных впереди,
Но царь — лишь я один!
(Народ хором, повторяет второй куплет. В то время, как звуки его замирают, на широкой площади, у балюстрады появляется высокий, немного согбенный, человек в голубом плаще и широкой шляпе, надвинутой на глаза. Он дослушивает гимн, потом сбрасывает шляпу и, опускает складчатый плащ: это — Фауст.
Лицо его полно радости, глаза блестят. Величественно падают вдоль его фигуры складки его белого талара.)
(Движение в толпе: «Фауст! Герцог.)
Фауст (протягивая об’ятия народу). Дети, мои милые, мудрые, смелые дети! Привет вам! Вот и я с вами, среди вас, с открытым лицом, пришел на ваш зов, чтобы быть равным с вами гражданином свободного Тротцбурга. Вы научили меня ценить народный гений. Давно уже с высоты башни я наблюдал, и сердце мое от сомнения и смущения шло к трепетной любви. Дети, братья! Примите меня. Я смотрел и слушал, как мудро и безошибочно принимали вы ваши прекрасные решения. Смотрел на это многолюдное, яркоцветное, могучее, неиз’яснимое существо — толпу, на ее плески, движения и голоса, на ее массы, похожие на воду моря, но разумную и всю, всю насквозь живую в своих стихийных порывах. Дети, братья, верю, верю в вас: плодитесь, растите, освещайте мир, устраивайте, осмысливайте его, познавайте, стройте, и вы будете как боги. Ведь боги, это — мечта о могуществе человеческом. Привет мой вам. Много тяжких моих вопросов вы разрешили. И, как разогнанные ветром тучи, скрываются на западе последним туманом смерти — страх, сомнение. Да, я вернулся к вам, быть с вами, быть полезным вам, завоевать любовь вашу моей любовью. — вот чего я хочу. Хотите ли вы меня?
(Бурная овация. Крики: «Фауст. Фауст!». Все машут шляпами, платками, знамена колеблются. Старый понамарь, шаркая туфлями, медленно подходит к Фаусту сзади.)
Понамарь. Я тут, я тут, великий герцог. Помнишь ли старика? Я–то знаю, какой карильон ударить, когда пробьет час.
(Хитро улыбается, спускается, открывает дверь башни и уходит, гремя ключами.)
Фауст. Милые, ласковые дети. Спасибо за мысль о памятнике. Я тоже принес вам подарок: я привел вам железного работника с собою. Совет двенадцати мастеров уже видел его. Мастера скажут вам, что он живет огнем и водою, производя разнообразные движения. Он пилит, сверлит, точит, рубит, кует. Его можно приспособить для передвижения тяжестей на суше и на воде, для полевых работ и работ подземных. Уж вы сумеете усовершенствовать его как нельзя лучше. Неизмеримы его возможности. Самые трудные работы будут совершаться при помощи этих огневодных машин, вы станете свободными для труда более тонкого, а также для познания и наслаждения жизнью. Это мой подарок вам, братья и дети, в день примирения.
(Шумный восторг.)
Фауст. Дети, теперь мы в мире, глубоком и полном мире. Теперь я уже переступил порог последней старости, чувствую себя счастливым. Растет, растет радость в моем сердце! (Вдруг прижимает к сердцу обе руки и шатается.) Дети, что же это? Что, что со мною? Небывалое, невозможное… (Габриэль поддерживает его.) Что это? Оно все расширяется, мое недавно бедное сердце и уже обнимает собою вас всех, всех… Уже во мне, во мне все эти биения, тут, тут радость детей, влюбленность юношей, грезы девушек, заботы мужей, нежность материнская и тихая стариковская печаль, тут, тут вся отвага, честность и вся кровь. О, река, широкая, бурливая река дивной крови вливается в мою грудь. Я уже не вижу берегов! Я весь — вы!.. Я — все другие… Я — многие, я — бесчисленность. И все, все — я! Опять, опять то, что уже чувствовал когда–то, но не так головокружительно сильно, не так уничтожающе сладостно… А! Небо, солнце, земля и мы, мы. Друзья, мы — одно!.. Вот вдали берега жизни прошлой, жалкое начало, тягостный путь… А вот мой новый дом, мое будущее: золотое, голубое, зовущее… Идем, идем! Смерти нет. Есть жизнь, такая огромная, о какой я не подозревал… Чудно… Торжественно… Какая сила, какая неопредолимая, прозрачная, сияющая, шумящая волна…
(Вдруг бьет решительно час. Звук гулко продолжается. А затем великолепно рассыпаются трели карильона, жемчужные, серебряные переливы.)
Фауст (широко раскрывая объятия).. Жизнь!.. Мы!.. Мгновенье счастья, стой!
(Опускается на руки Габриэля. Врач быстро и заботливо подходит. Величавая и абсолютная тишина в толпе. Только веет и поет торжествующе роскошный карильон соборных колоколов, словно небесный хор в высоте.)
Врач. Фауст умер.
Габриэль. Фауст жив во всех! Жив с нами! Жив навеки!
(Головы обнажаются. Знамена опускаются. Еще громче, солнечно и победно заливаются голоса колоколов.)
(В медленном темпе и величаво народ запевает гимн):
Проснулся город властелин…
(Под звуки гимна занавес медленно опускается.)