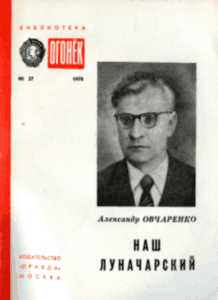[Об авторе]
Александр Иванович Овчаренко родился в с. Григорьевке, Семиреченской области, в 1922 году. После окончания средней школы — учеба в Москве, война, снова учеба, работа в школе, в вузах, в Московском университете и в Академии наук СССР. В настоящее время — доктор филологических наук, профессор, автор книг «О положительном герое в творчестве М. Горького», «Публицистика М. Горького», «Роман–эпопея М. Горького «Жизнь Клима Самгина», «Эпоха, человек, искусство», «М. Горький и литературные искания XX столетия», «Современный белорусский роман», «Социалистическая литература и современный литературный процесс» и других. Руководил подготовкой и изданием первого собрания сочинений А. В. Луначарского, написал к нему обширное предисловие, опубликованное как редакционное. В настоящее время возглавляет работу над Полным академическим собранием сочинений М. Горького. Как ученый–литературовед и литературный критик неоднократно выезжал за границу для участия в международных встречах ученых и писателей, в научных симпозиумах, семинарах, для чтения лекций о русской литературе и литературах народов СССР. Бывал во Франции, США, Англии, ФРГ, Италии, Финляндии, Югославии, Польше, Чехословакии, КНР, Болгарии, ГДР… О своих зарубежных впечатлениях он рассказал в очерках, составивших книгу «В этом бушующем мире».
I. Революционер, публицист, художник, строитель нового мира
Необыкновенна жизнь, завидна судьба этого удивительного человека. «На редкость богато одаренная натура», — восхищенно сказал о нем Ленин. Влюбленный в философию, литературу, музыку, театр, живопись, архитектуру, Луначарский в шестнадцать лет завязывает связи с подпольным движением, в двадцать два года становится на путь профессионального революционера с общеобязательными «вешками» — тюрьмой, ссылками, побегами, длительной эмиграцией. Он принимал самое активное участие в двух революциях, вошел в состав первого Советского правительства, возглавлявшегося Лениным, и в течение двенадцати лет неутомимо трудился на посту народного комиссара просвещения. Он стал одним из самых авторитетных деятелей нашей партии, нашего государства в области строительства новой культуры и выдающимся ее мастером.
Еще до Октября Луначарский завоевал широкую известность как публицист, теоретик и историк искусства, литературный критик, драматург, переводчик. В годы первой русской революции его политическая и литературная деятельность развивалась под непосредственным руководством Ленина. Сохранились замечательные ленинские письма. Они убеждают в том, что Владимир Ильич сыграл огромную роль в формировании Луначарского как убежденного сторонника пролетарской революции, последовательного марксиста, помог ему преодолеть и серьезные идейные заблуждения. «Это лучшая школа, какую только можно вообразить для всякого пролетарского публициста», — говорил позднее Луначарский.
Совершив величайшую революцию и отстояв ее в огне ожесточенной гражданской войны, народы России с невиданным энтузиазмом бросились на штурм высот культуры. Как океанские волны беспрерывно идут одна за другой, так шли лавиной люди, желавшие стать инженерами, агрономами, врачами, учителями, поэтами, музыкантами, артистами, скульпторами. Шли люди богатейшего жизненного опыта, несгибаемой воли, легендарного мужества. Далеко не все они знали, что такое алгебра, кто такой Шекспир. Зато имя Луначарского слышали все. Оно стало для этих людей боевым паролем, вело на пункты всеобуча, ликбеза, оттуда — в вечерние школы, затем — на рабфаки, в вузы, втузы, академии.
Вместе с растущим отрядом преданной народу интеллигенции народный комиссар просвещения осуществлял «дело введения пролетариата во владение всей человеческой культурой», раскрывая перед ним мир искусства. Сложным лабиринтом многовековой культуры вел он своих слушателей, вел, как опытный проводник и как мудрый учитель, владеющий несметными сокровищами. Перечитывая статьи Луначарского, его доклады, речи, лекции, письма, заметки, в которых он одновременно и открывал народу творчество величайших деятелей культуры, и давал марксистскую оценку этого творчества, и извлекал из него ресурсы, необходимые для строительства новой, социалистической культуры, не устаешь поражаться, как он успевал все это делать! И в то же время понимаешь, что он не мог не делать всего этого. Необычайно разносторонняя одаренность сочеталась в нем с исключительной работоспособностью. Просматривая записные книжки Луначарского, ощущаешь, каким целеустремленным был этот человек, как умел он упиваться работой. Уже смертельно больной, он набрасывает планы все новых и новых статей, обширных монографий, многотомных исследований, систематизирует свои труды; его занимают мысли о Горьком и Д. Бедном, В. Маяковском и Е. Вахтангове, о К. Станиславском, Шиллере, Гете, Шоу, Прусте… Он пишет монографию о Фрэнсисе Бэконе… Анализирует взгляды Маркса и Энгельса на искусство… Завершает исследование «Ленин и литературоведение»… И записывает в дневнике: «Хочется работать». И снова: «Работать хочется…»
Работа давалась ему легко, слова лились свободно, сам процесс творчества доставлял высочайшее наслаждение. «Сегодня хорошо работалось» — вот высшая похвала самому себе, встречающаяся в его записных книжках.
Много сказано и написано о необычайной широте культурных интересов Луначарского, его чуткости ко всему действительно прекрасному. Не было, кажется, ни одного заметного революционного явления в области общественной и художественной мысли, которое он вовремя не заметил бы и не поддержал.
Горячо защищая мысль Ленина о том, что судьбы подлинного искусства неразделимы с судьбами революции, что новое искусство, действительно служащее миллионам, будет высоко–идейным, глубоко проникающим в жизнь, утверждающим «братство, к которому ведет мир пролетариат путем социализма», Луначарский бережно отмечал каждый росток такого искусства.
Не обходилось без ошибок. Порой Луначарский бывал снисходительным, — так он на какое–то время отнесся, например, к автономистским тенденциям Пролеткульта, к «бомбометательству» футуристов в первые годы Советской власти, за что его критиковал Ленин. Но эта снисходительность не имела ничего общего с тем, что пытаются приписать Луначарскому любители изображать его «либералом среди коммунистов». Всем известно, как убежденно, страстно он проводил политику партии в искусстве.
Велики заслуги Луначарского перед советской литературой.
Умение радоваться успеху писателя или, как однажды сказал сам Луначарский, умение, отнюдь не впадая в добродушие и попустительство, быть объективным и доброжелательным позволяло ему в ожесточенной литературной борьбе двадцатых годов правильно относиться к явлениям художественного творчества. Он по достоинству ценил произведения писателей, принадлежавших к самым разным литературным направлениям, — Маяковского, Асеева, Есенина, Леонова, Федина, Сейфуллиной. Он был бесконечно тронут, узнав о желании Фурманова увидеть собрание своих сочинений с предисловием Луначарского. Поднимаясь над теми, кто не принимал Фурманова за «недостаточную художественность», Багрицкого за «недостаточную революционную последовательность», Леонова «за стихийное восприятие революции», Серафимовича «за консерватизм формы» и т. д., Луначарский назвал в 1927 году в числе лучших десяти произведений, созданных при Советской власти, «Железный поток», «Чапаева», «Мятеж», «Цемент», «Неделю», «Думу про Опанаса», стихи и поэмы Маяковского, Тихонова. Исключительно высокую оценку дал он «Разгрому» А. Фадеева, а прочитав первый том «Тихого Дона», сказал: «Это произведение напоминает лучшие явления русской литературы всех времен».
Подчеркивая, что сформулированный Лениным «основной принцип партийной литературы, служащей делу социалистического переустройства мира, в настоящее время так же актуален, как и развернутая в статье жесточайшая критика буржуазной литературы, как и пламенная характеристика будущей социалистической литературы, служащей миллионам и десяткам миллионов трудящихся», Луначарский последовательно выступал убежденным поборником нового искусства, которому свойственны и суровый реализм и крылатая романтика; искусства, смело использующего и реалистические приемы изображения и «стилизующие», «условные», но неизменно стремящегося как можно глубже и ярче раскрывать правду жизни. Наше искусство, говорил он, исключает всякие фальсификации, односторонность, иллюстративность, «фальшивые жесты и фальшивые слова». «Бывает, — замечал Луначарский, — что, когда беллетрист дает нам реальный портрет какого–нибудь реального жизненного типа, раздается возглас: нет, это непохоже! На что непохоже? А непохоже на заранее составленную говорящим схему. Такой подход к литературе ничего, кроме вреда, ей не принесет. Художник должен быть колоссально правдив и брать свои образы из подлинной жизни. Всякий писатель, который подменяет жизненный образ надуманным, является лжецом и предателем по отношению к партии. Еще раз повторяю: художник должен быть абсолютно правдив».
С такой же четкостью говорил Луначарский о том, что абсолютная правдивость не может быть достигнута, если писатель идет на поводу у событий, у героев. Удовлетворяясь частностями, можно разминуться с большой правдой дня и вена, «обойти гигантские запросы». Все эти положения нашли углубленное развитие в статьях Луначарского о социалистическом реализме.
Неизгладимый след в развитии искусства оставил Луначарский — теоретик, литературный, театральный, музыкальный критик. Не забыт он и как один из первых советских драматургов. В драматургическом наследстве Луначарского, написавшего 28 пьес, есть произведения, самим автором позднее признанные либо художественно слабыми, либо малозначительными по содержанию и потому «не заслуживающими переиздания» или сценического воплощения. На отдельных пьесах губительно сказалось махистско–богдановское влияние. Но перу Луначарского принадлежали и произведения, высоко ценившиеся как театральными зрителями, тан и крупнейшими мастерами культуры. Закономерный успех имели и «Королевский брадобрей», и «Фауст и город», и «Канцлер и слесарь», и «Освобожденный Дон Кихот». Созданные на историческом материале, они воспринимались зрителями как животрепещущие современные пьесы. Это были, пожалуй, первые опыты советской литературы в жанре философско–интеллектуальной драмы, драмы, основанной на столкновении политических, философских, социальных идей, целых мировоззрений, «взятых» в широком историческом масштабе.
Пламенным революционером, строителем нового мира был Луначарский, отдавший всю свою жизнь, весь свой яркий талант делу коммунизма. Необыкновенная жизнь. Завидная судьба.
II. Искусствовед и литературный критик
Литературное наследство Луначарского охватывает различные области общественных наук. Однако литературная критика и литературоведение остаются областями, где Луначарский особенно много и особенно плодотворно работал на протяжении всей своей жизни. Здесь сосредоточены его самые значительные творческие достижения.
Человек широко образованный, знаток истории, философии, политэкономии, он обладал тонким эстетическим вкусом. Вместе с В. Воровским и М. Ольминским он еще до Октября немало сделал для развития марксистской литературной критики и искусствознания в целом.
Как искусствовед Луначарский принадлежал к типу деятеля, сочетающего в одном лице теоретика искусств, историка русской и зарубежной литератур, театра, кино, музыки, живописи, скульптуры, архитектуры, активно действующего художественного критика, театрального рецензента, обозревателя кино… Превосходное знание славянских и западноевропейских языков 1 позволяло ему внимательно следить за развитием эстетической мысли, за успехами художественного творчества в России, Франции, Германии. Англии, Бельгии, Италии, Австрии, Швейцарии, Польше, в скандинавских странах и в той или иной мере оказывать на них влияние. Своих современников Луначарский поражал широтой культурных взглядов, чуткостью ко всему действительно прекрасному, своеобразному. Ум его до последних дней жизни отличался необычайной тонкостью, ясностью, динамизмом, а сам он проявлял неиссякаемый, прямо–таки жадный интерес ко всему происходящему на свете.
Деятельность Луначарского в области литературы и искусства продолжалась немногим больше тридцати лет. Продуктивность ее необычайна. В списке его работ — несколько тысяч названий, в том числе — два тома оригинальных исторических драм и целая книга «идей в масках», обширные циклы «философских поэм в красках и мраморе» и театральных писем, литературно–критические этюды, очерки, доклады, речи, рецензии, реплики… Как правило, все это создавалось в немногие часы, остававшиеся у него до Октября от сложной, трудоемкой, всегда изобиловавшей опасными неожиданностями работы профессионального революционера или в периоды «вынужденной отсидки» в тюрьмах, в ссылках, в эмиграции, а после Октября — в поездах, везших его в очередную командировку, в непродолжительное время очередного отпуска, наконец, в перерывах между двумя заседаниями или в часы, урываемые от сна. Как–то он признался, что в первые годы Октября зачастую спал 3–5 часов в сутки.
Труды по вопросам литературы, эстетики, критики сам Луначарский считал наиболее значительной частью своего творчества. «Как хочется оставить молодому поколению мои, в сущности, очень большие, знания в области мировой культуры, искусства, как–то собрать их!» — говорил он перед смертью.
Как бы сильно Луначарский ни был загружен государственными и общественными делами, он не мог не писать. Многие дореволюционные статьи, очерки, рецензии создавались им сразу набело, почти без помарок, а после Октября, когда работа народного комиссара просвещения и многочисленные общественные обязанности почти не оставляли времени для систематической литературной деятельности, он преимущественно диктовал свои статьи стенографисткам или литературным секретарям; его же выступления на собраниях, литературных диспутах, юбилейных торжествах — вдохновенные импровизации прирожденного оратора. Именно талант импровизатора, умение быстро сосредоточиться на избранной теме, мобилизовать все свои знания, систематизировать и обобщать их на основе богатой общей эрудиции позволяли ему в кратчайшие сроки создавать самые разнообразные произведения, оперативно откликаться на каждое интересное событие в художественной жизни. Сохранился весьма характерный для Луначарского документ — его пометки в настольном календаре. На обороте листка от 18 февраля 1928 года Луначарский записывает, что он должен написать в воскресный день 19 февраля 1928 года: «Статьи: 1) о Горьком для «Культ[уры] и Рев[олюции]», 2) 250 строк для «Monde» (Барбюс), 3) «Известиям» — а) о беспризорности, б) в «Новый мир» статью на ту же тему, что и речь на собрании сотрудников, 4) о Гартфильде, 5) для «Учительской газеты»: Пацифизм буржуазный и пролетарский».
Разумеется, не все, созданное Луначарским, выдержало испытание временем. Тем более что, как уже отмечалось в предыдущей статье, творческий путь его изобиловал заблуждениями и иногда даже глубокими срывами.
Луначарский сравнительно легко нашел свое место в сложной расстановке общественных сил в России, связав уже в юности собственную судьбу с «учениками», как тогда называли сторонников марксизма. Неизмеримо сложнее обстояло дело с формированием его философских и, в частности, эстетических взглядов. Еще в гимназические годы познакомившись с «Коммунистическим манифестом», «Капиталом» и другими произведениями Маркса и Энгельса, он не смог самостоятельно разобраться в их философских основах и в дальнейшем неоднократно делал попытку «дополнить» Маркса другими философами, например, Спенсером, придать марксизму «большую эмоциональную широту». Сильнейшее влияние оказала на него в студенческие годы философия эмпириокритиков Э. Маха и Р. Авенариуса. Влияние это было длительным и глубоким, несмотря на то, что в бытность слушателем Цюрихского университета, где преподавал Авенариус, Луначарский сблизился с участниками первой марксистской группы «Освобождение труда».
Возвратившись в самом конце 1890–х годов в Россию, Луначарский с головой ушел в активную революционную деятельность, но уже через год был арестован, изведал одиночное заключение, отбывал длительную ссылку в Калуге, Вологде, Тотьме. В ссылке коротко сошелся с А. А. Богдановым. Их сблизило общее увлечение философией Маха, а затем и сочинениями по–своему истолкованного Ницше.
В этих увлечениях и следует искать одну из причин тех очевидных противоречий, которыми отличаются в философско–эстетическом отношении первые работы Луначарского — его известный трактат «Основы позитивной эстетики», статьи и памфлеты: «Чему учит В. Г. Короленко», «Русский Фауст», «Трагедия жизни и белая магия», «Метаморфоза одного мыслителя», «К вопросу о познании», «К вопросу об оценке», «К вопросу об искусстве», — написанные в ссылке или вскоре после нее. Обращаясь к важнейшим эстетическим проблемам, Луначарский ищет их решения на почве «творческого» марксизма, «обогащенного» философскими принципами Канта и Фихте, Спенсера и Вундта, и особенно Э. Маха и Р. Авенариуса, в частности так называемыми «биологическими», «психофизиологическими основаниями». На деле это не обогащает эстетику, но приводит автора к подмене социальных критериев в искусстве критериями биологическими. Вопреки позднейшим заявлениям самого Луначарского в названных работах он стоит не на «общемарксистской», а на махистской точке зрения и «в значительной мере сызнова конструируемая» им «позитивная эстетика» оказывается шагом не вперед, а назад по сравнению с Белинским, Чернышевским, не говоря уж о Плеханове.
В вопросе о философских основах ранних работ Луначарского нет и не может быть двух мнений. Да и не философской стороной привлекли они к себе внимание читателя. Написанные в канун великой бури, они заинтересовали самой постановкой проблемы «искусство и революция», требованием к искусству служить массам, подкупали и заражали читателей революционным пафосом, проповедью героического отношения к жизни, беспощадным осуждением всех форм декадентства, пессимизма, возводящего «свои нервные припадки — в печать особой культурности, свою хандру — в загадочную и очаровательную грусть…». Сила лучших статей раннего Луначарского также в яркости, меткости, своеобразии конкретного анализа художественных произведений.
Обращаясь к писателям, критик призывал: «Пусть же кто–нибудь трубит зарю и боевые марши: есть читатель, который хочет этого. Господа писатели, этот читатель хочет делать большое дело, — посветите ему!» Революционный читатель находил в этих словах отклик на собственные чаяния и многое прощал за это Луначарскому. Несмотря на серьезные философские недостатки, статья «Чему учит В. Г. Короленко» сыграла в свое время положительную роль не только потому, что в ней много точных наблюдений над особенностями творчества Короленко, но потому, что основная ее идея заключается в утверждении: счастье человека — в борьбе, в преодолении морали господ и рабов, в смелых порывах вперед — к свободе, к «выпрямлению жизни» коллективными усилиями людей честного труда. Читатель, готовившийся решительно перестраивать жизнь, многое прощал Луначарскому и в статье «Перед лицом рока» за беспощадное осуждение им всякой половинчатости и вдохновенное прославление людей, ведущих мужественную борьбу против «рока», за утверждение, что такую борьбу должны вести не только великие, но и маленькие люди, объединяясь в партии. Точно так же превосходнейшую страницу в статье «Вопросы морали и М. Метерлинк», посвященную прославлению «самого дивного слова в человеческом языке… слова «мы», новый читатель воспринимал как выражение коллективизма борцов за переустройство жизни. В другой статье о Метерлинке дан интересный анализ классовых истоков искусства в разные эпохи, великолепна едкая характеристика отношения буржуазии к искусству, зависимости его от «князя мира сего»; глубоко содержательна мысль о том, что у буржуазии, лишенной идеалов, искусство становится натуралистичным и формалистичным.
Луначарский шел еще дальше: в литературно–эстетических работах он талантливо проводил мысль о необходимости революционного преобразования жизни — «скверной, капиталистической мастерской, полной бестолкового шума, стихийной вражды, каторжного труда и тунеядства». Ведущую революционную силу он видел в пролетариате. Критик рисовал увлекательные картины нового мира, красота которого должна была рождать у читателя могучий энтузиазм, необходимый для достижения великой цели.
Все это во многом шло вразрез с философскими основами ранних работ Луначарского. Больше того, по мере приближения революции 1905 года именно такие тенденции побеждали, становились главными в его творчестве. Опираясь на них, заботливо помогая их развитию, В. И. Ленин привлек Луначарского к участию в центральных печатных органах большевиков. Гигантские события, развертывавшиеся в России, отодвинули философские разногласия Луначарского (так же, как Богданова) с ленинцами на второй план. На протяжении всей революции он энергично отстаивает единственно правильную большевистскую тактику.
Приехав по вызову В. И. Ленина в конце 1904 года в Женеву, Луначарский (партийные клички — Воинов, Миноносец и др.) быстро завоевывает репутацию блестящего публициста ленинского направления. «Какая это была прекрасная комбинация, — с восхищением вспоминал позднее П. Лепешинский, — когда тяжеловесные удары исторического меча несокрушимой ленинской мысли сочетались с изящными взмахами дамасской сабли воиновского остроумия».
В. И. Ленин высоко ценил также обнаружившееся в этой борьбе сатирическое дарование Луначарского, его умение мастерски пользоваться в политической публицистике приемами художественного творчества. Рекомендуя ему летом 1905 года создать литературно–критическую характеристику меньшевистских «черносотенников» Мартова, Потресова, Жордания, он писал: «Пригвоздите их за их мизерный способ войны. Сделайте из них тип. Нарисуйте их портрет во весь рост по цитатам из них же».2 В другой раз, говоря о кадетах и вспоминая, видимо, стихотворный памфлет «Два либерала», опубликованный Луначарским в 1905 году, В. И. Ленин спрашивал: «Не тряхнуть ли Вам стариной, посмеяться над ними в стихах?».3
Политическая борьба, публицистика поглощают Луначарского почти целиком. Во всяком случае, в разгар революции он уделяет эстетике, литературной критике меньше внимания, нежели в предыдущий период. То же немногое, что он пишет о литературе и театре, несет на себе все более выразительную печать благотворного влияния великой эпохи, отличается той определенностью, ясностью цели, которую Луначарский обрел под непосредственным руководством В. И. Ленина, в постоянном творческом общении с такими большевистскими литераторами, как В. Воровский, М. Ольминский, П. Лепешинский и другие.
Знаменателен сам факт: в период наибольшего дооктябрьского сближения с В. И. Лениным и его сторонниками Луначарский пишет «Диалог об искусстве» (1905), статьи о «Дачниках» и «Варварах» Горького, статью «Задачи социал–демократического художественного творчества» (1906) — лучшее, что создано им до Октября в эстетике и литературной критике.
Но есть и другие интересные факты, свидетельствующие об отношении Луначарского к его литературным соратникам. В одной из статей, написанных в конце жизни, Луначарский рассказал об интереснейших беседах о литературе, которые были у В. И. Ленина с М. Ольминским. До последних своих дней не мог Луначарский без волнения вспоминать и о том неотразимом впечатлении, какое произвели на него первые же литературно–критические статьи В. Воровского. К этому следует прибавить, что во время своего пребывания в Женеве Луначарскому приходилось бывать на литературных рефератах Плеханова. Он рано понял, что после Плеханова всякий критик, который хотел быть учеником Белинского, Чернышевского и Добролюбова и отстранял от себя марксизм, не мог считаться продолжателем их великих традиций. Наряду с могучим влиянием на Луначарского В. И. Ленина эти впечатления помогли ему в период революции 1905 года правильно решать основные проблемы марксистской эстетики и литературной критики.
Вслед за Плехановым и Воровским, продолжая в понимании общественного назначения искусства линию великих представителей русской революционно–демократической критики, Луначарский критикует в «Диалоге об искусстве» упрощенческие, односторонние взгляды на литературу, отвергает теорию «искусства для искусства», декадентство — «искусство печальности», «искусство оледеневающее», не только проповедующее отказ от действительности, всеобщее распадение, но и зовущее людей «вон из жизни». Вооружаясь тончайшей иронией, Луначарский наносит неотразимые удары также по идеалистическим основам этого искусства, опирающегося на «китайское Дао» и Парменида, Фихте, Шопенгауэра и Гартмана, на сочинения Н. Бердяева и С. Булгакова.
Обращая внимание защитников «свободы творчества» на то, что «художник производит теперь… просто на базар. И базарное искусство задает тон», Луначарский формулирует марксистскую точку зрения на искусство, как на своеобразное средство познания жизни и борьбы за ее переустройство. Искусство, говорит он, призвано объединять людей, поднимать их, вдохновлять на борьбу против «учреждений, классов, групп, союзов, заинтересованных в разъединении людей». Особенно велико значение искусства в период пролетарского освободительного движения. «Пролетариат, — говорится в «Диалоге об искусстве», — растет и поднимается и начинает уже сознавать ценность искусства; художник, в массе деклассированный и придавленный, мечется в отчаянии и ищет исхода. Не ясно ли, что дело марксиста–эстетика, марксиста — художественного критика — стараться познакомить рабочую публику со всем лучшим, что есть в искусстве, объясняя, толкуя, подчеркивая, пока не приобретены еще этой публикой навыки к наслаждению, плодотворному, растящему душу, наслаждению великим в искусстве. С другой стороны, не ясна ли задача раскрыть глаза наиболее отзывчивым и молодым художникам, чтобы они видели, уши — чтобы слышали, чтобы наполнил их «шум и звон» величайшей мировой борьбы, и чтобы они претворили нам их в песни радости, гордости, смелого вызова, жажды и предчувствия победы, в песни согласия, дружбы, песни угрозы!»
Еще большей политической и эстетической зрелостью отличается статья «Задачи социал–демократического художественного творчества», написанная под прямым воздействием знаменитой ленинской работы «Партийная организация и партийная литература». Она начинается с провозглашения принципа партийности как основного принципа художественного творчества. Искусство не только может быть, оно не может не быть партийным. И далее Луначарский развивает и конкретизирует ряд положений, выдвинутых в «Диалоге об искусстве». Он намечает характерные черты нового, пролетарского, социал–демократического искусства, предвосхищая во многом то, что впоследствии будет определяться наукой как метод социалистического реализма.
По мнению Луначарского, новая историческая сила и может и будет иметь свое искусство. Оно, говорит критик, уже возникает на почве единения лучшей части интеллигенции с освободительным движением пролетариата. Опираясь в теоретическом отношении на статью В. И. Ленина «Партийная организация и партийная литература», а в художественной практике на творчество Горького, Луначарский утверждает, что социалистическое искусство будет искусством глубоких обобщений, острейших конфликтов, ярких, выразительных характеров. В нем найдет художественное воплощение вся жизнь в единстве ее прошлого, настоящего и будущего. Непосредственная связь с ведущей освободительной силой, ее целями и задачами определит его основные черты.
«Каковы главные элементы того общественного настроения, которым охвачены социалисты? Во–первых, они ненавидят отживающий строй. Поэтому элемент бичующий, саркастический будет иметь место и в пролетарском искусстве. Во–вторых, они борются за новый мир. И потому борьба, как я уже говорил, будет занимать центральное место среди тем нового художника. В–третьих, они провидят, хотя и «в зерцале гадания», лишь этот новый, лучший мир. И тут–то мы встречаемся с третьей задачей социалистического искусства: изображением грядущего».
Новое искусство осветит основы частнособственнического общества огнем беспощадной критики. Но это будет не критика «отщепенца», впадающего в отчаяние при виде «мерзостей бытия», не критика натуралиста, копающегося в мелких язвах отживающего общества, а «критика сознательного врага старого мира во имя любимого нового», критика, вдохновляющаяся ясным «пониманием объекта» и отчетливым видением путей преобразования жизни, верой в величайший идеал. Поэтому новое искусство будет оптимистическим, жизнеутверждающим. «Пролетарский художник будет изображать и рабочий быт, но не нищета привлечет прежде всего его внимание, а боевая сторона пролетарской жизни. Изображение борьбы, титанических усилий, порывов и упорства, новаторства, то гневно, то светло улыбающегося — составит большую часть мотивов, которые предстоит разработать». Проблема положительного героя или, как выражается Луначарский, раскрытия новой души в ее неисчерпаемо многообразных проявлениях будет стоять в центре нового искусства. В частности, надо «открыть восхищенным взором душу пролетария, открыть, как бесценное золото, для того, чтобы радостно ковать из него чудесные шедевры. Именно восхищенно открывать этот клад начал Горький».
Таким образом, беспощадное критическое изображение старого мира, вдохновенное утверждение новой действительности и предвидение грядущего, «счастливое предвкушение того широкого, интимного, всеобъемлющего братства, к которому ведет мир пролетариат путем социализма», — эти три основных компонента социалистического искусства, наряду с ленинским принципом партийности, уже тогда были намечены Луначарским.
Правильно решается Луначарским и вопрос о тех силах, которым предстояло создавать новое искусство. Не отрицая, что «светило нового искусства» может подняться и из среды «измученных работой, темных русских пролетариев», он в то же время в отличие от будущих теоретиков Пролеткульта понимал, что скорее всего «великие или, по крайней мере, очень крупные пролетарские художники» будут выходцами из социальных слоев, давших миру основателей научного социализма.
И в этой работе, как и в «Диалоге об искусстве», Луначарский утверждает, что, независимо от того, выйдет ли творец социалистического искусства из среды пролетариата, или придет к пролетариату из других социальных слоев, он добьется успеха лишь в том случае, если будет идти в ногу со строителями нового мира, будет смотреть на все окружающее с высоты социалистического идеала. «…Надо помнить, что в конце концов важны даже не темы, а радостная, победная трактовка их, точка зрения члена класса завтрашнего дня, утреннего, подобно солнцу, восходящего класса» — так закончил статью Луначарский.
В «Диалоге об искусстве», в статье «Задачи социал–демократического художественного творчества» есть неточные, спорные, даже ошибочные формулировки. Несмотря на это, вместе со статьями о горьковских «Дачниках» и «Варварах», памфлетными выступлениями Луначарского против «литературного распада», а также написанными значительно позднее «Письмами о пролетарской литературе» эти произведения еще до Октября выдвинули имя их автора в один ряд с именами виднейших представителей марксистской критики. Впоследствии Луначарский напишет: «Если мы… можем с гордостью сказать, что уже в дореволюционное время нами созданы крупнейшие ценности в области литературной критики по сравнению с европейской ветвью пролетарского движения, то в этом мы в значительной мере обязаны Плеханову и Воровскому. Критиков, подобных им по ясности и художественности изложения, по глубокому марксистскому анализу, мы в европейской пролетарской литературе не встречали». Соблюдая историческую точность, намеченный здесь ряд следует открывать именем В. И. Ленина; продолжен же он с полным правом может быть не только именами М. Горького, М. Ольминского, но и автора «Диалога об искусстве» и «Задач социал–демократического художественного творчества».
Плодотворность принципов, сформулированных в «Диалоге об искусстве» и в «Задачах социал–демократического художественного творчества», продемонстрировал сам Луначарский, обратившись к конкретному рассмотрению творчества виднейших писателей своего времени, в особенности М. Горького и Л. Андреева.
Последние выступления Луначарского, на которых лежит яркий отсвет первой русской революции, связаны с его участием в острой идеологической борьбе большевиков против «могильщиков революции». Начало систематической борьбы с ренегатством, нытьем, «переоценкой революционных ценностей» было положено известными работами Ленина «Победа кадетов и задачи рабочей партии» и «Услышишь суд глупца…». Вскоре в нее включились все выдающиеся большевистские публицисты.
Говоря о вакханалии эротизма, садизма и всякой мерзости, охватившей русское общество в годы реакции, Луначарский писал:
«Понятна и волна вакханалии и патологического эротизма: пир во время чумы.
Спиноза сказал: «свободный человек» ни о чем не думает меньше, чем о смерти. Спиноза вдавил бы клеймо трусливого раба в лбы г.г. Мережковских, Бердяевых и… самого могильного могильщика — Андреева.
Жизнь — принцип пролетарский. Так вышло. Так изжила себя старуха буржуазия на Западе, что русская сестра ее начинает свою жизнь с панихиды и колыбелью своей избирает гроб. Буржуазное «свободное» искусство есть смерть».
Выступления Луначарского по поводу рассказа Л. Андреева «Тьма» и двухтомной «Истории русской общественной мысли» Р. Иванова–Разумника стоят в одном ряду с такими произведениями, как памфлеты и статьи «В ночь после битвы» и «Базаров и Санин. Два нигилизма» В. Воровского, «Преодоление эстетики» и «Культурные люди и нечистая совесть» М. Ольминского, «Разрушение личности» М. Горького.
В дальнейшем Луначарский, однако, не смог выдержать идеологического напора реакции, поддался стенаниям «отчаявшихся и уставших». Вынужденный эмигрировать в 1906 году из России, он вскоре сделал в своем революционном развитии резкий изгиб в сторону от четкой, смелой линии Ленина, примкнув к ревизионистской, идеалистической группе, возглавляемой А. Богдановым и В. Базаровым. Отступая от коренных принципов марксистской философии, сдавая большевистские рубежи, Луначарский оказывается на позициях махизма, проповедует «богостроительство», «соединение научного социализма с религией», утверждает, что философия Маркса вытекает «из религиозных мечтаний прошлого», договаривается, по словам Ленина, «до прямого фидеизма».4 Плеханов подвергает язвительной критике «пятую религию» Луначарского, едко назвав ее «утешительной душегрейкой для интеллигенции». Критика задевает Луначарского, но не дает положительных результатов.
Упорную борьбу за Луначарского повел В. И. Ленин. В знаменитой книге «Материализм и эмпириокритицизм» он раскрыл истинное существо махистской философии, сбившей с толку не одного Луначарского, показал, что представляют на самом деле «искания» русских последователей Маха и куда они могут привести. Отвечая на заявление Луначарского: «может быть, мы заблуждаемся, но ищем», — Ленин писал: «Что касается до меня, то я тоже «ищущий» в философии. Именно: в настоящих заметках я поставил себе задачей разыскать, на чем свихнулись люди, преподносящие под видом марксизма нечто невероятно сбивчивое, путаное и реакционное».5
Ленин был убежден, что возврат таких людей, как Луначарский, от махизма, отзовизма, богостроительства к марксизму может многое дать нашей партии. Он всеми силами пытался вытащить его из «сетей Богданова», отделить его от Богданова «на эстетике».6 Даже убедившись в том, что Луначарский основательно увяз в эмпириокритицизме и с ним придется разойтись на несколько лет, он сказал Горькому: «Луначарский вернется в партию…».
В дальнейшем несколько раз намечалось сближение Луначарского с большевиками (например, в 1912 году), но окончательно вернулся он в партию лишь в самый канун Октября.
Отход от марксизма, расхождение с большевизмом привели к тому, что как эстетик и литературный критик Луначарский также оказался в тупике. Его статьи о зарубежных литературах, музыке, живописи, театре, написанные в предоктябрьский период, содержат рассуждения богостроительского характера, отличаются методологической путаницей, терминологической неясностью, наконец, отсутствием широких обобщений. «А «ваш» Луначарский хорош!! Ох, хорош! У Метерлинка–де, «научный мистицизм»…»7 — иронически замечает в письме к Горькому В. И. Ленин по поводу фельетона Луначарского «Страх и надежда» (1913). Луначарский отдает заметную дань теориям иррациональности процесса творчества, впадает в «грех крайнего субъективизма» (за что подвергается справедливой критике в знаменитой работе Плеханова «Искусство и общественная жизнь»), проявляет примиренческое отношение к теории «творчества ради самого творчества». Сильная сторона этих статей, вернее, их положительные элементы исчерпываются конкретными замечаниями об особенностях тех или иных произведений, актерской игры, критикой различных проявлений декадентства в искусстве, меткими наблюдениями над все углубляющимся упадком буржуазной культуры, зависимостью ее деятелей от «князя мира сего». Луначарский становится едким сатириком, когда речь заходит о таких явлениях, как французский символизм, итальянский футуризм и прочие «художественные кувыркколлегии». Он называет кубистов «варварами», а их полотна «художественными нелепостями». «Новаторство» кубистов, замечает он, «попахивает шарлатанством» («Кубизм»). Статьи Луначарского «Футуристы» и «Сверхскульптор и сверхпоэт», направленные против итальянского футуризма, приобретают ярко выраженную памфлетную окраску. Вождя футуризма Маринетти Луначарский называет ультрасовременным сверх–Ноздревым, «Саврасом без узды», а творчество его последователей — «нелепыми выкидышами».
По–прежнему глубоко волнует Луначарского проблема судеб современной литературы и искусства. Он внимательно изучает самые различные явления мировой литературы, театра, музыки, живописи, скульптуры. Круг его интересов расширяется необычайно. Луначарский жадно следит за всеми новинками как русской литературы, так и литератур Франции, Англии, Германии, Италии, Бельгии, Австрии, Швейцарии, Норвегии, Дании, присматривается к тому, что происходит за океаном. Он отмечает плодотворное влияние социализма на Горького — в России, на Э. Верхарна — в Бельгии, на М. Андерсена–Нексе — в Дании… В очень своеобразных формах он обнаруживает такое влияние у О. Мирбо и А. Франса, Г. Уэллса и М. Метерлинка, Джека Лондона и Рихарда Демеля, солидаризируясь с мыслями, высказанными Горьким в статье «Разрушение личности».
Все большее проникновение в сущность процессов, происходящих в мировом искусстве, укрепляет Луначарского во мнении, которое он высказал в статье «Задачи социал–демократического художественного творчества» и от которого не отказался в годы реакции: в мире возникает новое искусство «художников, идущих навстречу пролетариату, полных энергии и идеалреализма…».
Наметившийся в годы нового революционного подъема поворот Луначарского в сторону большевизма (поворот, совершавшийся очень медленно, с большими трудностями) способствовал тому, что, включившись накануне первой мировой войны в дискуссию о путях строительства пролетарской культуры, он занял позицию, наиболее близкую к большевистской. Затеянная меньшевиками–ликвидаторами дискуссия рассматривалась ими как составная часть борьбы против теоретических основ большевизма, против ленинского учения о гегемонии пролетариата. Дискуссия открылась пространной статьей А. Потресова «Критические наброски. О литературе без жизни и о жизни без литературы», появившейся в трех номерах ликвидаторского журнала «Наша заря» за 1913 год.
В теоретическом отношении платформа, занятая меньшевиками–ликвидаторами, ничем принципиально не отличалась от той системы взглядов, которую защищали правые немецкие социал–демократы во время дискуссии, разгоревшейся на страницах «Neue Zeit» в 1912 году, и сущность которой сформулировал в заключающей статье критик В. Циммер: «Вместо того, чтобы вновь и вновь призывать к пролетарскому классовому искусству, что в конце концов довольно скучно слушать, следовало бы лучше подчеркнуть, что оно в действительности совершенно невозможно и почему невозможно…» Повторяя выдвинутый в давно прошедшие времена такими столпами европейского «социал–демократизма», как К. Каутский, Э. Вандервельде, и снова подтвержденный во время дискуссии 1912 года ошибочный тезис о невозможности «новой эпохи в искусстве» прежде, чем не «исчезнет пролетариат», дополняя этот тезис рассуждением о том, что если даже европейские рабочие не смогли создать своей литературы, то «где уж нам», А. Потресов, Р. Григорьев, А. Мартынов, И. Кубиков и другие пытались ниспровергнуть одно из центральных положений ленинской статьи «Партийная организация и партийная литература».
В. И. Ленин утверждал, что социал–демократическая литература «сумеет и в рамках буржуазного общества вырваться из рабства у буржуазии и слиться с движением действительно передового и до конца революционного класса».8 Большевистская «Правда», систематически пропагандируя художественное творчество М. Горького, Д. Бедного, развернула большую работу по собиранию и воспитанию пролетарских литераторов, призывала рабочих «вырабатывать из себя редакторов и рабочих журналистов, и рабочих художников литературы».9 Сам В. И. Ленин, подчеркивая ценность революционного искусства пролетариата, пишет статьи «Евгений Потье (к 25–летию его смерти)» и «Развитие рабочих хоров в Германии», подсказывает Горькому мысль о создании пролетарских литературных объединений.
Следует заметить, что, несмотря на литературную деятельность Горького, Серафимовича, Д. Бедного, практически подтверждавшую правильность ленинской идеи, решение вопроса, вынесенного на дискуссию меньшевиками–ликвидаторами, представляло немалую трудность даже для таких видных большевиков, как В. Воровский.
Подобно Ф. Мерингу и П. Лафаргу в Европе, он высказывался на этот счет со значительной долей скептицизма. Тем важнее подчеркнуть, что Луначарский, так же как М. Горький, занял в дискуссии бескомпромиссную позицию. Он безоговорочно отверг как несостоятельное утверждение Потресова, будто литература, беллетристика для рабочего — роскошь: «Искусство есть оружие, и оружие огромной ценности».
В предисловии к первому «Сборнику пролетарских писателей» Горький писал: «Я крепко убежден, что пролетариат может создать свою художественную литературу, как он создал — с великим трудом и огромными жертвами — свою ежедневную прессу». Такой же убежденностью проникнуты и «Письма о пролетарской, литературе» Луначарского, появившиеся в печати в феврале 1914 года, то есть еще до выхода первого «Сборника пролетарских писателей» с горьковским предисловием.
Основной пафос «Писем о пролетарской литературе» роднит их и с другим выдающимся выступлением на эту тему — с докладом «Искусство и пролетариат» К. Цеткин. Выступая зимой 1910⁄11 года перед социал–демократической аудиторией в Штутгарте, она утверждала: «Борющийся пролетариат дает искусству не только надежду на будущее. Его борьба, пробивающая брешь за брешью в крепости буржуазного строя, прокладывает новые пути искусству, обновляет его, обогащает его новым идейным содержанием… Время дает все больше доказательств, что рабочий класс хочет не только наслаждаться искусством, но и создавать его. Это подтверждается прежде всего появлением пролетарских певцов и поэтов».
Луначарский «подхватывает» и углубляет эту мысль. «Интерес у пролетариата к созданию и восприятию собственной литературы, — говорит он, — налицо. Огромная объективная важность этой культурной работы должна быть признана. Наконец, объективная возможность появления крупнейших дарований в рабочей среде и могучих союзников из буржуазной интеллигенции также не может быть отрицаема…
Что же сделано в этом направлении? Существуют ли уже прекрасные произведения этой наиновейшей литературы?
Да. Они существуют. Быть может, нет еще решающего шедевра; нет еще пролетарского Гете; нет еще художественного Маркса; но огромная жизнь уже развертывается перед нами, когда мы приступаем к знакомству с социалистической литературой, ведущей к ней и подготовляющей ее».
Война помешала Луначарскому всесторонне развить это утверждение на конкретном анализе явлений социалистической литературы на Западе и в России.
Обратим внимание в приведенной цитате на замечание Луначарского о «союзниках». Оно имеет глубокий полемический подтекст. Многие участники дискуссии утверждали, что пролетарская литература может создаваться только выходцами из среды пролетариата. «Пролетарская культура художества, — заявлял Потресов, — …нечто по своему существу способное быть только сугубо доморощенным, домодельно–пролетарским…».10 Подходя к этому вопросу с другого конца, к такому же выводу приходили «впередовцы». А. Богданов и другие доказывали, что интеллигент никогда не сможет проникнуть в «нутро» пролетариата, научиться «чувствовать за него», а стало быть, при создании пролетарской литературы на него не стоит и рассчитывать. Оставляя пока в стороне вопрос о связях подобных рассуждений с последующими «теориями» Пролеткульта, заметим, что Луначарский и сейчас, как и в 1905–1907 годах, был далек от какого–либо сектантства, от вульгаризации принципа классовости в искусстве.
Рассматривая искусство как орудие в руках пролетариата, настаивая на принципе классовости литературы, открытой связи ее с пролетарским освободительным движением, Луначарский столь же решительно отвергал мнение, будто это ограничивает писателя в выборе тем и сюжетов, в их разработке. Соглашаясь с Г. Роланд–Гольст, он утверждал, что решающим для нового искусства будет умение писателей все изображаемое просветить и согреть великим социалистическим идеалом. «Я отнюдь не хочу… сказать, — писал он, — что пролетарскому художнику должны быть интересны только чисто революционные темы. Наоборот, весь широкий мир должен интересовать и волновать его. Все человеческие страсти от самых бурных до самых нежных пусть будут его красками. Но ведь этот мир преломлен будет сквозь новое пролетарское сознание, ведь эти страсти будут сплетены в небывалый еще в новейшей истории узор».
Любопытная деталь: в «Письмах о пролетарской литературе» почти дословно повторяются многие мысли, высказывавшиеся Луначарским в «Задачах социал–демократического художественного творчества». Вообще возрождается и получает дальнейшее развитие все то лучшее, что было свойственно предшествующему творчеству Луначарского в области эстетики и литературной критики. В годы первой мировой войны это лучшее вместе с интернационализмом Луначарского в немалой степени способствовало новому сближению его с В. И. Лениным. «Письмами о пролетарской литературе» автор как бы перекидывал мост между ценнейшими своими достижениями в прошлом и последующим литературно–эстетическим творчеством. В них и в непосредственно предшествующих им произведениях этого ряда уже содержится в зародыше то, что он будет настойчиво и многосторонне развивать после Октября и что оттеснит, а затем и вытеснит из его творчества ослаблявшие, а иногда даже обесценивавшие его произведения элементы «биологизма», «антропологизма», «интуитивности», ницшеанства…
Включая в 1925 году «Письма о пролетарской литературе» в один из своих сборников, Луначарский не без основания утверждал: «В то время, как статья эта писалась, пролетарсная литература действительно была в зародыше. Приходилось останавливаться больше на подготовительных, предварительных, полупролетарских работах. Я затеял написать тем не менее целую серию писем о пролетарской литературе, но осуществить мне удалось только немногое. Первое из этих писем представляет собою общее суждение о пролетарской литературе, и в нем мне совершенно нечего менять. Я считаю, что это письмо — в чуть–чуть измененном или обновленном виде — могло бы служить предисловием к любому сборнику статей о пролетарской литературе в наши дни».
* * *
После Великой Октябрьской социалистической революции развернулся литературный и организаторский талант Луначарского во всем блеске и многогранности. Войдя по предложению В. И. Ленина в состав первого Советского правительства в дни непосредственного свершения Октябрьской революции, он остается в нем вплоть до 1929 года, с успехом возглавляя работу по созданию новой системы действительно народного просвещения. Одновременно он становится одним из самых деятельных и самых авторитетных проводников политики нашей партии во всех сферах культурного строительства. «Культура и революция» — так формулируется р. самой обобщенной форме главная проблема, над которой он работает как народный комиссар и как публицист, историк искусства, литературный, театральный, музыкальный критик, драматург. В литературном плане эта проблема вбирает в себя излюбленные темы Луначарского — искусство и революция, пролетариат и литература, интеллигенция и новое искусство.
Сразу же после Октябрьской революции газеты опубликовали написанные Луначарским обращения «К учащим» и «К учащимся». В них он от имени Советского правительства призывал всех честных носителей знания встать на сторону народа в великой борьбе за обновление всего мира. Этот призыв, прозвучавший и в статье «В трудный час», Луначарский затем повторял много раз, решительно осуждая «саботаж пролетарско–солдатской победы интеллигенцией, даже самой левой».
Поддерживаемый первоначально немногочисленными представителями разных поколений русской и зарубежной интеллигенции, проявившими достаточную социальную зоркость и сразу вставшими на сторону Октября (К. А. Тимирязев, Д. Бедный, А. Серафимович, В. Маяковский, А. Блок — в России, Р. Роллан, М. Андерсен–Нексе, Д. Рид — на Западе и в Америке), Луначарский упорно прокладывает большевистской правде путь к «уму и сердцу» носителей знания, столь необходимого народу, помогает им «овладеть… всем громадным содержанием революции». Он обращается но всей интеллигенции и к отдельным ее представителям, вступает в открытую полемику с В. Короленко, спорит с М. Горьким, в первые месяцы после Октября преувеличивавшим значение отдельных промахов, ошибок, неудач пролетарской революции. Отвечая на «открытое письмо» В. Короленко, в котором большевики обвинялись в «фанатизме», он защищает революцию, ее творцов от несправедливых обвинений и одновременно ведет борьбу за самого Короленко против его собственных предрассудков, а также против демагогов, пытавшихся воспользоваться ошибками крупного писателя. С великой гордостью, революционной непримиримостью и великодушием активного участника мировых событий, познавшего и горечь их и их славу, он говорит: «Как ни много шлаков и ошибок в том, что мы сделали, — мы горды нашей ролью в истории и без страха отдаем себя на суд потомства, не имея ни тени сомненья в его приговоре».
Есть глубокий смысл в том, что именно в беседе с Луначарским осенью 1918 года Горький заявил о своем решении вступить на путь тесного сотрудничества с вождями Советской республики. Вскоре они вместе выступили на грандиозном митинге петроградской интеллигенции.
Работа по привлечению старой интеллигенции на сторону Советской власти, которую Луначарский по указанию и под непосредственным руководством В. И. Ленина выполнял в тесном контакте с М. Горьким, была колоссальной. Но ею далеко не исчерпывается деятельность его в первые годы революции. Не исчерпывается она и еще более значительной работой по поднятию культурного уровня трудящихся, которой вместе с Луначарским отдали так много сил и сам В. И. Ленин, и М. Горький, Н. К. Крупская, М. Н. Покровский, И. И. Скворцов–Степанов, В. В. Воровский.
В истории нашей революции имя Луначарского навсегда связано со строительством новой, социалистической культуры.
Путь развития советской культуры был нелегким. Ее творцам приходилось мучительно искать правильные решения. Выйти на верную дорогу многим из них помог Луначарский.
И поистине неоценимую роль сыграл он в воспитании молодых кадров советской интеллигенции.
Луначарский занимался повседневно «делом введения пролетариата во владение всей человеческой культурой». Он вводил массы «в мир музыки», где царили Бетховен, Мусоргский, Чайковский, мастерски набрасывал «литературные силуэты» Пушкина, Лермонтова, Герцена, Некрасова, Достоевского, Толстого, Чехова, Короленко, Горького, воскрешал могучие образы классиков реалистического театра — Шекспира, Островского, Грибоедова, волшебников кисти — Рубенса, Рембрандта, Сурикова… Ленинское учение о двух культурах в каждой национальной культуре досоциалистической эпохи, высказывания Маркса, Энгельса, Ленина об отдельных явлениях искусства, ленинские статьи о Толстом, знаменитое положение о необходимости раскрыть перед народом все духовные ценности прошлого, сформулированное в программе, принятой VIII съездом нашей партии, — вот тот компас, по которому Луначарский вел своих слушателей к завоеванию высот многовековой человеческой культуры.
Среди созданного Луначарским после Октября его произведения о писателях, композиторах, художниках, артистах, литературных критиках всех времен и континентов представляют особую ценность и прямо продолжают одну из лучших линий в его дореволюционном творчестве. В условиях становления нового мира многие из этих выступлений Луначарского были равносильны второму открытию, возрождению великих деятелей культуры прошлого, включению их в жизнь революционного народа.
Исключительно высоко оценивая познавательную сторону величайших памятников культурного прошлого, Луначарский не забывал о громадной роли, которую они могут сыграть в нравственном воспитании нового человека. Хрестоматийными стали его оценки значения грибоедовских, гоголевских, чеховских образов в борьбе с пережитками старины, с предрассудками в сознании строителей социализма. Он неоднократно говорил о том, какую огромную роль могут сыграть произведения Чернышевского в создании социалистической этики и эстетики. И, конечно же, в произведениях классиков он видел «нормы и образцы для нашего собственного творчества…».
Колоссальная эрудиция позволяла Луначарскому рисовать картины развития культуры на протяжении веков, четко определять и выражать специфические особенности ее на разных исторических этапах. В 20–х годах он почти параллельно читает обстоятельные синтетические курсы лекций по истории русской и западноевропейской литератур, мирового театра, пишет статьи о выдающихся музыкантах, художниках, актерах, литературных критиках прошлого и современности, задумывает книгу «Культура древней Греции».
Равным образом он достигает успеха и тогда, когда крупными мазками набрасывает картины художественного развития человечества, и тогда, когда на основе кропотливого исследования фактов дает решение конкретных вопросов развития искусства. Иногда он как бы принимает и популяризирует уже установившийся взгляд на то или иное явление культуры. Но, популяризируя, он умеет по–своему изложить такой взгляд, придать ему объемность, многоцветность, многокрасочность. Таковы его статьи о Сервантесе, Шекспире, Свифте, Грибоедове. Другие его выступления составляют новые вехи в изучении сложнейших явлений мирового литературного процесса. Так расцениваются, например, советской наукой знаменитая речь «Достоевский как художник и мыслитель», произнесенная Луначарским в 1921 году, целые циклы статей и речей о Гете, Гельдерлине, Анатоле Франсе, Горьком, Маяковском. Его «История западноевропейской литературы в ее важнейших моментах» не только противостояла бытовавшим тогда в науке формалистическим, компаративистским, культурно–историческим концепциям. Переадресовывая самому Луначарскому его же слова, сказанные по другому поводу, можно характеризовать эту его книгу как попытку с помощью марксистской мысли овладеть зарубежной литературой в целом.
Опрокидывая формалистические, компаративистские, вульгарно–социологические взгляды, Луначарский показывает в серии блестящих статей и речей, относящихся к 20–м годам, что подлинное величие и своеобразие русской классической литературы — в беспощадном реализме, глубочайшей народности, остром социальном критицизме, обусловленных теснейшей связью ее с освободительной борьбой русского народа, а также беспредельной озабоченностью русских писателей судьбами простых людей, судьбами своей страны, жаждой свободы и счастья для каждого человека. По мнению Луначарского, русская литература «ближе подходила к общественным потребностям, чем литература какой бы то ни было другой страны…». С этим непосредственно связаны отличающие ее необычайная сила протеста против самодержавно–крепостнического строя, «глубочайшая ненависть к врагам», выливавшаяся в «страшную революционную анафему против старой России». Говоря о Пушкине, Луначарский отмечал:
«Если сравнить этого корифея нашей замечательной литературы с другими зачинателями великих литератур, с бесценными гениями: Шекспиром, Гете, Данте и т. д., то невольно останавливаешься перед некоторым абсолютным своеобразием Пушкина, притом своеобразием неожиданным».
Не все «узлы» в широких историко–литературных построениях Луначарского выдержали напор времени; рассыпались, как он выразился бы сам, некоторые детальные части. В книгах и сборниках статей «Литературные силуэты», «Искусство и революция», «Театр и революция», «В мире музыки», «Критические этюды (русская литература)», «Этюды критические. Западноевропейская литература», «История западноевропейской литературы в ее важнейших моментах», «Театр сегодня», «Юбилеи» можно найти немало устаревших формулировок, поспешных заключений, полемических заострений, неоправдавшихся прогнозов и просто ошибочных положений. Разумеется, нельзя согласиться со схематическим, прямолинейным применением Луначарским ленинского положения о двух путях возможного развития капитализма в России к русскому литературному процессу и соответственно разделением всех деятелей искусства на сторонников либо «прусского», либо «американского» путей развития. В некоторых работах 1920–х годов проявляется влияние плехановского положения о так называемом социологическом эквиваленте, выведение мировоззрения и творчества художника из непосредственного влияния экономики. Это приводило к вмятинам вульгарного социологизма (в целом глубоко чуждого Луначарскому) в ряде его работ, относящихся но второй половине 1920–х — самому началу 1930–х годов. Так вопреки высказанному Луначарским в работах 1921–1923 годов правильному взгляду на Пушкина как на величайшего русского национального поэта, в котором «на самом деле просыпался не класс (хотя класс и наложил на него некоторую свою печать), а народ, нация, язык, историческая судьба», в статье «Лермонтов–революционер» (1926) появляется формула «Пушкин — представитель среднего дворянства», а в работе «Александр Сергеевич Пушкин» (1930) делается попытка установить непосредственно определяющее значение процесса «европеизации России», «роста торгового капитала» для творческой судьбы величайшего поэта, взглянуть на его позицию как на результат «глубокого поражения «беднеющей родовой аристократии, стародворянской части среднепомещичьей прослойки». Логическое развитие этого положения приводит Луначарского к ошибочной трактовке «Войны и мира» как «Илиады русского дворянства», к истолкованию «Анны Карениной» как якобы произведения апологетического в отношении дворянства, к взгляду на Блока как на последнего гениального поэта дворянства. При оценке явлений зарубежного искусства аналогичные «увлечения» сказались в работах Луначарского о Вольтере, Стендале, Бальзаке, Флобере, относящихся к концу 1920–х годов.
При всем том книги, сборники статей, доклады, речи, критические выступления Луначарского сыграли первостепенную роль в становлении новой, социалистической культуры.
Луначарскому приходилось одновременно и раскрывать истинные богатства, «союзные, полезные нам художественные силы в разных веках», и осмыслять их с высот революционного марксизма, и давать конкретное определение того значения, которое они имеют для строительства новой культуры, и, наконец, защищать их от нападок экстремистски настроенных «революционеров в искусстве». Отсюда — своеобразное соединение в большинстве его работ завидной популярности, яркой эмоциональности со смелостью, даже неожиданностью поворотов мысли и полемической заостренностью. Не может не бросаться в глаза и то, что значительное число его работ представляют собой либо доклады и речи, либо статьи, основанные на устных выступлениях в различных аудиториях. Может быть, и даже наверняка, они дают основание упрекать Луначарского в неточности многих формулировок, в чрезмерной свободе стиля, в том, что меткость наблюдений, блеск изложения не всегда сочетаются в них с необходимой глубиной, тщательностью анализа. Зато они доносят до нас жар великого времени, пронизанного острой классовой борьбой, дух неустанных исканий, ожесточенных споров о судьбах литературы и искусства на величайшем повороте истории. Мы как бы присутствуем при рождении того, что в наши дни стало могучей культурой нового мира.
Здесь нет необходимости подробно вспоминать о сумятице, царившей в первые годы Советской власти в представлениях многочисленных художественных групп и группочек о судьбах искусства в эпоху революции. Писатели, художники, критики, разорвавшие последние нити, связывавшие их с Россией, народом, твердили, что с революцией великое русское искусство кончилось, «у русской литературы одно только будущее: ее прошлое».11 С этим взглядом «неожиданно» смыкалась, как смыкаются крайности, «сверхреволюционная» по форме, капитулянтская по существу «теория» (подновленная Л. Троцким) о невозможности создания пролетарской культуры, прежде чем революция не победит во всем мире.
Две другие (в конечном счете тоже сходившиеся) крайности в решении вопроса о новой культуре представляли футуризм и Пролеткульт. «Взорвать, разрушить, стереть с лица земли старые художественные формы — как не мечтать об этом новому художнику, пролетарскому художнику, новому человеку»,12 — громогласно декларировали футуристы. «Расстреливай Растрелли!» — призывал их поэт. А на другом фланге не менее видный поэт и теоретик Пролеткульта грозился «во имя нашего Завтра» сжечь Рафаэля, растоптать «искусства цветы». В 1919 году в одном из выступлений сходную мысль высказал Н. Бухарин, говоря о «старых» театрах. Отрицая преемственность традиции, теоретики Пролеткультов утверждали, что новая культура может быть создана только силами инженеров, ученых, писателей, вышедших из среды рабочего класса и сохраняющих в области творчества полную независимость от всех других социальных сил, от жизни. Руководством Пролеткультов делалась попытка обособить их от Советской власти, от руководящего влияния со стороны Коммунистической партии.
Всем этим и подобным им «теориям» противостоял единственно верный, единственно плодотворный взгляд на пути развития новой культуры, выработанный нашей партией под руководством В. И. Ленина. Партия безоговорочно отбросила капитулянтские теории меньшевиков и троцкистов как хлам, заимствованный ими у европейских социал–реформистов. Она видела в социалистической революции силу, которая, спасая культуру от гибели, кладет начало невиданному ее расцвету. Формирование новой культуры на почве творческого осмысления и дальнейшего развития всех социалистических и демократических элементов в наследии прошлого идет и будет идти безостановочно. Исходя из этого, партия повела непримиримую борьбу со всевозможными попытками выдумывать особую пролетарскую культуру, создаваемую в замкнутых пролетарских организациях, с попытками отбросить, уничтожить старую культуру. Партия осуществляла руководство строительством новой культуры, с одинаковой решительностью пресекая и «автономистские» тенденции Пролеткульта и попытки отдельных литературных групп, вроде футуристов, говорить от ее имени.
Одним из самых талантливых проводников партийной линии в области культуры был Луначарский. Ему не приходилось менять взглядов. Еще до Октября он говорил о всевозрастающем тесном переплетении судеб человеческой культуры, искусства с судьбами революции. И как голос самой революции воспринял он слова В. И. Ленина о том, что революция открывает «двери перед таким общественным строем, который способен создать красоту, безмерно превосходящую все, о чем могли только мечтать в прошлом». Эти слова В. И. Ленин сказал ему, Луначарскому, через несколько дней после победы революции, в ответ на его «тяжелые переживания», вызванные известиями о гибели отдельных культурных ценностей в период вооруженного восстания в Москве. Луначарский запомнил слова Ленина, в них он черпал дополнительную силу для борьбы за новое, воинствующее, высокоидейное, глубоко партийное и народное, подлинно реалистическое искусство, помогающее революционной армии не только познавать, но и перестраивать мир.
Есть связь между словами, сказанными Лениным в первые годы революции Луначарскому, и знаменитым заявлением, которому Луначарский остался верен до конца своей жизни. «Я, — говорил он, — твердо уверен, что вершины, которые воздвигнет в области искусства социализм, превзойдут все, что создавалось до сих пор на земле». Аналогичная мысль неоднократно развивалась им применительно к литературе, музыке, театру, живописи. Крылатыми стали слова Луначарского: «Если революция может дать искусству душу, то искусство может дать революции ее уста».
Это убеждение неизменно дополнялось другим: новое искусство может возникнуть лишь на основе творческого усвоения всего ценного в искусстве предшествующих эпох. «Пролетариат, — говорил Луначарский, — может обновить человеческую культуру, но в глубокой связи и преемственности с достижениями прошлой культуры. И, быть может, самой верной является надежда на то, что тут мы будем иметь явление еще небывалое, не явление новых рождений, а Фаустовского возвращения к юности с новыми силами и новым будущим и со всей памятью о былом, не обременяющей, однако, душу».
Из всего только что сказанного отнюдь не следует, будто у Луначарского в советский период не было отдельных промахов и даже ошибок. Известна снисходительность, которую он проявлял к русским футуристам и потому, что они одними из первых приняли Октябрь, и потому, что с ними долгое время был связан Владимир Маяковский. В критической литературе достаточно полно освещен также памятный эпизод с Пролеткультами, когда Луначарский вопреки прямому указанию В. И. Ленина пресечь автономистские тенденции руководителей Пролеткульта произнес речь, средактированную, по его собственным словам, «довольно уклончиво и примирительно».
Нет нужды, ссылаясь на огромные заслуги Луначарского, закрывать глаза на его ошибки или преуменьшать их. Они связаны в значительной мере с интуитивистскими тенденциями, сказавшимися в дореволюционных работах критика и в ряде его выступлений после Октября, а также с влиянием на Луначарского ошибочных теорий западной социал–демократии, в частности пресловутой каутскианской «формулы поведения» пролетариата на первом этапе победившей революции: «величайший порядок и планомерность в производстве и полная анархия в области искусства». В статье «Свобода книги и революция» Луначарский назвал формулу Каутского совершенно правильной. Опираясь на нее, в январе 1924 года он говорил о необходимости «величайшей нейтральности» по отношению к борющимся художественным школам и направлениям, а полгода спустя, в предисловии к сборнику «Искусство и революция», снова повторил эту мысль, но на этот раз повторил ее со значительными оговорками и поправками. Здесь же он без всяких колебаний отверг принцип «laissez faire, laisses aller».13 «Конечно, — говорил он, — в переходную эпоху, в которую мы живем, государство не может быть равнодушным к искусству. Оно вынуждено частью отрицательно, частью положительно влиять на него… Революционеры подлинные, а не либеральные фразеры, никогда не отрицали того, что они, взяв власть в свои руки, не дадут свободы своему врагу».
Вот почему, несмотря на отмеченные ошибки и колебания Луначарского, защитники всякого рода своеволия в художественном творчестве, «сверхчеловеки», сторонники «абсолютной свободы слова» имели в его лице непримиримого и убежденного противника, нанесшего им много метких ударов, глубоких ран. Да и не были эти колебания настолько сильными, чтобы превратить его из революционера, проводника партийной политики в этакого либерала, якобы ведущего в строительстве новой культуры свою собственную линию, не совпадающую с линией партии. Не было и особой линии Луначарского, была единственная правильная линия партии, ее–то и вел с большей или меньшей последовательностью народный комиссар просвещения. Еще в 1925 году он говорил: «Те, которые делают мне высокую честь и думают, что есть какая–то политика Луначарского, просто не знают наших условий государственной деятельности. Я, конечно, вел ту линию, которая проверялась и находила себе опору в наших центральных государственных и партийных учреждениях. Это есть политика Советской власти. Иногда некоторые впадают в заблуждение и начинают плясать каннибальский танец вокруг этой политики, заявляя, что это сплошные ошибки и заблуждения. Предоставим окончательный суд истории, но я хочу, чтобы все знали, что, занимая такую позицию, они находятся в оппозиции по отношению к партийной линии и к советской культурной политике. Никогда с такой уверенностью, как сейчас, я не мог сказать, что она является совершенно правильной».
В другой раз Луначарский рассказал о своих «широких и глубоких беседах» с В. И. Лениным по важнейшим вопросам строительства новой культуры в целом, искусства и литературы в частности («К столетию Александрийского театра», «Ленин и литературоведение»). Мысли и замечания, высказанные основателем социалистического государства и составляющие важнейшие звенья ленинского учения о путях развития человеческой культуры в эпоху пролетарских революций, были восприняты наркомом просвещения как ориентиры на неизведанном пути великого созидания.
В дальнейшем Луначарский полностью преодолел колебания в вопросе о роли и значении ленинского принципа партийности литературы и искусства. В работе «Ленин и литературоведение», говоря о статье «Партийная организация и партийная литература», он подчеркнул: «Несмотря на то, что со времени написания этой статьи прошло больше четверти века, она до сего времени ни на йоту не потеряла своего глубочайшего значения. Более того, основной принцип партийности литературы, служащей делу социалистического переустройства мира, в настоящее время так же актуален, как и развернутая в статье жесточайшая критика буржуазной литературы, как и пламенная характеристика будущей социалистической литературы, служащей миллионам и десяткам миллионов трудящихся».
Цитируя в той же работе ленинские слова, сказанные в беседе с К. Цеткин, о праве каждого художника творить «свободно», «независимо ни от чего», Луначарский энергично выделил другое, имеющее основополагающий характер ленинское положение: «Но, понятно, мы коммунисты. Мы не должны стоять сложа руки и давать хаосу развиваться, куда хочешь. Мы должны вполне планомерно руководить этим процессом и формировать его результаты».
К этому и стремился Луначарский как народный комиссар просвещения и как литературный критик. В статье «Чем может быть А. П. Чехов для нас» он всесторонне охарактеризовал многочисленные ошибочные тенденции, которые приходилось преодолевать строителям новой культуры, новой литературы в специфических условиях 1920–х годов. Сам он вел систематическую борьбу как против капитулянтства, так и против комчванства. Одновременно Луначарский предупреждал попытки отдельных художественных «школ» и «школок» провозгласить себя «государственными», так сказать, самочинно. Он принял деятельное участие в выработке известной резолюции «О политике партии в области художественной литературы» (1925).
Высказываясь за свободное соревнование различных литературных групп, Луначарский, как теоретик и художественный критик, неизменно боролся за воинствующее, жизнеутверждающее, партийное искусство, непосредственно связанное с борьбой миллионов советских людей за социализм, сплачивающее их, подымающее их, повышающее их веру в свои силы, доставляющее им настоящую радость. Полемизируя с ошибочной теорией о несовместимости искусства и борьбы, когда–то поддержанной В. Воровским, он утверждал: борьба не мешала быть поэтом Некрасову и не помешает никому другому, напротив, только она и может помочь искусству встать вровень с эпохой.
Исследования, статьи, доклады, речи Луначарского, посвященные творчеству художников прошлого и современности, в большинстве своем строятся как развернутый ответ на вопрос: чем они нас обогащают, чему учат? Один из таких выводов — лейтмотивов, проходящий чуть ли не через все выступления, заслуживает особенно пристального внимания.
Статья «Пушкин и Некрасов» (1921) заканчивается словами: «Поэзия не может не быть поэзией своего времени и должна быть ею. Но тот, кто выражает черты своего времени, роднящие его с будущим, оказывается бессмертным». Высмеивая писателей, пренебрежительно относящихся к современности, высокомерно заявляющих, что они могут писать только для вечности, Луначарский говорил в докладе о Грибоедове (1929): «Вы знаете, что Аристофан писал агитки. Ни в малейшей степени Аристофану не казалось, что он должен писать крупные художественные комедии, претендующие на вечность. Он писал нечто вроде нынешних «ревю»… Все было рассчитано на злободневность. Но Аристофан живет и еще, вероятно, долго проживет… Как это случается? Если человек заранее обдумывает художественное произведение, которое должно жить века, мудро думает над тем, кто будет читать, какой будет зритель через 100–500 лет, какие будут тогда вкусы, как бы тогда не показаться скучным, то такой автор обычно творит в духе Амура и Психеи: вечные герои, вечное небо, вечная женщина, и все применяет к своему сюжету, а на самом деле такое произведение скоро увядает. В мумифицированном виде, положенные в историческую банку с формалином, они иногда сохраняются, но они годны только для музея. Исход из действительности: где твоя рука легла, тут ответь на большую жизненную проблему, и тогда ты будешь настоящим современником. И если ты будешь настоящим современником, ты будешь жить и в веках». Наконец, в 1930 году, в статье о Пушкине заключенную в приведенных словах мысль Луначарский сжал в превосходный афоризм: «Кто был хорошим современником своей эпохи, тот имеет наибольшие шансы оказаться современником многих эпох будущего».
Думается, что в этих словах заключен и ответ на вопрос: почему при всей любви к великим памятникам мировой культуры преимущественное внимание Луначарского как искусствоведа и литературного критика все–таки было приковано к сегодняшнему дню?
Он пользуется каждой свободной минутой, чтобы внимательно следить за биением художественной мысли, не пропуская ни одного интересного произведения ни у нас, ни за рубежом, систематически выступает как литературный критик, публикует статьи, посвященные разработке важнейших эстетических проблем, принимает самое непосредственное участие в выработке методологических основ советского искусствоведения и художественной критики. Не было, кажется, сколько–нибудь значительного литературного сражения в 1920–х — начале 1930–х годов, в котором бы не участвовал Луначарский. Общеизвестна также его роль в разгроме формалистической и вульгарно–социологической школ, его критика так называемой «плехановской ортодоксии»… Особенно упорно преследовал он «ультрасовременные изыски» формализма, рассматривая его как «порождение поздней зрелости или ранней перезрелости буржуазии». Изгонять из литературы содержание, говорил он, — значит лишать ее души. «Человек, который думает, что сочетание красок и линий представляет ценность само по себе, это недоросль, которому и в самые новые мехи влить нечего, или полумертвый человек, который носится с формами, потому что уже пережил и утратил свое внутреннее содержание».
На литературном фоне своей эпохи эстетические и литературно–критические работы Луначарского отличаются синтетическим характером, умением автора «сквозь искусство прощупать как можно глубже эволюцию общества в его прошлом и нынешнем состоянии» и составляют неотъемлемую часть марксистского искусствоведения. Так же, как статьи В. Воровского, М. Ольминского, С. Шаумяна, они отличаются боевым пафосом, четкостью классовых характеристик, глубоким проникновением в социальные истоки явлений искусства, раскрытием жизненной правды, связей с закономерностями развития действительности, наконец, верностью оценок их с точки зрения того, насколько они помогают строительству нового мира, формированию свободного человека. В отличие от Воровского и Ольминского, у которых почти нет специальных работ по теоретическим вопросам марксистского искусствоведения, Луначарский в этом отношении стоит ближе к Плеханову. Он с одинаковым увлечением занимается и разработкой больших общеэстетических проблем и конкретным анализом литературного процесса, художественной критикой. Последняя у него остается во всех звеньях научного анализа эстетической в полном смысле этого слова и носит ярко выраженный философский характер. При общей всем марксистским критикам публицистичной заостренности философско–эстетический момент занимает в литературной критике Луначарского такое же определяющее место, какое у Плеханова занимает момент философско–общественный, у Ольминского — социально–политический, у Воровского — социально–публицистический, а у Горького — социально–психологический.
В лучших своих работах Луначарский далек от того упрощенного взгляда на соотношение социального и эстетического начал в произведениях искусства, когда социальное связывается только с содержанием, а эстетическое — с формой его выражения. Он тонко улавливает и умеет блестяще выражать художественное своеобразие произведения, будь то роман, опера или скульптурная группа. Превосходный пример тому — его работы о Достоевском, Блоке, Маяковском. В курсе лекций по русской классической литературе, прочитанном в Коммунистическом университете имени Я. М. Свердлова, он лаконично, но убеждающе конкретно показал «лица необщье выражение» всех выдающихся писателей XIX столетия, своеобразие творческой манеры каждого из них. Это оказалось под силу ему потому, что, кроме тонкого эстетического чутья, он действительно воспринимал художественные произведения в неразрывной взаимосвязанности и взаимообусловленности их формы и содержания.
Конкретное знание истории всемирной литературы, марксистские принципы критического подхода к явлениям искусства, необычайно тонкое эстетическое чутье позволяли Луначарскому легко «отделять пшеницу от плевел» и почти безошибочно определять вклад, который делает каждый настоящий писатель в сокровищницу мировой культуры. В этом смысле чрезвычайно показательна история отношений Луначарского к Горькому. Его перу принадлежит серия превосходных работ об основоположнике литературы социалистического реализма.
В истории советской литературы было время, когда вопреки недвусмысленно выраженному мнению В. И. Ленина восторжествовал, казалось, взгляд на Горького как на «идеолога мелкого мещанства» или в лучшем случае идеологически неустойчивого, вечно колеблющегося «союзника» революции. В решении этого вопроса Луначарский тоже испытывал значительные колебания. Его дореволюционные работы о Горьком содержат немало очень спорных положений (тезис о ницшеанстве раннего Горького, недооценка повести «Мать», грубо ошибочная апология «Исповеди»). Колебания критика еще более усилились под влиянием ошибочной позиции, которую Горький занимал в первые годы Октября. По существу, они проявлялись в выступлениях Луначарского вплоть до 1928 года, когда Госиздатом был отвергнут первый вариант его предисловия к собранию сочинений великого пролетарского писателя. Вообще говоря, в спорной части предисловия не было ничего такого, что не встречалось бы в тот момент в статьях, скажем, В. Фриче, В. Переверзева, Д. Горбова, И. Нусинова. Однако в отличие от них Луначарский внимательно отнесся к критике, прозвучавшей в его адрес, снова обратился к творчеству писателя, к ленинским оценкам его, к восприятию этого творчества революционным пролетариатом и пересмотрел неверный взгляд на Горького, навязывавшийся народу представителями «вульгарно–социологической» критики, руководством РАПП. «Огромное, исключительное значение Горького заключается в том, — пишет теперь Луначарский, — что он является первым великим писателем пролетариата, что в нем этот класс, которому суждено, спасая себя, спасти все человечество, впервые осознает себя художественно, как он осознал себя философски и политически в Марксе, Энгельсе и Ленине». С этой высоты и рассматривается творчество Горького в последних работах Луначарского. Они увеличиваются обширной статьей «Самгин», остающейся до сих пор лучшей из всего, что написано о выдающемся произведении Горького «Жизнь Клима Самгина».
Раньше других Луначарский разглядел истинные достоинства «Чапаева» и «Мятежа» Д. Фурманова, оценив их более правильно, чем это сделал даже Горький. Ему принадлежит одно из первых определений новаторской сущности поэзии Маяковского, которому Луначарский помогал «окончательно вырасти из желтой кофты» и поэзию которого блестяще популяризировал. Он смело поставил «Железный поток» Серафимовича рядом с «Матерью» Горького, определил действительное место Д. Бедного в развитии новой литературы, предсказал блестящее будущее Л. Леонову.
По первой же книге «Тихого Дона» Луначарский охарактеризовал роман как «бесспорно глубоко художественное произведение», а «Поднятую целину» назвал романом мастерским: «Очень большое, сложное, полное противоречий и рвущееся вперед содержание одето здесь в прекрасную словесную, образную форму, которая нигде не отстает от этого содержания, нигде не урезывает, не обедняет его и которой вовсе не приходится заслонять собой какие–нибудь дыры или пробелы в этом содержании».
В сложнейшей литературной жизни послеоктябрьских лет Луначарский, так же как Горький, останавливал свой взгляд не столько на различных литературных группах, боровшихся за право считать только себя настоящими революционерами в искусстве, сколько на каждом талантливом писателе, художнике, музыканте, окружал его вниманием и тактично помогал ему правильно разобраться в новой действительности, укрепиться на позициях социалистического гуманизма. Выступления Луначарского, особенно в первое десятилетие Советской власти, играли в развитии советской культуры не меньшую роль, чем в последующие десять лет статьи и письма Горького.
Замечательную прозорливость проявил Луначарский при оценке творчества зарубежных мастеров культуры. Подчеркивая, что капитализм угрожает самому существованию искусства, толкает его в трясину декадентства, он неустанно разоблачал все формы проявления упадочничества в литературе, музыке, живописи, будь то футуризм, кубизм, дадаизм или «сюрреализм». Как безумие и шарлатанство квалифицировал он произведения «чистых формалистов», уподобляя многих из них мальчишкам, «с гиканьем бегущим впереди первого взвода и дурашливо передразнивающим настоящих солдат». И он зорко видел, вовремя поддерживал все прогрессивное, новое, жизнеспособное на Западе. Особенно внимательно следил он за развитием художников, становящихся на сторону социализма. Луначарский гордился тем, что был автором первой в русской критике статьи о Ромене Роллане. Он раньше других сообщил читающей России об «Огне» Барбюса. Его статья «Анри Барбюс. Из личных воспоминаний» имеет принципиальное методологическое значение для решения вопроса о судьбах новой литературы на Западе. Поучительно умение Луначарского рассматривать творчество таких писателей, как Б. Шоу, Г. Уэллс, Г. Гауптман, раскрывая всю их сложность, противоречивость, отдавая должное достоинствам, но не замалчивая недостатков и в то же время ведя борьбу за самих этих мастеров культуры как «блестящих союзников» в нашей борьбе против мировой реакции.
Основатель и бессменный руководитель Международного бюро связи пролетарской литературы, Луначарский много способствовал делу культурного общения передовой зарубежной интеллигенции с советским народом. По удачному выражению Р. Роллана, для Запада он «был всеми уважаемым послом советской мысли и искусства».
В «Тезисах о задачах марксистской критики» (1928) Луначарский утверждал: «В общем и целом критик–марксист, отнюдь не впадая в добродушие и попустительство, что было бы величайшим грехом с его стороны, должен быть априори доброжелательным. Его великой радостью должно быть найти положительное и показать его читателю во всей ценности. Другою для него целью должна быть его помощь — направить, предостеречь, и только в редких случаях может явиться надобность постараться убить негодное разящей стрелой смеха, или презрения, или раздавливающей критикой, могущей действительно просто уничтожить какую–нибудь раздувшуюся мнимую величину». Сам Луначарский никогда не отступал от этого принципа и в оценке литературных явлений не давал воли субъективным пристрастиям.
Вспоминается случай, рассказанный М. Кольцовым. В конце 1920 года в Доме печати состоялось обсуждение драматургии Луначарского. Докладчик П. Керженцев и выступавшие в прениях В. Маяковский, В. Шкловский подвергли пьесы Луначарского ожесточенной критике. Автор в течение четырех часов слушал своих оппонентов с величайшим вниманием, а в заключительной речи не оставил камня на камне от всех их построений. Сделал он это с таким блеском, что аудитория (в том числе и оппоненты) устроила ему триумф. Выйдя на улицу, Кольцов спросил Луначарского, что же у него осталось от дискуссии. Но тот сказал ему только: «Вы заметили, что Маяковский как–то грустен? Не знаете, что с ним такое?..» И озабоченно добавил: «Надо будет заехать к нему, подбодрить». В этом — весь Луначарский, революционер–созидатель, человек большого размаха, чуткий, заботливый наставник писателей.
Доброжелательство, за которое ратовал Луначарский, не имело ничего общего с идеологической «всеядностью» и «всепрощением». Солдаты революции, поставленные на идеологический фронт, призваны вести вечный бой: «…Мы находимся в сфере идейной борьбы. Отказаться от характера именно борьбы в деле нынешней литературы и ее оценки ни один последовательный и честный коммунист не может».
На огромные высоты поднялся Луначарский в годы Советской власти и как теоретик искусства. Никто из крупнейших умов XX века, кроме, разумеется, В. И. Ленина и М. Горького, не внес столь значительного вклада в разработку основ нового, социалистического реализма, какой внес Луначарский.
Наряду с всесторонним исследованием путей развития мировой литературы, театра, музыки, живописи, кино Луначарский изучает историю русской и зарубежной общеэстетической, литературно–теоретической и литературно–критической мысли, обобщает критическое наследие Пушкина, выступает с работами о Белинском, Добролюбове, Чернышевском. Самым тщательным образом анализируется им каждое высказывание об искусстве и литературе, принадлежащее классикам марксизма–ленинизма. Так рождаются его работы «Ленин и литературоведение» и «Маркс об искусстве». Они кладут конец бытовавшему до тех пор мнению, будто Маркс и Ленин не оставили основополагающих идей в области эстетики. Он указывает на решающее значение ленинской теории отражения для правильного понимания явлений исторического процесса, в их числе и явлений искусства.
Луначарский предпринимает фронтальное обследование марксистской критики, в особенности всех трудов одного из своих непосредственных учителей и самых блестящих оппонентов — Г. В. Плеханова — и выдающихся мастеров большевистской литературной критики — М. Ольминского и В. Воровского (что и запечатлено в соответствующих статьях), оттеняя все ценное в их работах, вступая в спор с тем, что считает неверным или дискуссионным. Он, например, не соглашается с плехановским положением, что изучение культурных явлений должно быть «чисто генетическим и беспримерно объективным». Луначарский противопоставляет этому взгляду ленинское отношение к культурному наследству.
Внимательно просматривает Луначарский также все, созданное в этой области им самим, просматривает и пересматривает. «За последние годы, — говорил он своему секретарю, — я пересмотрел свои эстетические и философские позиции и нашел много ошибочного, неправильного».14 Он делает все, чтобы избавиться от ошибок: освобождает свою эстетику от социологических упрощений, от элементов интуитивизма, проявляющегося в недооценке роли сознания и переоценке подсознательного в творческом процессе; коренным образом изменяется его взгляд на Ницше; по–новому осмысляется им и значение «биологического фактора» в художественном творчестве.
Как указывалось исследователями, повышенный интерес, который Луначарский снова стал проявлять в советские годы к изучению роли биологических факторов в искусстве, вызывался не только его полемикой против почти абсолютного игнорирования формалистами и вульгарными социологами личности художника, его биографии в творческом процессе, но и стремлением вырвать оружие у фрейдистов посредством материалистического истолкования действительной роли биологических моментов в истории искусства. Луначарский не успел довести начатое дело до конца. Работы его, относящиеся к этой проблеме (предисловие к «Смерти Эмпедокса» Гельдерлина, доклад «Социологические и патологические факторы в истории искусства» и др.), содержат немало спорного, а порой и принципиально неверного. Но что главная его мысль развивалась в указанном выше направлении, лучше всего подтверждается той страничкой, которую он отвел «Биологии» в работе «Ленин и литературоведение».
Приведя известные слова В. И. Ленина о том, из каких областей знания складывается теория познания и диалектика, Луначарский писал: «Довольно резкие отзывы Ленина (вслед за Энгельсом и Марксом) о попытках прямого перенесения биологических законов в область исследования социальных отношений нисколько не противоречат этому знаменательному перечню привходящих знаний. Марксистская социология «снимает» биологию, но горе тому, кто не поймет этого гегелевского выражения, которое сам Ленин тщательно истолковал: «Снять — это значит кончить, но так, что конченное сохраняется в высшем синтезе». Это значит, что биологические факторы больше не являются доминирующими в общественной жизни человека, но это не значит, что можно вовсе игнорировать строение и функции его организма, в том числе мозга, болезни и т. п. Все это приобретает новый характер, все это глубоко видоизменяется новыми социальными силами, но не исчезает».
Исследование мировой эстетической мысли не имело для Луначарского самодовлеющего значения. Он взялся за работу, имея в виду «построение социалистической эстетики». Обращение к прошлому должно было помочь открытию новых горизонтов в развитии советской эстетической теории.
И действительно, грандиозная работа, выполненная Луначарским как историком литературы, художественным критиком, исследователем литературно–критической мысли, привела его к постановке вопроса о новом качестве социалистической литературы, о новом художественном методе как закономерном результате эстетического развития человечества. Идеи, волновавшие его еще до Октября, теперь начинают складываться в стройную систему, основанную на прочном фундаменте критически осмысленного мирового художественного процесса.
Новая концепция рождается с большими мучениями. Вместе с другими советскими искусствоведами, эстетиками, литературными критиками Луначарский говорит о «диалектическом методе в искусстве», допускает известные упрощения, механическое перенесение в литературу философских категорий, без конца возвращается к вопросам, казалось бы, уже решенным, пересматривает и отбрасывает положения, которые еще недавно защищались им с большим жаром, — словом, принимает самое активное участие в коллективных поисках советскими писателями, художниками, критиками, искусствоведами определения творческих принципов, вырабатывавшихся в творческой практике мастеров социалистического искусства. Доклад о социалистическом реализме, сделанный в феврале 1933 года, и тогда же написанный ответ «Вместо заключительного слова», которое не было произнесено из–за болезни, — достойно увенчивают эстетические искания Луначарского и вместе с тем представляют собой блестящий синтез лучших достижений всей эстетической мысли на том этапе ее развития. Во многом они сохраняют свою ценность и в наши дни.
В своих обобщениях Луначарский исходит из ленинского принципа партийности искусства, развивая в соответствии с новыми историческими условиями основную мысль статьи «Партийная организация и партийная литература». Он говорит о том, что «мы все искусство целиной рассматриваем как громадной значительности отряд нашей армии социалистической борьбы и социалистического строительства». И так же, как в свое время Ленин, он с презрением отбрасывает рассуждения индивидуалистов о якобы ограничивающих тенденциях коллектива, класса, партии.
В соответствии с ленинским пониманием общественного назначения искусства Луначарский убедительно раскрывает особенности реализма нашего времени, реализма формирующего, активного, рассматривающего действительность не как статическое бытие, а как развитие: наши писатели — бойцы, разведчики–экспериментаторы, строители, полные революционной страсти, охватывающие действительность во всей совокупности ее сложного развития и поэтому показывающие мир в непрерывном движении, дающие художественные синтезы, а не «протоколы, художественные фотографии заднего двора нашей революции». «Представьте себе, — говорит Луначарский, — что строится дом, и когда он будет выстроен, это будет великолепный дворец. Но он еще не достроен, и вы нарисуете его в этом виде и скажете: «Вот ваш социализм — а крыши–то и нет». Вы будете, конечно, реалистом — вы скажете правду: но сразу бросается в глаза, что эта правда в самом деле неправда. Социалистическую правду может сказать только тот, кто понимает, какой строится дом, как строится, и кто понимает, что у него будет крыша. Человек, который не понимает развития, никогда правды не увидит, потому что правда — она не похожа на себя самое, она не сидит на месте, правда летит, правда есть развитие, правда есть конфликт, правда есть борьба, правда — это завтрашний день, и нужно ее видеть именно так, а кто не видит ее так, тот реалист буржуазный и поэтому пессимист, нытик и зачастую мошенник и фальсификатор…»
Социалистическому реализму не противостоят ни революционная романтика, ни прозрение картин грандиозного будущего. Не противопоказана ему также карикатура, сатира.
Защищая социалистический реализм как метод доминирующего направления в дальнейшем художественном развитии человечества, оговариваясь, что социалистический реализм «может быть, даже будет характеризовать собой формы искусства социалистического человечества, так сказать, окончательные, наиболее высокие формы подлинно человеческого искусства», Луначарский проводил и в докладе и в ряде других теоретических работ, а также конкретно демонстрировал в критических статьях мысль о том, что наш реализм не только предполагает многообразие творческих манер, стилей, жанров, но требует такого многообразия, что «многообразие стилей прямо–таки вытекает из него». В связи с этим задачу марксистской литературной критики он видел не в декларировании тезиса о единстве содержания и формы, а в умении конкретно показывать наличие или отсутствие такого единства.
Первые крупные успехи социалистического реализма в литературе, музыке, живописи позволили Луначарскому с гордостью говорить о том, что рабочий класс открыл перед искусством невиданные перспективы. Будущее рисовалось критику светлым, до краев наполненным произведениями искусства «более могучего, мужественного, знающего и правдивого, чем греческое, и в то же время не менее свежего и юного».
В заключение нельзя не напомнить о том, что на склоне жизни стареющий мастер социалистической культуры отдавал все больше сил борьбе за мир. Со всем пылом своей революционной натуры отдавался он этой деятельности. Глубоко символично, что именно этот строитель новой культуры в течение последних семи лет своей жизни в качестве члена и заместителя председателя советской делегации упорно добивался в Подготовительной комиссии к международной конференции по разоружению, а затем на заседаниях самой конференции в Женеве принятия советских предложений о полном или хотя бы частичном разоружении. «Война для нас — помеха, — говорил он. — Нам она не нужна. Нам нужно спокойствие. Нам нужно сосредоточить силы на нашем главном деле. Осуществляя его, мы будем завоевывать десятки и сотни миллионов трудящихся, которые, убедившись в правильности нашего пути, водворят на всей земле тот порядок, который мы считаем разумным».
Так мог говорить только истинный представитель культуры, строитель и защитник ее. Так говорил Луначарский — большой, разносторонне талантливый человек нового мира.
- Многим до сих пор памятна приветственная речь Луначарского на юбилее Академии наук СССР в 1925 году, которую он начал по–русски, продолжал по–немецки, по–французски, по–итальянски, по–английски и закончил по–латыни. С детства он свободно владел также украинским языком, а в последний год своей жизни, назначенный в качестве советского чрезвычайного и полномочного представителя (посла) в Мадрид, за короткое время сделал крупные успехи в овладении испанским языком. ↩
- В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 47, стр. 63. ↩
- Там же, стр. 116. ↩
- В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 18, стр. 10, ↩
- Там же, стр. 11 ↩
- В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 48, стр. 161. ↩
- Там же, стр. 100. ↩
- В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 12, стр. 105. ↩
- Сборник «Дооктябрьская «Правда» об искусстве и литературе», 1937, стр. 28. ↩
- «Новая заря», 1914, № 3, стр. 89. ↩
- «Дом искусств», 1921, № 1, стр. 45. ↩
- «Искусство коммуны», 1918, № 4. ↩
- Пусть все идет так, как идет (франц.). ↩
- «Театр и драматургия», 1933, кн. XII. ↩