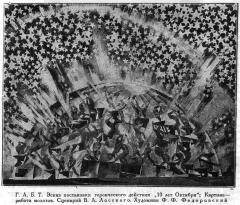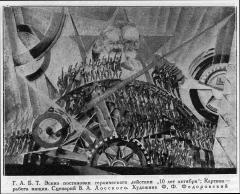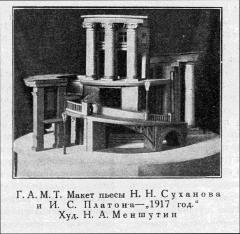Нужен ли нам вообще театр
В предреволюционную эпоху поднимался вопрос о кризисе театра. Буржуазные писатели, отражая настроение своей публики, заявляли, что театр умирает. Буржуазная публика пресытилась театральными зрелищами. Это явление развивалось параллельно с общим вырождением буржуазного класса на Западе и у нас. Дряхлеющая буржуазия перестала интересоваться серьезными вопросами общественной жизни, серьезными конфликтами, идеалами, борьбою и т. д.
В пору своей молодости буржуазия создала великий театр, но этот театр стал скучен для буржуазии зрелой, так как волновавшие его проблемы соответствовали буржуазно–революционным настроениям, от которых и следа не осталось в XX веке.
Новые пьесы, правда, писались; но они становились все мельче по темам; они бесконечно вращались вокруг полового вопроса, — брака, измены, разврата и т. д. — без конца показывали все это то через призму пафоса, то через жирный и пакостный смех. Вот что сделалось главной пищей буржуазии в области театра с конца XIX века. Но это тоже стало надоедать.
Потому-то специалисты, стремившиеся поднять театр не столько ради идейного содержания, сколько как отрасль промышленности и средство наживы, и начали насыщать его всякими трюками. Идейная и психологическая сторона театра быстро вымирали. Театр становился «чистым» зрелищем, переполнялся цирковыми и кино–эффектами, приближался к кафешантану, к цирку, и, таким образом, медленно умирал.
Надо отметить, что нечто подобное происходило и в области оперы.
Вслед за эпохой опер чисто вокальных и больших постановочных музыкальных мелодрам (Мейербер) последовали попытки углубления оперы, с одной стороны, в область как бы культурно–философского подхода и поднятие оперного театра до значения высоко–музыкальной драмы (Вагнер), и с другой — в сторону реализма, приближения оперной вампуки не только к формам реалистического драматического театра, но даже больше того — к повседневно окружающему нас быту.
По стопам Вагнера не пошел в Европе почти никто. Буржуазная публика оказалась не в силах создать и поддерживать высокую философскую музыкальную драму. Опера из реальной жизни, имевшая сначала большой успех, также не развилась, и последующие попытки показались всем скучными. Оперное творчество в Европе сейчас находится в тупике.
Русская интеллигенция развернула очень высокие формы оперы (Римский–Корсаков, Мусоргский) и драмы. Расцвет театрального творчества в России в общем совпадал с высоким революционным гребнем русской интеллигенции и отражал в общем народническое миросозерцание и настроение.
По мере того, как разночинная интеллигенция потеряла свой народнический дух и пошла более или менее на службу к буржуазии, творчество измельчало, почти сошло на нет. Театры повторяли зады перед скучающей публикой или придумывали бешеные трюки, доходя до того — в сущности говоря, циничного — построения теории театра, до которого дошел совершенно искренно и убежденно Таиров, т.–е. до заявления, что театру нет никакого дела ни до идеи, ни до чувства, что он представляет собой выставку актерского искусства, сводящегося, так сказать, к своеобразному сценическому акробатизму. Мучился в сетях этого кризиса и бросался из стороны в сторону и талантливый Мейерхольд.
Московский Художественный театр, вливший было новую кровь в жилы дряхлого буржуазного театра необыкновенной тщательностью постановки и игры, поднятием театрального искусства до степени какого–то торжественного служения, тоже уперся в противоречие.
Дело в том, что Художественный театр стал носителем идеи — «театр для театра при значительном равнодушии к тому социальному содержанию, которое вложено в те или другие пьесы. Театр был эклектичен; показывая только свое мастерство, он оставался либо глубоко равнодушным к изображаемому, с точки зрения его социальной значимости, либо весьма сочувственно и с волнением разыгрывал вещи, отражавшие, как в зеркале, общий распад и никчемность интеллигенции. Художественный театр не мог не пропитаться некоторым декадентством, потому что вся жизнь интеллигенции им пропитывалась, и большая часть драматического материала, которым театр должен был пользоваться (Чехов, Андреев, Гамсун, Ибсен и т. д.), представляла выражение все того же тоскливого бездорожья и внутреннего бескультурья при высокой культурности формы.
Если так обстояло даже с лучшим театром, то, естественно, возникал вопрос: не умирает ли театр вовсе? Может быть он не нужен? Не могут ли его вполне заменить кафе–шантаны и кино?
Ставить этот вопрос сейчас — совершенно бессмысленно. Мы имеем дело с новой публикой, которая почти не видала театра, которая должна его увидеть и переоценить его ценности. А среди этих ценностей есть великие вещи, созданные интеллигенцией в пору ее расцвета.
Еще важнее то, что эта новая наша публика вся преисполнена неисчерпаемым, никем еще в театральной форме не выраженным содержанием. Содержанием этим является как раз борьба за одни культурные и моральные начала против других. На почве этой борьбы происходит бесконечное количество сложнейших и тончайших конфликтов, коренное изменение психологии, — словом, создается небывало богатая почва для развития театра, который прежде всего есть форма искусства, наиболее подходящая для отражения борьбы.
Отсюда ясно не только то, что театр нам нужен, но и то, что мы, несомненно, будем иметь великий театр. И весь вопрос заключается только в том, когда наше взбаламученное море успокоится настолько, что в нем появятся кристаллы искусства, которые соберут воедино находящийся сейчас в растворе драматический материал.
Рядом с этим вопросом есть еще другой: когда удастся нам создать очень дешовый, почти бесплатный театр, который работал бы на общественные, государственные средства и мог бы обращаться непосредственно к новой, революционной публике, которая пока что не имеет еще средств для его оплаты? Последняя, экономическая часть вопроса, быть может, разрешится подъемом материального благосостояния страны, стало быть, и заработка трудящихся. Это привело бы к созданию театров глубоко пролетарских и крестьянских, хотя и опирающихся на кассу, на публику платящую, но в то же время чисто трудовую, пролетарскую.
Какой театр мы имеем
Театры, которые мы в настоящее время имеем, распадаются на несколько типов. Я остановлюсь только на самых главных из них.
Театры дореволюционною типа, классического склада
И западно–европейская, и наша русская культура за свое многовековое существование создали немало великих произведений, гениально отражающих жизнь и запросы тех или других эпох, наций и классов.
Конечно, так называемые классические шедевры, т.–е. те, что составляют гордость всякой национальной литературы, отнюдь не являются для нас, людей революции, безусловными ценностями. Иные шедевры могут оказаться развенчанными нашей критикой; наоборот, другие, может быть — полузабытые произведения, могут найти с нашей стороны высокую оценку.
Среди этих произведений есть и такие, величие которых заключается как раз в необычайно тонком и сильном выражении настроений и идеалов враждебных нам классов. Такие произведения могут быть нам интересны, но они, во всяком случае, нам чужды.
Наконец, даже наиболее приемлемые для нас произведения, созданные гениальными представителями различных революционных взлетов, нам предшествовавших, все же носят печать своей, а не нашей эпохи, и не могут нас полностью удовлетворить. Зачастую они включают в себя разные неприемлемые для нас примеси.
Тем не менее это наследие веков, в значительной степени просеянное вкусами целых поколений, представляет собой внушительную культурную силу, равнодушие к которой, как указывал на это и Владимир Ильич, было бы с нашей стороны преступным.
Вместе с тем и техника театра в вековых поисках нашла более или менее соответственные содержанию формы театрального изложения. Развилось, таким образом, более или менее определившее себя классическое сценическое искусство.
Оставляя пока в стороне оперу и балет и говоря только о драматических театрах, можно поставить перед собою вопрос: насколько ценными являются такие, оставленные нам дореволюционным обществом театры с их драматургией и с их актерским искусством?
Если бы мы допустили, что театры эти будут только повторять то, что они делали до революции, то и тогда нельзя усомниться ни на одну минуту в целесообразности их сохранения. При этом надо было только (как это и было сделано) вымести из этих театров всякий вздор, ибо театры эти в прошлом отнюдь не давали одни только шедевры драматургии, но и всякую макулатуру, нравившуюся буржуазии. Этот хлам надо было бы беспощадно вымести, театрам поручить исполнять только шедевры предшествующей культуры различных эпох и народов.
Если бы, повторяю я, театры исполняли только эту роль, то и тогда они были бы очень ценными, ибо они дали бы возможность пролетариату, учащейся молодежи, а затем и крестьянству ознакомиться со всем этим важным наследием, которое составляет чрезвычайно показательные, яркие и увлекательные элементы той допролетарской культуры, без усвоения которой, как учил нас тов Ленин, мы не можем продвинуться вперед. Но ничто не заставляет нас думать, что эти «старые» театры могут только повторять старые пьесы.
Приходится поставить и такой вопрос: подходит ли та манера игры, которую выработали так называемые классические театры (Малый, бывш. Александринский в Ленинграде, отчасти МХАТ, театр Комедии и т. д.), к исполнению новых революционных пьес?
Этот вопрос надо разделить на два. Первый: действительно ли могут отвечать потребностям масс те устойчивые формы игры, которые выработаны старым театром?
Я полагаю, что на этот вопрос надо ответить совершенно утвердительно. Как я не считаю, что всякая кувырколлегия с буквами лучше очень простой, хорошей, четкой печати, так не считаю я, что все выкрутасы, которыми театр старался возбудить к себе внимание своего охладевшего и жирного любовника — буржуа, сколько–нибудь улучшили то, что является главным в театре, а именно — выразительность.
В то время, когда буржуазия через интеллигенцию создавала драматические шедевры (великие произведения), она одновременно чрезвычайно интересовалась и наиболее яркой выразительностью их исполнения. Она хотела, чтобы актеры делали драму возможно понятной, живой. Она чутко и талантливо искала такие формы игры, которые производили бы наибольшее впечатление на публику, и, таким образом, дошла (в особенности в России) до так называемого художественного реализма с разными его оттенками.
Этот художественный реализм все менее и менее подходил к бесплотным и бесплодным потугам стареющей буржуазной драматургии. Он постепенно отстранялся, заслонялся всяким трюкизмом. Пьесы становились все менее содержательными, выдержанными, публика махала рукой на серьезное изображение жизни и требовала забавы, чего–нибудь пикантного, небывалого.
Отсюда ясно, что с возрождением реалистической драматургии, под влиянием колоссально возросшей содержательности новой жизни, театр должен будет вернуться к художественному реализму.
Лучшим доказательством этого является эволюция театра талантливого Мейерхольда. Самое лучшее, например, в «Мандате» — это необычайная правдивость некоторых фигур, чрезвычайная их типичность, несомненность того, что построены они на правильном и широком наблюдении жизни. Гулячкин, его мать, его прислуга стали незабываемыми типами. Они выдержаны, в сущности говоря, в строго реалистических тонах.
Вопрос о том, подходящи ли художественно–реалистические формы к ныне рождающейся и все растущей новой драматургии, должен быть разрешен утвердительно. Но возникает еще другой вопрос: может ли прежний актер вложить всю силу душевного волнения в изображении наших революционных переживаний?
Факты говорят за то, что старое актерство оказывает большей частью пассивное, но препорядочное сопротивление проникновению революционного пафоса на сцену, а подчас, и при лучших желаниях, оно оказывается не в состоянии понять величие, а вместе с тем и противоречия нового, чуждого для этого актерства, времени. То же, отчасти, относится и к режиссерам. Исправить это может, конечно, только время и, так сказать, революционное воспитание — и через органы власти, и через публику, и через театральную критику. Отнюдь нельзя считать безнадежными даже маститых режиссеров и артистов. Великим вихрем революции и они могут быть стянуты со своих старых позиций. Только важно не то, чтоб они занимались акробатизмом и бегали вверх и вниз по лестницам, а то, чтобы они ближе придвинулись к пониманию новых чувств, новых мыслей, нового темпа жизни. В особенности же важно, чтобы молодежь шла по правильному пути, чтобы она получила серьезную театральную школу, понимая, что важнейшей частью этой школы является именно понимание новой жизни. Как это ни кажется странным, но можно сказать, что марксизм, ленинизм — основные предметы преподавания в правильно поставленной театральной школе или студии.
Дореволюционные театры футуристическою уклона
Таким является, например, Камерный театр Таирова. Выросший на почве внутренней опустошенности драматургии и публики, он сделался театром внешнего, чисто показного искусства. В этом отношении, однако, он добился большой виртуозности. Правда, виртуозность эта была какая–то странная. В поисках нового, неожиданного, театр, как и все крайне левое искусство буржуазии, приобрел какие–то черты вымученного кривляния, нарочитого отхода от всякой естественности. Но за этими гримасами, тем не менее, чувствовалась большая актерская выучка.
Хотя театр казался прежде всего чисто эстетским проявлением поздней буржуазной культуры, советская власть не хотела убить его, и была права. Что спрашивает публика, то, в большинстве случаев, и дает художник. Талантливые художники очень часто отличаются крайней чуткостью к требованиям публики. В принципе в этом нет ничего плохого. Плохо это, конечно, когда публика требует нездорового искусства. Группа художников Камерного театра была чуткой к требованиям тогдашней публики. Спрашивается, будет ли она такой же чуткой к требованиям нынешней публики? В последнее время, во всяком случае, постановки этого театра и заявления Таирова свидетельствуют о том, что театр глубоко над этой проблемой задумался. Театр прямо заявляет, что хочет сделаться театром резкой и даже упрощенной социальной драмы и комедии. На этом пути возможны крупные достижения. Театр не должен непременно вращаться вокруг оси чистого реализма. Мы не требуем полного реализма от карикатуры, от плаката, и можем себе представить очень сильную комедию в форме безудержно карикатурного фарса, и очень сильную драму в приподнятой, условно–плакатной выразительности.
Пока еще мы не можем сказать, что даст Камерный театр, он только что начал свое дело. Тот чрезвычайный успех, которым он, в особенности во время второй своей поездки, пользовался у западно–европейской буржуазии, наводит на двойственную мысль. С одной стороны, конечно, очень хорошо, что именно из Советской России приезжает театр, который вызывает восхищение всей передовой части европейского общества; с другой стороны, — это может увлечь театр к обслуживанию разных групп и прослоек европейской буржуазии, к которой театр, в прежних своих достижениях, конечно, гораздо ближе, чем к наиболее дорогой нам публике — публике пролетарской, которая уже на добрую треть наполняет наши зрительные залы и в свое время сделается в них господствующим элементом.
Театр послереволюционный
Послереволюционные театры возникли, главным образом, трудом левых художников, в конце концов настроенных так же, как и Таиров. Только Камерный театр в течение довольно долгого времени не занимался прямым обслуживанием революции, другие же представители футуризма или полуфутуризма, которые не нашли себе признания в дореволюционном обществе и были более подвижны, более близки к пролетариату, довольно охотно пошли на обслуживание революции, хотя и без понимания ее. Читатель помнит наверное, в какой огромной мере футуристы–изобразители обслуживали наши празднества в первые годы после революции. Но еще очень спорным является, украшали ли они при этом наши площади и улицы или обезображивали их. Во всяком случае, искусство деформирующее, т.–е. искажающее действительные образы, или беспредметное, ни в какой степени не соответствовало жажде пролетариата поскорее выразить в монументальных образах свое новое содержание.
То же самое, конечно, произошло и в театре. Те трюки, которые придумывали разные фокусники, чтобы разжечь падающий интерес буржуазии к театру, широкой волной вторгнулись в новый театр, создаваемый левыми художниками. Для них революция в искусстве означала разрыв с искусством классическим и отплытие в море трюков и фокусов футуристического характера. Они воображали, что обновление театра выражается как раз в подмене серьезного театра теми курьезными зрелищами, которые диктовались последней фазой буржуазного развития. Усыновленные революцией, они продолжали делать то, что подсказывало им их чутье представителей нового поколения падающей буржуазии.
Самые искренние выразители интересов революционной публики порой попадались на подобную удочку и говорили: академические театры дают старье, это старье давалось и при буржуазии; революция обновляет жизнь — стало быть, революция должна обновить и театр.
Значит — долой всякий классицизм, да здравствует что–то новое — и, при этом, революционное!
В левых театрах имеется «что–то новое», какое–то стремление отвергнуть даже здравый смысл старого театра. К тому же со сцены левого театра слышатся лозунги, какие–то революционные слова. Значит, тут жизнь, а там — смерть.
На деле же и тут, и там была болезнь, которую надо было изжить. Как уже сказано выше, классический художественный реализм является наиболее подходящей формой для нового театра, но в эту новую подходящую форму надо было влить новое содержание. Это делалось туго, отчасти по вине самих театров. В левых же театрах было очень много искренних революционеров, но им надо было постепенно освободиться от своего фокусничанья и перейти к классическому реализму, хотя бы видоизмененному соответственно с новыми техническими достижениями и более энергичным темпом современной жизни.
Весь этот театральный мир надо было заботливо охранять и осторожно направлять к настоящей цели, ибо в области искусства никаким хирургическим путем и никакими декретами сделать ничего нельзя.
Надо было, чтобы появилась более густая поросль новой драматургии, надо было, чтобы революция выявила постепенно свое лицо и свои требования. (Сравни последнюю резолюцию ЦК партии о политике в литературе). Только тогда стали возможными настоящие большие достижения на сцене, свидетелями которых мы являемся.
Можно уже с уверенностью сказать, что Малый театр довольно смелой стопой вступил на новый путь обновленного революционного репертуара. Тоже относится почти ко всем старым театрам. Нельзя не приветствовать огромных успехов, достигнутых театром Мейерхольда (Мандат) и более скромных, но все же заметных достижений других революционных театров Москвы и Ленинграда.
Самодеятельный театр
Нельзя, конечно, не приветствовать развитие самодеятельного театра.
В начале революции любительство развернулось в городе и в деревне необычайно бурно; но, надо сказать, почти ни к чему хорошему оно не привело. Ставили либо старые «легкие» вещи, как раз наименее в культурном отношении ценные, либо наспех сколоченные революционные пьесы, которые можно было смотреть, пока они были горячи, но которые со временем остыли и превратились в нечто абсолютно несъедобное. Ставили, конечно, плохо, без всякого уменья, без всякого мастерства.
Естественно, что со временем эта волна самодеятельного театра пала, и, вероятно, в прежних формах не возродится. Да и не нужно этого. Почему, в самом деле, рабочие и крестьяне должны «любительствовать» на сцене? Те, кто имеет к этому призвание, могут устраивать, конечно, любительские кружки, никто этого им не запретит и, пока мы не имеем проникновения театра в медвежьи углы, даже и бледное отражение его в любительстве может явиться крайне полезным.
Но и только.
Театральное искусство очень трудно. Гораздо легче, например, устраивать любительские хоры или оркестры (которые, конечно, тоже не могут ни в каком случае вытеснить настоящую художественную музыку мастеров), чем театральные труппы.
Тем не менее, конечно, разговоры о том, что клубная сцена и есть тот театр, который нам нужен, явно неосновательны. Этот принцип привел бы к крайнему снижению культуры. Всякое дело требует мастерства, и всякое дело требует техники. Никто не решится сказать: можно закрыть фабрики и заводы и заменить их кустарной работой. То же относится и к театру. Во–первых, в театре выступают специалисты, т.–е. люди, добившиеся в театральном деле высокого мастерства, во–вторых, большой театр должен обладать великолепным сценическим оборудованием, которое дорого стоит, но обуславливает большой эффект спектакля.
Каждому свое. Клубная сцена не может быть забываема, надо уметь ценить ее и помогать ей развернуться. Но театр, который нам нужен — это, конечно, огромный театр, вмещающий в себя много тысяч зрителей, в котором, с помощью всей современной сценической техники, даются потрясающие публику смехом, восторгом или негодованием спектакли, заряженные всем современным социальным электричеством, нам нужен театр, пользующийся всеми приемами художественного реализма, т.–е. искусства, которое наблюдает окружающую действительность, суммирует, освещает ее, и в этом углубленном, необычайно эффектном виде опять дарит ее жизни, как элемент, содействующий ее уяснению и ее дальнейшему строительству.
В настоящее время самодеятельный театр приобрел характер клубных инсценировок. Это очень хорошо. Важно только, чтобы в клубах не ставились в гораздо худшем виде, чем в профессиональных театрах, те же театральные пьесы, а чтобы они пользовались инсценировкой, как особым, очень мощным голосом пропаганды. Это должен быть не суррогат театра, а живой плакат, живая газета. Здесь клубная театральная деятельность приобретает чрезвычайно важный характер. Не говоря о том, что она чрезвычайно занимательно и увлекательно передает публике определенный агитационный материал, она часто наталкивается на живые, в высшей степени современные театральные темы, актерские приемы, режиссерские подходы, и может служить поэтому как бы огромной лабораторией, в которой реально вырабатываются новые театральные формы. Кроме того, соприкосновение клубной сцены с массами необыкновенно широко. Поэтому, конечно, всемерная поддержка клубной театральной работы, забота о составлении хороших сборников, инсценировок, воспитание подходящих инструкторов, освещение их достижений прессой и т. д., и т. д. — все это, до крайности, очень и очень желательно.
Можно не сомневаться, что густыми рядами потянутся с клубной сцены проявившие себя выдающиеся дарования на сцену художественную.
Какой театр нам нужен?
Состоявшееся при ЦК ВКП(б) совещание по вопросам театра довольно глубоко копнуло и общие вопросы драматургического производства, сценического дела, клубной сцены и некоторые специальные задачи материального и административного характера. Тем, кто думал под флагом объективного академизма старых испытанных ценностей театра для себя (и для ищущей развлечения публики) отсидеться от революции и кто стремление советской власти сохранить превосходные театры — лучшие, быть может, в мире, собравшиеся под покровительством советского правительства, в группу академических театров, — хотел использовать для того, чтобы сопротивляться проникновению несимпатичной им живой стихии в эту область — совещание с резкой определенностью указало, что партия, а вместе с нею, конечно, и правительство, не только ждут, но будут требовать ускорения того, пока еще бледного прогресса нового общественного театра, который я выше отмечал.
Но и тем, кто проявлял суетливую торопливость, кто провозглашал сокрушение старых цепей и готов был на этом основании перебить вдребезги старые ценности, тем, кто не умеет оценить всей широты культуры и ее проблем, для кого искусство измеряется близостью к стопроцентной программности, узкой агитации, сказано было достаточно определенно, что старое искусство, высокие сценические достижения, широкая художественность, — остаются ценными в глазах партии, и что она прекрасно понимает, до какой степени могут начать вращаться в пустоте колеса агитации, если они не сумеют зацепиться своими зубцами за самые различные стороны человеческой природы, если они не сумеют облечь мир трактуемых данной пьесой проблем в художественную форму, которая, ведь, сводится именно к силе заражения масс вложенным в пьесу переживанием. Трудно измерить, насколько велика была правая (вне партии находящаяся) и левая (отчасти в некоторых партийных кругах свившая гнездо) — опасность, но, во всяком случае, отрадно, что и та, и другая, в значительнейшей мере, парализованы.
Говоря, в общем, о характере дальнейшего развития нашего театра, приходится, исходя из всего предыдущего, ставить два условия. Первое — настойчиво проводить, как главное русло театральной жизни, подлинно художественный общественный театр, откликающийся на злобу дня. В плоскости этой задачи надо не только обращаться к драматургам, чтобы они смело брались за подобные темы, но и к цензорам, и, отчасти, к критике, чтобы они не были в этом отношении слишком придирчивы или, я бы сказал, слишком запуганы. У нас словно все боятся друг друга и опасаются, как бы не проштрафиться по части какой–нибудь ошибки. На самом деле, ошибок у нас, и в произведениях драматургов, исполняющихся на сцене, и в действиях нашей цензуры и критики — сколько угодно. Но во всем существует какой–то зажим, какой–то затор, словно все еще не понята та мысль, что, не пропуская злостной контр–революционности, которую иногда, в слегка завуалированном виде, мы, по ошибке, даже пропускаем, следует дать широкую свободу трактовке злободневных вопросов драматургам–коммунистам и искренним попутчикам. В атмосфере такой свободы, ошибки будут на самом деле небольшие и будут не вреднее, чем имеющие нынче место. И драматургия, и театр будут расти, учась на этих ошибках. Тяжело слышать от драматургов, даже партийных, от партийных сценаристов кино, от работников коммунистов или испытанных попутчиков, поставленных во главе государственных учреждений, непрерывную жалобу на атмосферу нерешительности, с одной стороны, и придирчивости, с другой.
Рядом с этим существует и другое, тоже очень важное задание: не свести весь театр, без остатка, к злободневности. Нельзя сделать из театра исключительно учреждение пропаганды, хотя бы и художественной. Скажу точнее. Всякий театр, хочет он или не хочет, является учреждением пропаганды. Но пропаганда пропаганде рознь, не только по содержанию, но и по форме.
В чем была огромная сила литературы классиков? В чем огромная, развращающая сила современного буржуазного искусства? Разве в том, что в нем красной нитью проходит учительство, разве в том, что берутся за рога, ставятся ребром политические вопросы? Ничуть. Их сила заключается в том, что они берут человека со всех сторон, между прочим, и с самых слабых. Они подходят и со стороны его любознательности, и со стороны страшно могучих человеческих влечений личного характера: любви, честолюбия и т. д. Они предлагают, как–будто, чистейшие развлечения, несколько увлекательнейших часов смеха или авантюры и, часто для себя бессознательно и уже почти всегда для других незаметно, пропитывают все это своим общим духом: в иных случаях (как было с классиками) гуманным, в других случаях (как было с массовым буржуазным искусством) — тлетворным. Нужно учиться у них.
Да и учиться–то легко. Стоит только прекратить нелепое обуженное требование по отношению ко всякому художнику, обязательно, во что бы то ни стало быть злободневным и учительным. Что театр учительный и злободневный стоит выше всех других, что именно он легче всего становится «вечным», это мы знаем. Но следует ли из этого, что мы должны загонять в политическое и политико бытовое русло все наше искусство? Если мы это сделаем, мы не только не усилим наше воздействие на массы, а до чрезвычайности его ослабим. Поэтому в репертуаре театров не только могут быть, но должны быть пьесы и старых мастеров, и отражающие старую жизнь, и трактующие проблемы личного характера, и просто веселые, и просто авантюрные. Все это, в известном проценте, вполне возможно, и все это нужно суметь пронизать током той новой энергии, которая создана революцией. Если мы будем верны этим правилам, то мы получим театр широкий, многоцветный, в лучшем смысле слова свободный, и в то же время, в главной своей части, острый, современный, глубоко–нужный, подлинно участвующий в строительстве нового быта.
Из совещания по вопросам театра при Агитпропе ЦК партии мы выходим с известной согласованностью взглядов, с перспективами дальнейшего сближения разнородных линий нашего театра, с директивой, дающей твердую почву для практики постепенного строительства из реальных материалов, у нас имеющихся.
Надо сказать, что мы, конечно, вправе ждать дальнейшего продвижения театра по направлению к общественности в ближайшее время. Этого надо ждать не только в силу того, что соответственное приближение определилось уже в течение прошлых сезонов и не только потому, что оно получило толчок от партийного совещания, но и потому, что серия «Октябрьских» спектаклей должна резко способствовать повышению процента чисто общественных пьес репертуара.
Это довольно обильный букет пылающих красных роз, который театры хотят положить к ногам Октября. Может быть, хотелось бы большего, может быть, кое–где заметны пробелы, но все же обещают эти спектакли чрезвычайно много и даже невольно спрашиваешь себя, как одному человеку удастся просмотреть все интересное, заготовленное театрами для праздника.
По средствам режиссерским, актерским, которыми театр располагает, он обещает прекрасно обрамить этот широкий план. Наша публика — свежая и отзывчивая, не плохая даже в своей обывательской толще (по сравнению с европейской). В текущем году наша политика распределения билетов сильно улучшит ее социальный состав, что, конечно, также скажется на высоте того художественного пира, который заготовляют московские театры.
Огромное повышение энергии нашего творчества, беспредельная преданность общему делу, забота о сохранении нашего единства — вот то, что мы должны принести в дар десятилетию Октября.
Это не будет мирный праздник, во время которого, под сенью победоносных знамен, можно будет отдохнуть от трудов. История, отмечая все огромные достижения Октября за эти десять лет, вместе с тем оставляет еще под вопросом ближайшие судьбы великой борьбы.
Меньше, чем когда–нибудь, можно говорить об отдыхе, об ослаблении работы. Наступают новые критические времена, но памятуя, что именно мы, здесь, в СССР, являемся хранителями и носителями тех единственных ценностей, путниками и руководителями на техединственных путях, которые могут спасти человечество, — мы должны гордо, сознательно отдаться целям Октября.