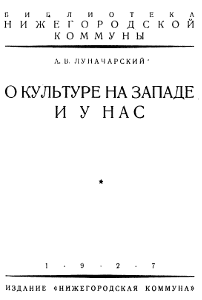По самому моему служебному положению я вынужден весьма тщательно и пристально следить за тем, что делается у нас в области нашей новой, послереволюционной, культуры. Конечно, в эти мои обязанности входит известное наблюдение за тем, как развивается культура за границей: во–первых, потому что мы должны заимствовать кое–что оттуда, во–вторых, очень интересно проводить параллель между тем, что делается на Западе и что происходит у нас. К тому же, я, меньше года тому назад, был за границей специально для того, чтобы присмотреться к ходу развития культуры там. Я имел возможность исследовать, в некоторой степени, эти явления, у меня были случаи говорить с крупнейшими представителями науки и искусства, по крайней мере, двух стран: германской и французской. Поэтому у меня накопилось известное количество наблюдений, выводов, которыми я и хочу с вами поделиться.
Мы питаем еще и сейчас огромнейшее уважение к западно–европейской культуре, мы совершенно определенно заявляем, согласно указаниям нашего учителя тов. Ленина, что мы считаем возможным построение нашей собственной социалистической пролетарской культуры только на фундаменте твердо усвоенной, критически воспринятой культуры западно–европейского человечества. Когда мне в Париже пришлось говорить с некоторыми молодыми коммунистами, группирующимися вокруг журнала «Кларте», то они стали говорить мне почти в тех же терминах, как говорил реакционный, довольно известный, немецкий философ Шпенглер, что западноевропейская культура умерла или при смерти, что она выдыхается, именно потому, что в основу положен интеллект–человеческий разум. «Все это», говорили молодые коммунисты, «приказало долго жить», «все это оказалось неверным». «Мы вас, русских большевиков, рассматриваем как передовой отряд Азии, который принесет нам новые культурные основы. Вы, говорят, приносите к нам интуицию, вы, говорят, приносите к нам инстинкт, такие силы, которые противоречат разуму, которые глубже и которые сильнее целостного разума. Поэтому долой все культурные приобретения, которые до сего времени были завоеваны в Европе, и да здравствует полнейшая реформа на почве новых жизненных начал»…
Я пришел в полнейший ужас от таких речей, я сказал, что мы не рассматриваем себя как азиатов, несущих угашенный огонь разума, а, наоборот, как передовой отряд Европы, который несет в Азию величайшие приобретения европейской культуры, только несет не вместе с опиумом, не для того, чтобы империалистически подавлять азиатскую часть человечества, а для того, чтобы призвать к братскому совместному с нами труду на началах той великой культуры, которая развилась в Европе.
Я отчасти понимаю, почему молодые французские коммунисты в такую ересь впали. И у нас до тех пор, пока Владимир Ильич грозный окрик в эту сторону не направил, было похоже на это блуждание умов у некоторых коммунистов, а в особенности у некоторых быстро к ним приспособившихся интеллигентов левого фронта и т. д.
Они любили говорить так: мы марксисты, мы считаем, что каждая культура есть классовая культура, культура Западной Европы есть культура буржуазного класса, мы его низвергаем, буржуазию мы от себя выгнали, а стало быть и культуру ее должны выгнать; у нас будет другая культура, культура пролетарского класса, она не будет похожа на старую, она будет во многом прямой противоположностью этой старой, — поэтому как можно меньше учиться у старой культуры и как можно больше высасывать культуру новую из своих собственных пальцев.
Владимир Ильич зарычал львиным рыком и заявил, что пока особенно не замышляйте насчет новой, самостоятельной культуры. Она выявится тогда, когда приспеет срок, а сейчас мы должны сказать, что правильное усвоение западно–европейской культуры плюс советская власть — это все, что нужно на ближайшее время.
Действительно, западно–европейская культура представляет собой громадную совокупность научных и художественных достижений, оторваться, отцепиться от которых — значит погрузиться на значительное время в варварство. И думать, чтобы наш далеко недостаточно культурный пролетариат смог в какие–то три дня разрушить храм западно–европейской культуры и в какие–то три дня создать свою собственную, — это есть чистейшая утопия и при том вредная утопия.
Но мы не должны вследствие этого сказать так: да, западно европейская культура есть гигантская ценность, и мы перед ней падаем ниц, воспринимаем все и все переносим к себе. Этого, конечно, быть не может. Конечно, эта культура находится под давлением буржуазии и приобрела поэтому известный искаженный вид. Конечно, наша культура должна соответствовать требованиям пролетариата. Владимир Ильич, когда говорил о необходимости усвоить старую европейскую культуру, всегда прибавлял маленькое словечко, мимо которого нельзя пройти, — «критически усвоить».
Мы стоим на той точке зрения, что сама культура носит классовый характер, но вследствие этого мы вовсе не думаем, что эта культура, которая строилась старым классом помещиков и капиталистов, лишена всякого значения для нас.
Что такое культура в данный век у данного народа? Вся совокупность решения вопросов об отношении к природе и взаимного отношения человечества друг к другу. Культура — это вся совокупность всех решений; как вырабатывается пища, одежда, как распределять результаты работы, как работать, как обороняться от внешнего врага, как устанавливать у себя порядок, как передавать из поколения в поколение традиции, т.–е. учить молодежь и т. д. И если мы представим себе какое–нибудь общество, которое нерационально решило эти вопросы, оно должно рухнуть, либо в силу внутренних противоречий, которые открылись, либо под ударом сильных врагов.
Когда господствующий класс в какой–нибудь Ассиро–Вавилонии или Египте, или в средние века во Франции, когда класс феодалов был в расцвете, он должен был разрешать все эти вопросы более или менее целесообразно, насколько позволяло тогдашнее уменье. Вот почему человеческая культура из века в век переходит от народа к народу, растет, повышается, ибо, как учит нас Маркс понимать о развитии общества: «известный класс, выдвинутый хозяйством в данное время в качестве руководителя, заботится о том, чтобы сделать свое государство сильным, чтобы извлечь из него максимум выгод, поэтому надо организовать работу более выгодно, продуктивно, получить более полезные из нее стороны; плохо будет заботиться, — он падет». Поэтому, господствующий класс, находящийся в расцвете сил, ведет общество вперед. Например, жрецы, феодалы, или ученые, как это было в буржуазном обществе, действительно, мобилизуют всевозможные знания и применяют их, чтобы сделать общество цветущим. Правда, они при этом огромное большинство человечества оставляют в нищете, эксплоатируют его, но это другая сторона дела, они заботятся о своей мощи, силе, им нужно иметь великую сильную армию, правильно поставленное хозяйство, производство всяких продуктов, кончая продуктами роскоши, поэтому культура должна идти вперед. Но получается, как учит нас Карл Маркс, внутреннее противоречие. Возьмем феодальный режим. Растут города, им феодалы сначала покровительствуют, ибо это торговцы, ремесленники, они способствуют росту данной державы. Но с ростом города становится яснее, важность городской промышленности, центр тяжести перемещается от деревни, возглавляемой помещиками, в город, возглавляемый капиталистами, и, по мере того, как растет промышленность, растет новое значение человека в природе, растут новые технические подходы к разрешению вопросов. Новый класс, руководящий новым городским промышленным трудом, становится все более могучим, начинает потрясать весь старый строй, получается революционная ситуация, борьба классов, и новый класс, низвергая старое, оставляя себе все подходящее, создает новое, что выросло при новых формах труда. Буржуазия, вместе с тем, — класс исключительной значительности. Если вы прочтете манифест коммунистической партии, написанный Марксом и Энгельсом, вы подумаете, что это настоящая восторженная серенада перед буржуазией: так там много сказано приятного, так там много сказано во славу буржуазии. И буржуазия в истории человечества была действительно классом глубочайшей значимости. Она против помещиков и попов поставила задачу — познавать из опыта природу, делать из этого познания технические выводы, развертывать на этой почве максимум производственных благ, построить на этих производственных благах широко мировую торговлю; мировой рынок — это ведь стержень буржуазного сознания.
И когда буржуазия была молода, мощна, сочна, революционно шла против господствующего класса и старалась привлечь к сотрудничеству с собой все народные массы, убеждая, что это в их интересах делается, тогда она развернула свое миросозерцание до предела. Она утверждала, вопреки поповству и полупоповству, что мир есть единое целое, что в нем все закономерно, что если узнать хорошенько материю и ее свойства, то можно путем экономики и научно–поставленного труда добыть из нее огромное количество благ, которое сделает всех счастливыми.
Обманула она человечество или нет? Наполовину только. Она развернула фабрично–заводскую промышленность, она проникла в недра земли, она избороздила материки железно–дорожными линиями, она создала новое человечество. При старых, до — буржуазных методах работы человечество в нынешнем своем количестве вообще не могло бы существовать. Но если она в этом смысле развернула познание природы до чрезвычайно высоких пределов, если буржуазия сделала исключительной важности технические выводы, если она силу нашу над природой, наши технические возможности довела до колоссального предела, то вместе с тем она обманула человечество, потому что всю эту технику и всю эту науку она оставила в своих руках, в руках небольшого меньшинства, и это небольшое меньшинство крупных капиталистов повернуло все достижения таким образом, что человечество в массе осталось почти таким же бедным, как в средневековье. Все выгоды этого нового порядка, все плоды науки и техники буржуазия сама поглотила, с одной стороны, для дальнейшего расширения своих предприятий и, вместе с тем, для своей безумной роскоши. Она сделалась паразитарным, чужеядным господствующим классом. И неизбежно должно было наступить время, когда она сама попала в противоречия с растущими новыми формами труда.
Какие это были формы? Это было все большее и большее обобществление труда, то, что производство переросло границы интересов данного хозяина, даже данной страны.
Посмотрим, как росла буржуазная наука — важнейший стержень культуры. Я буду говорить и об искусстве, но больше всего о науке. Буржуазная наука в духе тех идеалов, которые носились перед буржуазией, в духе практического изучения приводы для преодоления сил, для развития производственной мощи человека, об’явила единство природы, закономерность явлений природы, стала выгонять всякие призраки примыслов о потустороннем мире, начиная с бога и всех зависящих от него призраков. Встав на такую точку, она стала развивать в этом смысле свое миросозерцание.
Уже в 17‑м веке Декарт физическую вселенную рисовал, как закономерную массу, и доказывал, что в ней механические законы господствуют. Далее, были завоеваны громадные области химии, были выявлены индивидуальные свойства каждого вида материи и их взаимоотношения. Потом буржуазия вторглась в биологию и доказала, что если жизнь есть явление сложнее, чем явления физические и химические, тем не менее в принципе и она закономерна, ее нужно исследовать опытом, она в конце–концов может быть сведена на основные законы физики и химии, хотя усложненные, хотя получившие новый вид. Тут было увлечение слишком примитивным материализмом, но во всяком случае факт тот, что буржуазная наука, с Дарвином, которого Маркс считал непосредственным звеном, к которому должен примыкать марксизм, извлекла случайные тайны из области жизни, поставила вопрос принципиально так, что если мы не можем с научной точки зрения об’яснить все явления жизни экспериментально и естественно сейчас, то мы все же находимся на прекрасном пути. Стоит поработать несколько десятков лет и все будет ясно, надо только не выпускать из рук этого фонаря науки, который ярко осветил явления физические и химические. Буржуазия приняла сначала это без особой борьбы, но дальше пришел марксизм.
Что такое марксизм с точки зрения науки и культуры? Марксизм есть применение научных материалистических методов к изучению общества. А что такое человек? И что такое человек, как общественное животное? Что такое общество? Какой смысл истории человечества? Что значит чередование известных форм общества? Что значит сама буржуазия и ее капиталистический строй? Что ждет в будущем человека? Это все спрашивает буржуазия науку, как оракула. Скажи мне, что такое светила небесные, что такое минералы, растения, животные, и наука отвечала. А затем буржуазия спросила: «А что такое человеческое общество, его история, что такое я сама — буржуазия»? Наука ответила: «Ты буржуазия есть явление преходящее, ты создала капиталистический строй, который был прогрессивным, а теперь отмирает. Ты параллельно себе создала великий пролетарский класс. Он, только один он может взять в крепкие руки производительные силы, которые ты развила; он действительно поставит научно вопрос, как спланировать человеческие силы, чтобы все были счастливы». А пролетариат получит ответ такой: «Буржуазию надо устранить, взять все орудия производства самому пролетариату вместе со всем человечеством». Тут буржуазия заподозрила, что оракул врет. Вероятно, в глубине буржуазия была убеждена, что наука права, но она заставила ее замолчать. Был дан приказ гласный и негласный по всем академиям, высшим научным заведениям, по всем научным обществам, по всем журналам научным и прессе, которая всюду проникает, все отравляет, — замолчать о марксизме, отрицать марксизм, сказать, что он не научен.
А все профессора докажут, что буржуазный строй с живоглотом капиталом, с бедностью масс, с периодическими кризисами есть последний предел достижений, что он научен, что он правилен. Как же это можно доказать? Доказать можно только путем лжи.
И началось великое царство лжи в общественной науке. Наука общественная оказалась фальсифицированной. Я не хочу сказать, что каждый буржуазный ученый знает, что марксисты правы, но за хорошее жалованье утверждает, что они неправы. У человека это происходит не так. Человек — существо гибкое. Когда молодой ученый, который, может быть, в молодости «зашибал» марксизмом, зная, что если он будет говорить правду, сделается отщепенцем, ему кафедры не дадут, с семьей по миру пустят и т. д., а пролетариат класс слабый, дать ему обеспечение не может, то он подбирает такие истины, которые и утробе его не вредят. Это как бы известный гипноз. Вы знаете, если загипнотизировать человека и сказать, что когда ты проснешься, то у Ивана Ивановича головы не увидишь, то он проснется и не будет видеть головы у Ивана Ивановича. Таким гипнотизером постоянно," бесконечно сильно действующим является классовый интерес, а в данном случае — интерес мелко–буржуазных ученых, которые боятся войти в борьбу со своим хозяином. Крупная буржуазия толкает их на то, чтобы сам храм науки так построить, чтобы доказать неправильность марксизма. Но на этом дело не ограничивается. Марксизм есть прямой вывод из всей науки, это есть неот’емлемая часть науки и волей–неволей, если вы хотите отрицать марксизм, то надо отрицать и многое в самой науке, и буржуазия готова была бы откинуть всю науку и погрузиться в бездну средневекового мрака, признать какие угодно суеверья, чтобы только не признать марксизм. Но она не может полностью откинуть науку — нельзя отрицать математику, механику, химию, из них делаются выводы на фабриках и заводах, а буржуазия на этом богатеет. Она поэтому точные науки и технику вынуждена оставлять и оберегать, но фальсифицировать все науки опознавательные, напр., теорию познания. Когда буржуазные ученые переходят к настоящему миросозерцанию, они начинают кривить душой, не делают тех выводов из науки, которые следует сделать, они мучатся с идеями бесконечности, вечности, строят всякие софизмы и так намутили в конце–концов, что иной робкий ум скажет — не наше это дело, мы мелочь человеческая, никак не можем дела рук господних познать, тут неисповедимое провидение и никогда свет нашего разума эту вечность и бесконечность не осветит. А в особенности в области биологии, т. е. науки о жизни, которая подходит ближайшим образом уже к социологии, к вопросу, которым занимается марксизм, тут, разумеется, буржуазная научная армия вся работает над тем, чтобы, пользуясь тем, что там не все еще ясно, доказать, что здесь силы таинственные, силы, которые свидетельствуют о наличии провидения в природе, и весь витализм сводится к тому, чтобы признать рядом с материей неисповедимый дух, который нельзя научным образом изучить. Для чего это делается? Все это делается для того, чтобы в самом корне миросозерцание сделать выгодным для себя.
Пролетарий говорит: «Правильно ты, буржуазия, сказала — мир един, в этом мире труд может воцариться, сделать фундамент нашего счастья, и счастье это одно только то, которым можно пользоваться от колыбели до гробовой доски, никаких потусторонних миров нет, нужно надеяться на себя, развертывать планомерно нашу научную работу, чтобы добиться максимальных результатов, а поэтому, буржуазия, я подхожу к тому: научно ли построено наше общество, не хаотично ли, не убыточно ли оно».
Это буржуазии не нравится. Она хочет сказать вместе с попами: «Да что такое человеческая жизнь: 70–80 лет», а если намекнуть, что есть бессмертная душа, получится совсем другое. Нужно не на этом свете устраивать счастье, а нужно подумать о душе, какова будет жизнь души после смерти. Об этом вам расскажут попы и философы, расскажут всякие турусы на колесах. И пролетарий, который позволяет на себе всю жизнь воду возить, он будет самым умным и получит зарплату в несколько раз больше на том свете.
Таким образом буржуазия сфальсифицировала науку. Она правильно сначала ее разворачивала, и мы должны взять из ее рук эту науку до того момента, когда буржуазия ее сфальсифицировала.
Я не оспариваю, что среди ученых, там, где их буржуазия не очень жмет, есть честные ученые, т.–е. в области химии, математики, физики, и где они дают продукты, которые им очень полезны. В области же биологии, обществоведения — там надо иметь большое гражданское мужество, чтобы говорить правду. После войны буржуазия так стала нажимать на науку, что только герои могут остаться верными себе. Поэтому мы здесь, в большинстве случаев, имеем дело с подделкой, и мы должны ее осторожно рассмотреть.
Что мы наблюдаем в Европе, когда ездим исследовать явления там. Буржуазия стала к науке вообще равнодушной. Это показывает, что она приходит в состояние отупения, некоторой оголтелости, она до такой степени боится, что пролетариат может встать против нее, она стала побаиваться науки, она видит в ней марксистские начала, которые будят критическую мысль, освещают темные головы, она проскальзывает к пролетариату — «подозрительная кумушка». Но поскольку она на фабриках и заводах работает, нужно поддерживать ее, но осторожно. Буржуазия стала холодновата по отношению к науке. Она говорит: «Поп стал мне мил. Когда была молода, он был не нужен, стара стала, — он понадобился. Надо, чтобы он меня успокоил, чтобы мое оголтелое житие на том свете устроил, а главное, для чужого потребления: внушать пролетариату и крестьянству идеи христианского терпения». «Христос терпел — и мы должны». А ученый человек спорит с попом, доказывает глупость, которая написана в библии и евангелии в стародавние времена. С ним неудобно иметь дело. Кроме того, буржуазия готовится к всемирной бойне, тратя гигантские деньги, когда Европа вся изранена и обеднела, она тратит гигантские деньги на вооружение и у нее мало остается на науку. Поэтому почти во всех странах Европы материальное положение ученых и научной работы падает. В Германии, в период большой нужды, когда страна страдала от последствий войны, организовался «Нотгемейншафт», т.–е. общество нужды, в которое вошли все ученые Германии для того, чтобы путем устройства лекций и всякой взаимопомощи дать возможность научно работать, ибо правительство не могло помогать. Надо сказать, что в Германии это общество существует и сейчас. Но Германия сравнительно в этом отношении здоровая страна, там все от мала до велика, от министра и банкира до пролетария рассуждают так:
«Ограбили нас, унизили нас, будущее наше покроют тяжелыми тучами и единственный для нас выход — труд и наука».
Поэтому сейчас Германия так быстро восстанавливается. Вы нигде не найдете такого упорного труда, усилий и такой растущей оценки науки, как в Германии. Она только–только отдышалась от такой мертвой схватки, от такой мертвой петли, в которую ее загнали и ей еще грозят громадные бедствия. Неизвестно, сможет ли Германия спастись при дауэсовских обязательствах. Но она из всех сил развивает свой научно–организованный труд, и в этом отношении внушает известное уважение.
Мы, конечно, были бы рады, если бы она вместе со всем этим поняла, что на пути капиталистическом даже самый усердный, научно–поставленный труд не сулит выздоровление и не даст возможности германскому народу, во всей его массе, достигнуть благосостояния. Если бы к этому научно–поставленному труду и трудолюбию присоединился коммунизм, тогда это была бы непобедимо сильная страна.
Когда в Германии некоторые прогрессивные люди говорили, что бы это было, если бы Союз Сов. Соц. Республик, с одной стороны, докатился до Рейна, а с другой — до Тихого океана — вот была бы хорошая штука. Я отвечал, что это было бы действительно не плохо, действительно, это была бы хорошая штука: с немцами — в качестве передового отряда, с китайцами и индусами — в качестве тыла — мы бы представляли собой такой мир, перед которым вся старая Европа и Америка должны были бы спасовать.
В Германии имеются, кроме наших братьев–коммунистов, значительные силы в самых различных слоях, которые, хотя и боятся коммунизма, однако, стоят за такой европо–азиатский союз — союз славянства Германии и азиатских народов для сопротивления империалистам Запада.
Правда, в последнее время эта партия, это течение начинает ослабевать. Германию тянет в значительной мере на запад, но так как она боится, что м. б., играя на запад и войдя в комбинацию Лиги Наций, она будет проглочена акулами, она забрасывает и крепит свои якоря и у нас, играет двуличную игру, чтобы суметь импонировать и восточному союзу. От этого очень сложная, интересная, не только политическая, но и культурная игра ведется с нами в Германии. Поэтому мы встречаем в Германии довольно благоприятную почву для наших идей… Когда мы приезжаем в Германию, мы чувствуем окружение если не друзей, то, во всяком случае, благожелательно относящихся к нам людей.
Во Франции дело обстоит гораздо хуже: во–первых, Франция–победительница, наглотавшаяся новых земель, ограбившая до костей Германию, тем не менее колоссально беднеет.
Когда, мне, например, такой человек, как историк Олар — мировой историк — говорил: «Мои сбережения обратились в черепки, а на мое жалованье я могу только завтракать, а обедать не могу», тогда вы оцените, что представляет из себя этот ученый. Или, как мне говорил Раковский: крупный ученый дает за свое пальто франк и просит 50 сантимов сдачи. Вот обиход полушничества, в который капиталисты погрузили своих научных деятелей.
Вместе с тем эти же капиталисты одним взмахом ассигновали несколько десятков миллионов франков дополнительно на подводное военное строительство и отказали министру народного просвещения от спасения научных учреждений от замерзания, т.–е. отказались дать средства на топливо, то, с чем мы боролись в 18–19 г.г. Когда министр заявил, что на отпущенную сумму на обучение не сумеют отопляться, ему все равно отказали. Вот картина чисто материального оскудения французской научной жизни. Они так срезали средства на народное образование, что есть и более тяжелые картины.
Госплан назвал меня пессимистом, когда я сказал, что в семь лет окончим всеобщее образование, он говорит — «гораздо раньше», но он ошибся, он не принимает во внимание школьного строительства, он думает, что мы можем при нашем климате обучать детей под открытым небом, но я думаю, что в семь лет сумеем выполнить эту задачу, т. к. у нас из года в год это дело растет.
А Франция, которая до войны не имела ни одного неграмотного рекрута, в этом году имеет 14% абсолютно неграмотных рекрутов. Она ползет по направлению к безграмотности. Но этого еще мало, это чисто техническое проявление, а вот посмотрим, как обстоит дело в отношении самого «духа», которым так обуреваема сейчас Франция. Количество газет католических растет из года в год. Газета, так называемая «Распятие», приобрела миллион подписчиков. Фашистские и монархистские круги ведут неустанную пропаганду, главным образом, среди интеллигенции, разводят самые худшие суеверия. И вы можете видеть множество серьезнейших людей, которые раздумывают о чорте, о том, как с ним бороться, и т. д.
В Англии тоже имеется и общее понижение культурного уровня и оскудение средств.
Вот, т.т., не говорю уже об Италии, о Муссолини, который ввел закон божий во всех школах, ученых поставил под надзор полиции, чтобы они не брехали о таких вещах, которые могли бы помешать заключить союз с папой, и один итальянский ученый заявил определенно, что ученому в Италии жить больше нельзя.
Вот общая постановка вопроса науки там, в Европе. Есть очень много и честных ученых. В той же самой Франции я нашел целый ряд ученых, например, Мазон, который сейчас у нас гостит в Москве, это честные крупнейшие ученые, но они обескуражены всем происходящим. И когда этот Мазон приехал к нам, чтобы заключить союз между французской и русской наукой, он сказал, что это не потому надо нам, что у нас наука дала много интересного, но надо нам как–то сплотиться, чтобы организовать всемирное сопротивление реакции.
Мне случалось на больших собраниях, где были не коммунисты вовсе, но хорошие передовые люди, писатели с известными именами, беседовать с ними, я спрашивал: почему вы не сплотитесь все вместе, почему не создадите союз, издательство, журнал, газету, в котором бы вы — честные передовые люди, не греша непременно коммунизмом, я знаю, что вы не коммунисты, но во имя человеческого прогресса, во имя подлинной науки, оказали бы отпор этой реакции. Да, говорят они, — это было бы очень хорошо — может быть вы возьмете на себя организовать это? И не шутя, а на самом деле! Обескураженные опускают они руки, не знают, как помочь себе, сбиты с толку этим наступлением мрака и тьмы. Так обстоит в области науки.
Коснусь области искусства. В Европе имеется известное количество художников старого искусства, но они не играют большой роли в общественной жизни. Вы понимаете, что традиции повторения хотя бы хорошего, но старого, серьезной роли в культуре не играют. Играют роль те художники, которые отзываются на современность. Эти новые школы искусства по всем странам Европы могут быть в общем разбиты на три струи, на три больших течения. В одной стране преобладает одно, в другой — другое. Первое, самое опасное, самое ужасное, которое стремится проникнуть отчасти к нам, которое можно назвать именем наиболее выразительным — французская школа дадаизма. Школа представляет собой нечто грозное и очень могучее. Не только художники увлекаются дадаизмом, а и чрезвычайно широкие круги. Дадаисты говорят так: искусство должно быть чепухой во что бы то ни стало, искусство, которое связано с интеллектом, с мыслью, с логикой, искусство, которое связано с социальным вопросом или философским вопросом, — это скучнейшая галиматья.
Такого искусства мы не желаем. Искусство должно только развлекать, поэтому нужно всячески заботиться, чтобы не было логики, не было смысла, чтобы в нем отражалась вполне безнадежная, бессодержательная ерунда, но так здорово изображенная, с таким перцем, чтобы вы, при виде ее, невольно расхохотались, задравши ноги. Вот если так художник может подействовать, чтобы вам было смешно, и вы сами не знаете — отчего, (просто оттого, что глупо), вот тогда вы великий художник. Создать такое произведение искусства, которое на время лишало бы человека мозгов, — это есть подлинная задача художника.
Это я передаю, приблизительно, в тех же выражениях, как говорят они. Искусство должно быть заумным, внеумным, неинтеллектуальным, должно так соединять образы, краски, звуки и линии, чтобы выходил ошеломляющий шум, у человека оставалось бы одно бессознательное, неведомо откуда идущее идиотское веселье. Поэтому можно отдохнуть от империалистического переливания крови и всякой эксплоатации как эксплоататору, так и жертве эксплоатации. Что же они в результате могут выжать из жизни, кроме приговора для себя, кроме своей опасности, кроме сознания того, что они морально не оправданы, что у них нет жизненных идеалов.
А мелкая буржуазия, — она, учитывая свою слабость и растерянность, то, что она трещит под гнетом крупной буржуазии, и то, что она боится коммунизма, потому что разбросана и превращена в песок, вообще боится всякой организации, она тоже ищет развлечения. Мысль работает только тогда, когда человек в канцелярии, на службе высчитывает, пока это нужно для того, чтобы заработать франк или доллар, но нужно отдохнуть, а искусство дает отдохновение, отсюда колоссальный разлив этого бессодержательного искусства. Идете ли вы на какую–нибудь выставку, вы видите бесконечное количество красочных соединений, всякого высовывания языка, дразнящих фокусов и всякой дерзости по отношению к публике. Даже футуристы и кубисты, у которых была все–таки какая–то идея, — в основе лежала религия движения или формы, уже давно об’являются академиками, на которых поплевывают, как на старье. Нет никакой теории, а только выходка. Их обычное развлечение — театры совершенно забыты, загнаны, кино приняло бессмысленные, развратнейшие формы, развлечение, главным образом, находят в шантанах, в мюзик–холлах и ревю. Я помню раньше, когда я был в Париже, они и тогда играли крупную роль. Они и тогда были с крупной солью, в них было мало приличного, но тем не менее они были остроумными, а сейчас ни головы, ни хвоста. Полный сумбур. Огромное количество кричащих красок, позолоты, мишуры, голых женщин, один перед другим козыряют тем, что один выпустил 200 голых женщин, другой 400, а третий сразу тысячу. Публика ломится в эти мюзик–холлы, смеется бессмысленным остротам, вместе с тем это до такой степени дикарски низко, что стоит пойти в такое ревю один раз в Берлине и Париже (а Берлин подражает Парижу), чтобы видеть — до какого уровня упала публика. И это то, чем питается большая публика. В отелях, где только есть большое зало, доминирует злополучный фокстрот. Сидят два огромных оркестра и взапуски то один, то другой наигрывают. Публика танцует от старых до малых, от гимназиста до старого облысевшего банкира. Всякие розмахи, которым бы следовало не показывать себя, чтобы не пугать людей, они тут, тут кокотки и молодежь, и все это по знаку дирижера прижимается друг к другу и начинается неприличное топание фокстрота.
Ни у кого даже улыбки на устах нет, никому не весело. Кажется, все месят тесто или топчут виноград; какой–то каррикатурный труд; потом прекращается концерт, опять оркестр, и с мертвыми лицами опять сходятся, точно их чорт дергает. Новые танцы и соответствующая им новая музыка с ее мертвым машинным ритмом, с отсутствием человечности, берутся у диких народов — у негров. У самих негров это все–таки полно жизни и темперамента, а тут это охолащивается в фокстрот, который заполз в Германию, ползет к нам, и комсомольцы спрашивают на моих докладах: «а танцевать можно?». Я говорю — можно. «И фокстрот можно?» Я говорю — не следует, зачем вам обезьяний танец брать.
И мы свои танцы создаем в Москве — веселые, грандиозные, полные хороводных начал. И как они теперь в Москву приезжают учиться театру, так же пусть приезжают и учиться танцовать. Не нам учиться у них, а им у нас.
Товарищи, вот это первая линия искусства. Вторая — экспрессионизм, которая действует в Германии. Это тоже чрезвычайно интересно. Германская интеллигенция до такой степени ушиблена войной, она уже до войны догадалась, что капитализм душит человечество. Но когда Вильгельм провалился, тогда она проникнулась ненавистью и презрением к своей буржуазии. Она превратилась в какую–то кровоточивую рану. Эти художники сплошь больные люди, оскорбленные в своем патриотизме и в своем человеческом достоинстве, и все их искусство — вопль и протест против буржуазии.
Может быть, это есть наши друзья? Мы против буржуазии и они против буржуазии. Кто является врагом нашего врага, тот наш друг? К сожалению, нет. Они коммунистов во всех случаях боятся, как огня. У них каждый пророк, каждый несет свою истину, своего бога. Они боятся организации, они рассматривают коммунистов, как казарму. «Дисциплина» — от одного этого слова у них поджилки трясутся. Поэтому у них никакого выхода нет. Они ругают буржуазию, но в чем выход, — они этого не знают. И поэтому они создали целую школу художества и так же считают не нужным, чтобы был смысл в картине, в драматическом произведении, в танце, — нужно, чтобы была тоска, жалоба. Мы, говорят, не умеем и не хотим петь, мы вопием. Но как вопль не членораздельный, так и картина: это есть какой–то бред, это какая–то беспрестанная жалоба, это какой–то сплошной стон в красках, в линиях, в музыке и в них очень много тоски, они очень сильно действуют, но ничему не могут научить.
Они говорят: мы изверились в действительности, мы оттолкнулись от нашей развращенной республики и сменившей солдатский режим Вильгельма. Мы, говорят, не хотим пользоваться природой и ее образами, мы все из себя должны создавать. Поэтому у них все безОбразно и вследствие этого безобрАзно, они отчаялись, ушли в мистику, внутрь себя и сделались ошалелыми чудаками. Они не хотят бороться с действительностью, они запуганы, они прячутся от нее, они не знают, что с ней делать. Прячутся, выпуская из себя целые облака всяких неубедительных фантазий. Это вторая линия искусства западно–европейского.
Наконец, там есть коммунистическое искусство. Оно выдвинуло несколько крупнейших художников. Они тоже ненавидят германскую буржуазию, но они коммунисты и в их произведениях преобладает черная меланхолия, ибо они не победители, а побежденные, они пишут снизу, из подполья. Оценивают общество, исполненные злобы и негодования. Они так широко толкуют злобу, что в их картинах мир является каким–то скопищем идиотов, преступников. Это тяжелая кошмарная каррикатура на мир. Я почти ни в одном произведении не видел ничего светлого. Лучшее, что у них можно найти, это жалость к какому–нибудь искалеченному инвалиду, девушке–матери, которая идет топиться со своим ребенком, но светлых победных трудовых моментов борьбы я не видел. Это показывает, что эти интеллигенты коммунисты, которые творят известную долю европейского искусства, так ошеломлены тем, что происходит вокруг них, что чувствуют себя не твердо стоящими на ногах.
Вот те картины, которые мы имеем в Западной Европе. Но мы ни на одну минуту не говорим, что не хотим учиться, так как мы знаем, что там идет великолепная работа в области научной, работа добротная, без которой мы идти вперед не можем. Мы не скажем: «не хочу ехать на локомобиле, давайте что–нибудь пролетарское, а до тех пор буду сидеть на месте». Мы берем буржуазную культуру, но без уродства и фальсификации.
Что можно сказать кратко о нашей культуре, о ее смысле.
В течение довольно долгого времени у России была так называемая своя культура. До Петра Великого культура была смесью византийского и восточно–азиатского влияний и кое–что шло из местных источников. Петр Великий, как представитель самодержавной страны, понявший, что, не европеизировав армию, а стало быть и промышленность и пути сообщения, нельзя сопротивляться европейским врагам. Он стал европеизировать нашу страну. После этого в нашей интеллигенции, т.–е. в той части интеллигенции, которая была тогда великомыслящей, шел спор о том: заимствовал ли Петр Великий культуру у Запада или она развернулась на наших собственных началах.
Одним из кульминационных пунктов была тогда великая речь, которую Достоевский произнес на открытии памятника Пушкину. Смысл речи, приблизительно, был таков: у нас в России народ довольно мягкий. Мы, начиная с Петра Великого, Ломоносова и Пушкина, чрезвычайно легко воспринимаем у Запада все, что было красивого и доброго, все это отражаем, как в зеркале, прижимаем к своему сердцу и строим как бы электрическую, из разных кусков собранную культуру. Эта мягкость, отсутствие национального эгоизма, отсутствие желания выпячивать свою национальную личность вперед обусловливают наше великое будущее, ибо мы собираем все прекрасное, где бы оно ни было найдено, и вместо того, чтобы строить из этих элементов ту косную тюрьму, которую построили европейские народы, мы мечтаем все это соединить и постепенно подходим к тому, чтобы соединить в настоящее всемирное благо. «Мы, — говорит Достоевский, — народ, преисполненный любви к народу».
Мы — народ, который берет на себя всемирную задачу, это мы когда–то скликнем все народы на братское пиршество. Вот приблизительный смысл, который Достоевский вкладывал в свою речь.
Он не догадывался, каким путем, как окажется и как выйдет так, что именно мы, народы этой самой царской России, окажемся первыми по пути к социализму, сделаемся сердцевиной Коминтерна, т.–е. интернациональной родиной всех людей, которые борются за светлое будущее: Достоевский пророчески предвидел это. Почему он и многие другие, и Толстой, и Короленко, юбилей которого мы недавно праздновали, почему они верили в какую–то особенную задушевность русского народа, — в какой–то его интернационализм, в какую–то его любовь к правде, которая выражалась в неуклюжей фразе «народ–богоносец», т.–е. народ, который имеет в себе истины христианские, разумея под этим всегда любовь, братство, хорошее отношение ко всем. Это потому, что русская интеллигенция была в течение всего времени от Карамзина и до падения режима Николая II зажата в политические тиски. Она никогда не могла приступить к общественной практике, она была политически немощна, ей были отрезаны пути к общественному творчеству, и поэтому она мечтала, она вся ушла в мечту, ей даже мешали научно говорить, она могла только публицистически выражать свое мнение, свои мысли. Наши великие мыслители выступали только как литераторы, как критики потому, что единственно дозволенным руслом была только критика и публицистика. Вот в этих художественных мечтах и вылилась вся энергия всей той части населения — сначала дворянства, потом разночинско–народнической, которая под именем интеллигенции творила историю нашей культуры до недавнего времени.
Тут есть громадный капитал гуманности, истинночеловеческих отношений, приемов того, как реалистически правдиво вскрывать неправду жизни, как звать вперед, как находить те искры огня подлинной правды, затерянной во мраке, которые освещали человеку его путь.
Это все заложено в той громадной культуре, которую создала русская интеллигенция в этот период от царя Александра I до низвержения Николая II.
Владимир Ильич любил говорить так: самый страшный наш враг — это обломовщина, и он как–то пояснял мне и др. товарищам, — Обломов не только барин, который валяется на диване и мечтает, это глубоко проникло в нас, и интеллигенты сплошь и рядом Обломовы. Нет у них рук и ног, все у них атрофировано оттого, что самодержавие не давало им работать.
И это считают, как говорил Ленин: «нашим славянским признаком». Мы покажем, — говорил Тюрин — что мы за славяне, Тюрины мы или нет.
Во время революции этот же самый народ выдвинул те стальные фаланги большевиков, которые в десять дней потрясли мир. Этот народ выдвинул нас, людей преисполненных наивысшей энергии, которую когда–либо видел мир. Мы действительно практики, мы подлинные люди действительности, мы подлинно все то, что мешало приложить нам руки к жизни, — послали к чорту и разбили вдребезги. Мы в форме диктатуры пролетариата осуществили наше право творить жизнь, в форме неограниченной власти труда.
Мы практики. Мы научились у Маркса научному анализу общества и прожектором гигантской силы светим перед собой, чтобы видеть настоящую правду; мы ни себе, ни кому другому не позволим эту правду, может быть, даже для благородных целей, исказить. И, познав правду, мы вмешиваемся в жизнь острым оружием, не останавливаясь, когда нужно, ни перед жестокостью, ни перед какой угодно трудностью. Мы действительно люди такого типа, что когда нам говорят: «Это не Россия, а Америка», мы говорим: «Ну нашли с чем сравнить: погоню за долларом какого–нибудь дяди Сама и нашу задачу, когда мы хотим мир победить и не только победить, а перековать в разумно построенное общество».
Кто такие цели ставил и кто с таким колоссальным трудом, не жалея своей крови и сил, с такой быстротой продвигался вперед по этой линии? Никто, никогда. Поэтому теперь трудно говорить о славянстве, о лени, об обломовщине и т. д.
Значит ли это, что мы, встав на путь такой железной практики, что мы, создающие практическую культуру в отличие от культуры мечтаний наших народников и утопистов, что мы порвали с культурой высоких идеалов? Так ли это? Нет, мы взяли власть не для того, чтобы самодурствовать. Мы ведем свое хозяйство не для того, чтобы наживать деньги, вся наша работа направлена к тому, чтобы не только в нашей стране, но во всем мире установить царство социализма. Мы болеем сердцем и за яванского раба, который рвет свои цепи, наложенные Голландией, мы спешим с помощью и к английским углекопам и китайским революционерам. Мы являемся «всемирными людьми», как сказал Достоевский, хотя несколько в ином смысле, чем это понимал он, потому что наш идеал так высок по сравнению с христианским, — что бы об этом попы ни говорили, — это активный, это реально жизненный идеал, это идеал всеоб’емлющей красоты.
Поэтому мы мимо старой культуры не проходим, мы говорим по–братски западным народам: «Пожалуйте сюда с вашими достижениями в области театра, музыки, живописи», потому что мы опираемся на Запад. Запад эгоистичен, он имеет чисто буржуазную культуру, практическую. А мы? Мы не только деловые люди, мы настоящие дельцы, мы люди дела, но мы вместе с тем и величайшие идеалисты, величайшие поклонники огромных над всем человечеством сияющих истин, строители будущего. Поэтому нам это все, возможно, и пригодится, и проблема наших культурных форм и заключается в том, что рядом с нашей серьезной деловой хозяйственной работой мы включаем все великие достижения наших интеллигентов культуры в наше достояние и на ней мы будем развертывать ростки нашей научной и художественной культуры, которую проявляет сам пролетариат. Мы сомкнем, мы привьем пролетарскую культуру на нашу старую культуру и обильно используем для этого все блага, которые находим на Западе.
Мы долго голодали, холодали, вши нас ели, мы умирали от эпидемий и видели вокруг себя развалины. С невероятной изумительной упругостью и быстротой в 3–4 года, которые остались позади, мы восстановили наше хозяйство до довоенного уровня. И мы уже можем с полной уверенностью теперь говорить о том, что пришла пора начинать развертывать и более тонкие формы культуры. В области народного образования мы имеем, во–первых, невероятные, как разлив весенний, запросы со стороны жаждущих знания низов и рабочих и крестьян. Мы имеем перед собою перспективы быстрого нашего всеобщего народного образования. Мы — первая страна в мире, у которой больше 70% учащихся в высших учебных заведениях, — есть представители действительно рабочих и крестьян.
И эта волна соков, глубоко идущих из 140 мил. населения, гарантирует нам великие достижения. Как бы ни плохо были оборудованы наши учебные заведения, как бы тяжело ни было положение студентов, мы все это превзойдем потому, что силы у нас большие, запас здоровья у нас огромный, размах, вызванный революцией, у нас непобедимый, и там, где у нас не хватает техники, идет наша свежесть, наша действенность. Если Владимир Ильич, не веривший в чудеса, сказал слово «чудо», когда мы взяли Перекоп, то мы эти Перекопы будем еще брать на фронте культурном. Мы видим в настоящее время целый ряд достижений. Конечно, буржуазные ученые шагнули от нас, они были связаны с буржуазией, оплачивающей их хорошо, а мы не только внесли разгром в лаборатории, по и в квартиры этих ученых, поставили их в полунищенское положение. Они нас, естественно, возненавидели за это.
Но уже во время празднования 200-летия Академии мы сумели продемонстрировать перед учеными всех стран мира, насколько мы сумели зацепить наших ученых. Это была громадная демонстрация начинающегося, безусловно, соглашения мирного договора между той частью науки, которая осталась верна нашей стране и ее советским формам, и между советским организованным пролетариатом.
Европейские ученые констатируют, что за годы голода и лишений наша наука почти во всех областях достигла таких больших достижений, сделала столько научных открытий, выводов, столько руководящих идей, что они прямо говорят, что без русской науки мы не можем итти вперед. Сейчас беспрестанно обращаются к нам за организацией разных научных форм нашего содействия.
Почему наши ученые смогли развернуть такой темп, почему мы можем сказать, что только недостаток наших издательских средств не позволяет нам еще опубликовать всего того, что лежит в письменных столах ученых, у некоторых из них есть замечательные вещи мирового значения. Откуда? Конечно, ученые сами не понимали, почему у них столько творческих идей, почему им так хочется работать. Это было потому, что вся наша атмосфера дрожала от электрического заряда революционного энтузиазма. Потому, что все умы строились иначе, потому, что всякий понимал, что все старое рассеивается как мираж, что готовятся новые смелые, умы, стряхнут старое, по новому посмотрят на вещи, сделают большие успехи.
И это окрыляло нашу науку. И когда мы начинаем о ней больше и больше заботиться, мы убеждены, что русская наука займет первое место в мире, и мы этим докажем, что революция несет с собой новую культуру.
В области искусства кратко можно сказать: теперь стало бесспорно в Европе, что мы имеем первый в мире театр.
Это признано европейцами. Это подтверждают все выставки, в которых мы выступали, — в Вене, в Париже. Их поражало, что мы в области декоративного искусства побили все мировые рекорды, взяли все первые премии. Во всех областях, кроме костюма и мебели, мы взяли первые места. Они были поражены: что такое делается? Почему эта голодная страна так развилась? А если бы они знали, как живут наши изобразительные художники, они поразились бы еще больше. Продавать картин негде. Выставки заполняются произведениями. Пишут и пишут ярко и все лучше и лучше в смысле техники, все содержательнее в смысле настроения. АХР в первый раз в мире задел огромным колесом народное внимание. Ведь в Москве и Ленинграде сотни тысяч прошли через выставку красноармейцев, рабочих, учащейся молодежи, тех элементов, которые раньше и не знали о существовании картинных выставок. Потому что художники АХР’а поняли, что надо идти навстречу народным массам и их интересам.
Повторяю, что я не краснел, когда европейские художники мне говорили: «С Востока мы ждем свет от вас». Я отвечал: «Мы слишком голы и бедны, пока немного можем показать» (я прекрасно чувствовал, что и сейчас у нас есть, что показать), но через несколько времени мы сможем очень многое показать, мы сможем показать пути, которые явились бы для вас спасительными».
А наша литература. Не зря Горький пишет одно письмо за другим: «Какая великая вещь русская литература». Это он говорит не о литературе Пушкина, не о литературе времени Достоевского, а о нашей нынешней литературе. Наша литература переполнена и пролетарскими и попутническими писателями, пережившими такую судьбу, какую раньше ни один писатель не переживал. Прочитайте хоть одну биографию кого–либо из наших писателей, вы увидите, что он и воевал, и комиссаром был, он и с голоду пропадал или погибал от цынги, он исколесил всю громадную Россию вдоль и поперек, занимался всякими ремеслами, терла и мяла его жизнь, он столько перенес, со стольким соприкасался, что вынес неимоверно много опыта. Прежде каждый человек сидел на своем месте и знал то, что по рангу полагается. Революция взяла и так встряхнула банку, что сливки и вода перемешались вместе. Все старые насиженные колеи перевернулись, и всякий прошел громадный зигзагообразный путь. И сейчас эти писатели, будь то коммунисты, будь то попутчики, будь чуждые нам идеологически, но всякий старается громадный опыт, этот целый мир новых образов, новых красок привести в согласование, в муках творчества преодолевая этот материал, чтобы написать коллективно нашу взволнованную страну, которая вся в становлении, которая не приобрела еще новых устойчивых форм, вся растет, изменяется. Поэтому наша литература так богата.
Европейцы пишут ловко, европейцы умеют заинтересовать, и мы охотно их читаем, когда хочется без головы некоторое время побыть, но когда вслед за европейским писателем берешь русского, напр., Леонова, Всеволода Иванова, или Ляшко, или Лебединского, то понимаешь, что тот человек пустяками занимается, а этот глубокой и серьезной художественной работой, хочет своим сердцем понять эту страну, чтобы облегчить и указать ей правильные пути.
В области кино у нас недавно был развал полнейший. Театры закрывались один за другим. А что теперь говорит статистика? Первое — посещаемость наших картин у нас значительно выше посещаемости европейских. Мало того, у нас сейчас наше собственное производство заняло экран на 56%. Мы уже больше чем наполовину вытеснили мировое производство, что наши картины, как «Броненосец Потемкин», как «Мать», «Ветер», «Крылья холопа», что это прекрасные вещи, мы это знаем. Но этого мало, они бьют иностранную конкуренцию на иностранных рынках. Когда я к вам ехал, получилась телеграмма из Германии: они закупили 14 негативов «Крылья холопа» и говорят — не хватает, присылайте сколько можете еще.
Я читал критическую статью в «Берлинер Тагеблатт», которая пишет: «Русские проявили здесь свое обычное высокое мастерство».
Откуда оно у нас? Немецкая кинематография предлагает нам союз и оговаривает его так: «Американцы нас заедали и вас заедают своими бессмысленными фельетонами, но у нас нет выбора, нет острого разнообразия сюжетов, не можем мы каждую неделю нового режиссера давать». А у нас? Вот ведь Пудовкина недавно никто не знал. А теперь Пудовкин — совсем молодой человек будет иметь мировой успех. Потому что наша земля свежа, потому что прет отовсюду, не одни буржуазные сынки, а поднимаются со всех сторон, отбираются талантливейшие люди.
Все помнят, что сказал Владимир Ильич: «Кино самое полезное из искусств». Мы, конечно, еще очень слабы, в этом отношении деревню едва всколыхнули, много еще бессмысленной иностранщины, наши товарищи в области кино очень часто делают глупости, и денег у нас еще не хватает, хотя мы уже имеем миллионные обороты. Мы вырастаем в один из мировых производителей кинематографии. То ли еще будет!
Выросли уже, да, растем прямо как 3-недельный богатырь, как на дрожжах растем.
И почему нам не уважать европейскую культуру. Надо понимать, что она находится в процессе вырождения. Мы хотим высвободить подлинную культуру, честных ученых и честных художников, а прежде всего, пролетариат Европы мы хотим высвободить из–под дряхлой буржуазии, которая в области науки и искусства создает фальсификацию, лжет, замусоливает человеческую жизнь. Может быть они еще сильнее нас? Говорят, — дряхлый старик сильнее подрастающего отрока. Но это недолго: им приближаться к могиле, а нам расти. Они — это прошлое, которое уходит, мы — будущее, которое возникает.
И поэтому повторяю: когда мне в Западной Европе иногда знаменитые люди говорили, что нам приходится, главным образом, на вас надеяться, у нас идет на убыль, у нас еще много богатств, но мы не знаем, куда идти, и мы еще так на слово вам поверить не можем, нам нужно еще убедиться в том, что у вас делается какое–нибудь дело, — я вовсе не чувствовал себя сконфуженным и не считал необходимым сказать «сколько посуды набили, а как мало новой сделали».
Я знал прекрасно, что действительно мы растем на правильных началах. Я так говорил, что может быть сегодня мы доказать не можем, но завтра докажем наверное.
Когда меня пригласило общество ученых в Германии на банкет, где разная публика говорила дипломатические речи, я им так сказал: «Пока вам бояться нас нечего, мы вовсе не хотим повторять опыт прощупывания штыком наших соседей, насколько они склонны к революции, никакого нашествия мы делать не будем. А вы со своей стороны тоже воздержитесь от всякой интервенции, дайте нам возможность произвести наш эксперимент, наш опыт, дайте нам спокойно на нашей низкой технической культурной ступени построить социалистический строй. Очень скоро вы убедитесь, что это возможно, и тогда мы надеемся, что не только пролетариат, но и все честные люди отойдут от ваших насильников, от тех, кто эксплоатирует культуру, пойдут по нашей дороге».
Я был очень поражен, когда все эти седовласые ученые очень внимательно прислушивались к моим словам и, вероятно, думали: «А чорт знает — поколотили нас на первых путях, может быть действительно эта молодая страна нам поможет убрать наших насильников». Да, мы им себя покажем!
Позвольте мою речь закончить так. В план нашего социалистического строительства входит и строительство нашей собственной культуры, базирующейся на великих традициях здоровой европейской культуры и на великих традициях культуры нашей интеллигенции. И на этих началах и глубинах, в связи со всем строительством, мы разовьем высокий культурный уровень. Та и другая работа, непрерывно связанная в одно, которое может быть в общем названо социалистическим строительством, является не только построением наших собственных судеб, но и самой могучей пропагандой в мировом масштабе строительства социализма и на известной стадии своих достижений не только заставит рабочих и крестьян всего мира повернуть к нам, узнать правильность нашего пути и пойти вслед за нами, но и честных ученых и художников, тех, которым дорога культура, когда–то создававшаяся буржуазией, но потом покинутая, заплеванная и сфальсифицированная, они тоже придут за спасением к нам. И когда один седовласый германский ученый сказал: «с Востока свет», — я думаю он сказал правду. Вышло, что и на этот раз солнце восходит с Востока, заливает своими лучами нашу красную Москву, красное сердце нашего Союза и другие города, в одну из первых очередей и ваш, а потом постепенно, разгоняя мрак буржуазной осени, проникает своими золотыми лучами на Запад, неся с собой новый великий, еще небывалый расцвет общечеловеческой культуры.